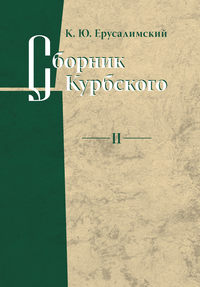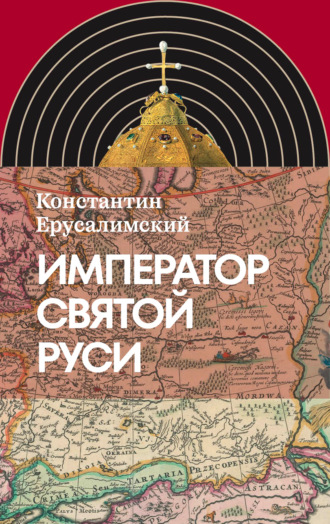
Полная версия
Император Святой Руси
Этот ход нашей мысли упирается в потусторонность самой идеологии. Ирония позволяет наметить выходы из принятых значений, и само направление выхода выявляет либо уже известные пути, компенсированные или узурпированные идеологией, либо новые решения, которые не находят отзвука в других поступках и высказываниях современников.
Идеологии состоят (хотя и не сводятся к ним) из идеологем, разработанных и применимых в разной мере и для несходных целей. Нет единой области, где идеология была бы актуальна. В идеологическом знании присутствует элемент паразитарности. Не чувствуя поддержки среди подвластных, к идеологемам прибегает власть, чтобы навязать мотивацию или нивелировать воздействие конкурирующей идеологии. Проявление идеологического всякий раз может восприниматься как более или менее удачная находка, задача которой состоит в консолидации разобщившихся людей, снятии напряжения или подавлении сопротивления. Идеологемы позволяют составлять такие решения – формальные и клишированные, – не думая о последствиях или опережая более рациональные выходы. Говоря об идеологемах как продуктах и в каком-то смысле – источниках идеологий, мы не должны, как кажется, забывать, что идеологические объекты не внеположны по отношению к их адептам, а наоборот, идеологемы нередко являются основанием субъективности. Будучи мыслительными объектами и речевыми конструкциями, они настолько глубоко пропитывают идентификации людей и сообществ, что точнее было бы говорить об идеологиях как о субъективирующих объектах или даже об идеологическом субъекте, который рефлексивен, ценностно ориентирован, нередко социально валентен и весьма активен. Носитель идеологии не относится к своему знанию как к порождению ученых голов, случайному продукту политических дебатов или временной таблетке, приняв которую можно сразу про нее забыть41.
Идеологии тем и отличаются от научных гипотез, фантастических «тварей», мыслительных этюдов и утопий, что они – живая плоть субъективности. Они призваны создавать плотные ощущения причастности. Как отмечает Клиффорд Гирц, идеология не обязана быть научной, хотя и может контролироваться, в том числе корректироваться, разоблачаться и отменяться наукой, а причастность к идеологии необязательно мешает научному взгляду на предмет причастности, находясь в иной плоскости по отношению к науке и, в некоторых случаях, с ней взаимодействуя. Идеология отвечает каким-то чаяниям, она необходима как инструмент социальной солидарности. В этом направлении предвзятые исследователи, продолжает свою мысль К. Гирц, обычно говорят о двух ее функциях, получивших осмысление в теориях интереса и снятия. В первом случае, когда идеологию используют для наживы, речь должна идти, разумеется, о ложной идеологии, поскольку она получает социальную поддержку, не будучи ориентирована на ту группу, причастность к которой декларирует. Во втором случае возможны четыре вариации – катарсис, моральный пример, солидаризм и адвокатство. Все это возможные результаты действия идеологии, но они лишь маркируют следствия ее действия и никак не поднимают проблему самого символического механизма, скрытого за идеологическим действием. Таков и главный упрек К. Гирца ко многим своим предшественникам: они строят теорию идеологии, перескакивая от источника к последствиям и не обращаясь к устройству идеологического как такового. Отсюда следует дальнейшее рассуждение о том, что идеология необходима как способ консолидации, даже тогда, когда она строится на разрушительных лозунгах.
Воспользуемся лишь одним примером из эссе К. Гирца, показывающим, как одна идеологическая программа может на разных стадиях в целом одного процесса сыграть противоположные роли – консолидирующую и разрушительную, одновременно мутируя по своей «сути». Джавахарлал Неру и Махатма Ганди отражают два несходных представления об Индии. Первый из них отстаивал революционный эпохализм, тогда как второй – традиционалистский эссенциализм:
Но действительность такова, что первый был учеником второго, а второй был покровителем первого (и ни тому, ни другому не удалось убедить всех индийцев в том, что один из них не был англичанином с коричневым цветом кожи, а другой – средневековым реакционером), и этот факт показывает, что соотношение между двумя путями к национальному самосознанию весьма тонко и парадоксально42.
Этот и ряд других примеров показывают, как различными средствами, и в том числе с помощью несходных идеологических программ, достигается одна цель – создание управляющего класса. Идеология придает радикальным и нередко разрушительным чаяниям культурные формы, перестраивает смыслы для системы, укорененной не в чем-то научаемом и моделируемом для чего-то, а в уже сложившиеся модели чего-то:
Образы, метафоры и риторические фигуры, из которых выстраиваются националистические идеологии, являются, по существу, инструментами, культурными инструментами, созданными для того, чтобы ясно выразить ту или иную сторону широкого процесса изменения коллективной самоидентификации, чтобы придать эссенциалистской гордости или эпохалистским надеждам определенные символические формы, с помощью которых то, что более чем смутно ощущалось, могло быть описано, развито, прославлено и использовано43.
Идеология – лишь означивание самоидентификации, но из этого неумолимо следует, что она материализует коллективное сознание, наделяет его той ясностью и направленностью, которая превращает групповые интересы в практическую силу и в конечном счете ангажирует в политику, где участие возможно не иначе как в роли идеолога. Выявив идентификацию, идеолог не открывает для социолога путей интерпретации, поскольку доктрина образуется за счет семантических смещений и конвенционального, а на практике часто обманчивого согласия относительно того, какие именно социальные идентификации за ними скрыты. Майкл Чернявский, посвятивший книгу Царю и Народу в русской культуре, под конец этой книги, где нет отдельной главы, посвященной представлениям о народе, пишет об отмене крепостного права 19 февраля 1861 г. и новом витке развития «мифа народа»:
Освобождение крестьян превратило их в социальную реальность в такой же мере, как и в мифическую. Как следствие, необходимость знать народ, чтобы определить Россию, стала более насущной, в то время как сама возможность самоидентификации в качестве русского народа стала чуть более реальной44.
Трудно было бы определить идентичность царя и народа идеологемами, учитывая их непроработанную субъектность в культуре, отсутствие устойчивых коннотаций и бурную сменяемость символических ресурсов, подкрепляющих эти идеологические формы. Тем не менее вплоть до последней трети XVII в. в «народе» играли в царя, тогда как «царь» в 1861 г. освобождал народ45.
В обоих случаях идеологический субъект не возникал, несмотря на направленность и осмысленность его упоминания. Казни 1666 г. и запрет на игру в царя были нацелены на то, чтобы совершить расправу над символическими объектами, наподобие преследования организации ЛГБТ или запрета на выражение лежачие полицейские. Миф освобожденного народа в 1861 г. требовал глобальной переоценки того, кто такой народ и почему царь освобождает народ только сейчас. В обоих случаях идеология выключает и включает субъектность. С 1666 г. в России было запрещено в игре идентифицировать себя с царем. С 1861 г. самоидентификация в качестве части русского народа милостиво разрешена манифестом об отмене крепостного права (и помещик К. Д. Левин в «Анне Карениной» говорит в пылу спора с другим прогрессивным помещиком: «Я сам народ», – и его оппонент Сергей Иванович считает, что выражает подлинные чаяния русского народа)46. Невозможно измерить, в каком из этих случаев усилия были более или менее успешны, однако сама направленность идеологического воздействия в этих случаях ярко выражена.
Одно из крупнейших достижений политической антропологии XX в. и таких ее фундаментальных книг, как «Короли-чудотворцы» Марка Блока, «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» Фернана Броделя, «Два тела короля» Эрнста Канторовича, «Царь и народ» Майкла Чернявского, «История безумия в классическую эпоху» Мишеля Фуко, заключается в том, что авторы на исторических дистанциях большой длительности рассмотрели мыслительные конструкты, возникшие из коллективного заблуждения, самообмана и в какой-то мере самовнушения. Власть прикосновением королевской длани целить золотуху, господствовать над стихиями, отделяться от физического тела и соединяться с ним, наделять харизмой народ и землю или присваивать, определять и переопределять безумие показывает во всех подобных случаях избыточность власти как таковой. На это можно было бы заметить, что избыточна сама человеческая культура и востребованность подобных избытков сродни любым другим ее проявлениям. Невозможно представить иерархию избытков и избыточности власти, однако вполне уместным представляется при этом вопрос о том, насколько избыточными представляются те или иные избыточные формы самим адептам культурного феномена. Это задача, которую решает социальная история идеологий. Для российской политической культуры в рамках того подхода, который намечен в упомянутых выше текстах по политической антропологии, остается множество неразрешимых проблем, связанных с тем, как возникают, бытуют в каждом отдельном стечении концептов и форм их восприятия, видоизменяются, преобразуются и исчезают эти идеологические «излишки».
Упрощая первичные постановки, можно было бы сформулировать общую задачу нашего исследования словами Фредерика Купера – как раскрытие отношений между государством и индивидами, с одной стороны, с точки зрения допустимых пределов инклюзии и эксклюзии индивидов в политическую жизнь, с другой – с точки зрения конвенциональных прав и обязанностей граждан перед государством и государства перед гражданами47. Не вызывает сомнений, что в Российском царстве работали, в случае потрясений отключались и перестраивались механизмы налоговых обязательств, военной службы, подчинения церковным и светским юридическим установлениям, соблюдались режимы признания и пересечения границ и т. п. В этом смысле государство в России было гораздо более модерным, чем не-модерным48. Однако если республиканские формы возникали, то необходимо задаться менее очевидным вопросом, кто и с кем объединялся для какого общего дела? Как соотносились эти формы с монархическими тенденциями, властными дискурсами и излишками власти? Как выше уже говорилось, власть не может быть осмыслена иначе как символический излишек. Поскольку исследователи обнаруживают в России XV–XVIII вв. излишки власти в различных сферах ментальной жизни, где и намечаются функциональные идеологии, было бы полезно из перспективы предложенной нами социальной истории идеологий обратиться к изучению того, как учения или отдельные высказывания об общем деле сочетались с данными идеологиями и находили или не находили с ними общий язык.
***Выше в этом обзоре мы уже назвали имена мыслителей, которые будут попадать в оптику данного исследования. Это не значит, что оно посвящено их идеям, взглядам, мировоззрению. Источники дискурсов для нас будут представлять интерес не в первую, хотя и не в последнюю очередь. Поиск и анализ направлен на выявление тех категорий мышления, которые сформированы или развиты в Московском царстве на всем протяжении его существования с конца XV и до начала XVIII в. Полнота и репрезентативность источников в рамках проблематики этого исследования ограничивается возможностями комплексного анализа, с учетом сложившихся научных знаний об эпохе, ее дискурсах, текстах и артефактах. В поле зрения попадают четыре культурных явления, связанные между собой не так тесно, как было бы уместно в доктринальном или охватном исследовании. Вместе с тем данные явления не представляют собой разрозненных идейных конструкций, которые никак не связаны между собой. Наоборот, в конце работы мы зададимся вопросом о том, как они между собой связаны.
Первая глава посвящена категориям народ, земля, чины, Русская земля, Святая Русь. Эти категории не образуют привычной для модерного сознания связки, хотя попытки их связать неизменно повторяются, доказывая нам неизбежность наших же ожиданий. Вопросы не ограничиваются причинами рассогласованности. Это лишь предпосылка для дальнейших вопросов. Достаточно увидеть источники, чтобы осознать, что никакой один народ не населяет землю, Русская земля не населена русским народом, да и другие народы «своих» земель не имеют. Народ русь и земля Русь с трудом различимы, но в том и другом случае категория земля либо не охватывает всех русских земель, либо – в более поздний период – перестает быть самоназванием политического сообщества. В англоязычных исследованиях возможность говорить о Rus’ people как бы напрашивается. Если такой народ был, то почему в источниках о нем ничего не говорится? И почему словом народ названы там совсем другие культурные явления, причем многочисленные и разнообразные, но никогда не образующие русского народа? Этот вопрос был бы уместен не только в конструктивистской концепции культуры, поскольку открытие антропологического народа русь или русских является решаемой задачей, только если смотреть на предмет с высоты XVIII века. Что мы приобретаем и что утрачиваем, когда настраиваем таким образом наш инструментарий? Где таился русский народ многие столетия, прежде чем появиться в прозрениях ученых этнографов, демографов, историков-географов, иной раз весьма академичных, передовых исследователей своего времени? И почему ни земля, ни народ, ни Русь так и не обрели до определенного момента святость, несмотря на многие столетия распространения православия и в целом неплохую сохранность текстов и дискурсов разного типа в древнерусских и модерных источниках?
Во второй главе основное внимание уделено категориям царство и империя, прочно увязанным с эпохой Московской Руси. Здесь также проработаны и осмыслены не все очевидности, и это заставит нас подвергнуть тщательной проверке ключевые интерпретации. Прежде всего, в чем разница между великим княжением, царством и империей, почему переход от первого ко второму и третьему был осмыслен в России как качественное движение? За этим вопросом кроется еще более сложный – почему высшую власть в Русском государстве многие десятилетия не смущало использование великокняжеского титула, несмотря на то что все эти годы ряд иноземных государей и многие подданные обращались к великому князю как к царю? Произошло ли два качественных перехода – от великокняжеской власти к царской и от царской к имперской? Хорошо изучены сами моменты этого «обращения» или «превращения», и они заслуживают того, чтобы перестроить объектив из понятийного аппарата культурно-политической истории в терминологию интеллектуальной истории. Имперская власть в России должна быть осмыслена на фоне той предыстории, которая и была главной легитимацией первого из упомянутых переходов. В российском прошлом появился первый царь – родственник или прямо-таки брат Цезаря Октавиана Августа по имени Прус. С ним и были связаны инсигнии, легенды о выходе власти и происхождении из Немец самих русских царей, и, возвращаясь к проблематике первой главы этой книги, русскими цари себя не считали, а были, в утвердившемся понимании, потомками императоров-немцев. Значит ли это, что Московское царство представляло собой Немецкую империю потомков римского царя? И что случилось, когда историки доказали, что никакого Пруса в русском прошлом не было? Как это открытие повлияло на имперскую доктрину Российской империи?
Приведенный в третьей главе очерк идеологемы Третьего Рима призван наметить степень нашего отдаления во времени и в используемых «словах власти» от эпохи, когда возникали подобные мыслительные конструкции. В отличие от Святой Руси (впрочем, в данном вопросе также возможны точные решения) и по аналогии с Царством и Империей идеологема Третьего Рима может быть точно «авторизирована», датирована и локализована. Однако в ее ранних версиях контекст настолько далек от привычной позднее темы оптимистического имперского строительства, что впору задаться вопросом: каковы первоначальные подтексты этой идеологемы и всего комплекса идей, в котором «варится» доктрина России или Москвы как Третьего Рима? Почему при этом упоминается вообще и насколько значимо чтение знамений и использование астрологии? Кому в этот период нужно было применять запретные науки, для чего и какова связь этих наук с идеологемой Третьего Рима? Развертывание этой аналитической программы позволит задуматься, как и почему эти компоненты из идеологемы были устранены, как Третий Рим сросся с рядом других идеологем и во что обратился (опять же: «превратился») в модерную эпоху и в наши дни.
Наконец, последняя глава призвана ответить на вопрос, который из области вероятных решений переносит нас в круг маловероятных и невероятных значений, не менее важных для поиска граней в мыслительных эпохах и формах дискурса. Если есть целый ряд идеологем, ощутимых и многократно встречающихся в текстах, дискурсах и практиках Московской Руси, то почему нет идеологем, которые напрашиваются или современны Московской Руси и не могли быть при этом в ней неизвестны? Обок Российского царства возникло, а до этого существовало негласно много лет в сходных формах государство, по самоназванию представляющее прямую альтернативу царству, – Речь Посполитая. В переводе с польского и русского языков Короны Польской и Великого княжества Литовского Речь Посполитая и Rzecz Pospolita значит республика. В Московской Руси это слово было известно, содержало немало коннотаций, свидетельствующих о знакомстве с политическими формами, которые им подразумевались. Возникали практики применения и самих слов «республиканского круга», и как таковых общих дел, однако можно ли говорить о том, что Республика была одной из идеологем Московской Руси?
Преобразование идейных конструкций выше не раз обозначено нами при помощи понятий, характеризующих моментальное и как бы нерукотворное действие. Было бы слишком смелым решением устанавливать точные хронологические рубежи и авторские воли в создании концептов, но все же движение за пределы привычных периодизаций истории (до и после Ивана III, до и после Ивана Грозного, Смутное время, Первые Романовы, Реформы Петра I) создает дополнительные проблемы для интерпретаций, но позволяет находить решения и новые вопросы, ответы на которые не всегда получены, но само движение к ним заставляет вовлекать пласты интерпретаций, ранее потонувшие в залежах не соотнесенных между собой исторических фактов. В этой книге много дискуссионных построений, но и дискуссии при их создании касаются интерпретаций, нередко кажущихся слишком очевидными и простыми, чтобы их хоть кто-то полновесно изучал.
Чтобы облегчить читателю чтение, оговоримся о ряде «родимых пятен» книжной культуры Московского царства, которые могут вызвать недоумение или даже непонимание. С конца XV в. и до 1700 г. в России год начинался 1 сентября и исчислялся от Сотворения мира, сотворенного, согласно византийским расчетам, 1 сентября 5509 г. до Рождества Христова, по юлианскому календарю, который с 1582 г. на 10 дней, а с 1700 г. на 11 дней «отставал» от григорианского календаря. Книжная графика включала ряд букв, упраздненных из нецерковного обращения в правление Петра I, а в нашем случае при цитировании, как правило, сокращаемых до их современного нам фонетического аналога, кроме концевой «ъ» до конца XV в. и буквы «ѣ» на всем протяжении изучаемого периода. Не углубляясь в лингвистические тонкости (автор этой книги лингвистом и не является), концевая «ъ» имела в Древней Руси фонетическое значение полугласного (неполный звук о), тогда как «ѣ» читалась в зависимости от диалектов, но в высокой книжности и в московской культуре приобрела фонетическое значение е. Имена и местности упоминаются у нас в их упрощенной, редуцированной и наиболее принятой в науке форме, хотя в допечатную эпоху у некоторых имен и названий бывало множество вариантов написания.
Наконец, казалось бы, последняя соломинка в устойчивости наших суждений о мире – это стабильность текста, возможность процитировать источник. Этой соломинки в обращении с текстами рукописной эпохи нам не дано. Всякая цитата является научной конвенцией, условностью наших знаний о происхождении копий каждого текста, их изученности и качестве их публикаций. Все критические публикации текстов нуждаются в существенном для нашей работы уточнении того, как раскрывались в научные эпохи вплоть до наших дней nomina sacra. Например, слово «гсдрь» и однокоренные в текстах, возникших до начала XVII в., мы передаем как «господарь», а приблизительно с 1613 г. – как «государь», хотя этот принцип невозможно провести последовательно для текстов до начала XVII в., сохранившихся в копиях XVII–XX вв. Слово «хрстианский» и однокоренные мы стараемся раскрывать в цитатах как «хрестианский», а не «христианский», хотя принципиальным вопрос о его написании стал лишь в середине XVII в.
Расстановка знаков препинания для всех текстов, включая печатную эпоху, нередко зависит от прочтения и понимания текста. Применительно к рукописным копиям пунктуация вообще никак не обязывает. Разве что – за исключением сочинений князя Андрея Курбского, который был настолько учен, что разработал свои принципы русской пунктуации. Но мы и такой пунктуации не придерживаемся, поэтому и в его текстах разделение на абзацы, предложения и периоды внутри предложений, а также знаки препинания всегда привнесены.
В основу всех исследований, приведенных в этой книге, положены ранее опубликованные наши статьи и полемические заметки. Учтенные в ходе предыдущих дискуссий замечания и уточнения приняты нами в ряде случаев без специальных указаний на расхождения с нашими же предыдущими точками зрения. Во всех подобных случаях научный аппарат обновлен с указанием более поздних исследований.
Благодарности
Книга выросла из многочисленных дискуссий 2000 – начала 2020‑х гг., в которых невозможно припомнить все контакты и ценные советы. Многие из них звучат прямо в соответствующих местах этой книги, не всегда добрыми словами, нередко в непосредственных ссылках на научные труды.
Хотелось бы вспомнить всегда критичных в отношении всех представленных в этой книге материй моих учителей – научного руководителя С. О. Шмидта и руководителя научного семинара С. М. Каштанова. Особая благодарность Кружку источниковедения и Научному семинару под их руководством в моей alma mater Российском государственном гуманитарном университете. Ряд сюжетов отсюда обсуждались уже в мою бытность постоянным участником тех научных праздников.
Благодарю также участников научных семинаров под руководством М. В. Дмитриева (ВШЭ) и О. В. Хавановой (Институт славяноведения РАН). Бесценны научные заседания альманахов «Одиссей» (ИВИ РАН), «Казус» (ИВИ РАН), «Адам и Ева» (ИВИ РАН). Многие услышанные там соображения и подсказки сформировали мою повестку на многие годы исследований и дискуссий.
Немало помогли подсказками и замечаниями коллеги Е. В. Акельев, Томаш Амброзяк, О. В. Ауров, Т. А. Базарова, Д. Д. Беляев, Лилия Бережная, Андрей Бовгиря, М. Н. Бутырский, Татьяна Вилкул, Т. В. Гимон, Иероним Граля, И. Н. Данилевский, А. В. Доронин, Валерий Зема, Корнелия Зольдат, А. В. Каравашкин, Катерина Кириченко, М. А. Киселев, В. Н. Козляков, О. Е. Кошелева, К. А. Левинсон, П. В. Лукин, А. А. Малыгина, А. В. Марей, Рассел Мартин, М. С. Неклюдова, З. Е. Оборнева, Т. А. Опарина, К. А. Осповат, О. А. Остапчук, М. Б. Плюханова, С. В. Полехов, Д. Г. Полонский, П. И. Прудовский, Н. В. Ростиславлева, А. Ю. Серегина, А. В. Сиренов, К. А. Соловьев, Наталия Старченко, П. С. Стефанович, Л. Б. Сукина, Т. Г. Таирова-Яковлева, С. Ю. Темчин, А. В. Топычканов, Д. Я. Травин, Василь Ульяновский, Ф. Б. Успенский, Л. Б. Усыскин, В. Г. Ченцова, О. В. Чумичева, С. Ю. Шокарев, С. Е. Эрлих, А. Л. Юрганов.
От души благодарю все древлехранилища, рукописные отделы и хранилища старой печати и их самоотверженных сотрудников, все эти годы работающих не покладая рук, помогающих, иронизирующих и в нужный момент охлаждающих творческий пыл.
Книга не была бы возможна в нынешнем виде без всемерной поддержки моих коллег по Центру Res Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге – слова особой признательности О. В. Хархордину, В. Л. Каплуну, Н. Д. Потаповой и В. В. Истратий. Отдельно благодарю М. М. Крома за меткую и полезную критику. И спасибо всем участникам профессорского семинара Европейского университета. Магистрантам и ныне магистрам философской программы Res Publica Европейского университета 2022–2024 гг. не меньшее спасибо за критическое внимание к моим идеям. Свежий взгляд постоянно держал меня в тонусе, и я постарался использовать многие ценные вопросы и комментарии своих слушателей для улучшения работы.