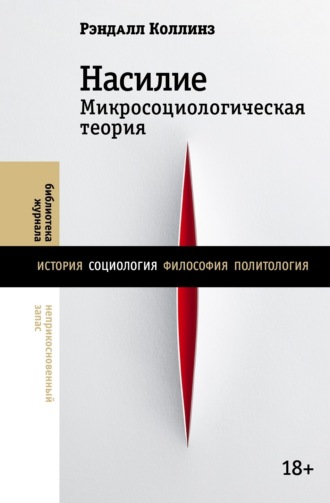
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
Итак, перечисленные главы посвящены тем видам насилия, которые при непосредственном наблюдении выглядят уродливо и вызывают моральное презрение. Во второй части книги пойдет речь об ином наборе траекторий, позволяющих обходить конфронтационную напряженность/страх. Здесь насилие оказывается чем-то благородным, доставляющим счастье, бьющим ключом – или по меньшей мере находится в некой промежуточной зоне, где оно получает оправдание со стороны общества и скрыто поощряется. В главе 6 будут рассмотрены поединки, которые намеренно инсценируются для публики; благодаря тем же самым особенностям, которые делают такие поединки обставленными ограничениями и защитными механизмами, их участники, как правило, восходят в круг почтенной элиты. Но даже здесь конфронтационная напряженность/страх никуда не деваются, придавая насилию форму, напоминающую возвращение вытесненного в психоанализе.
В главе 7 рассматриваются различные способы, при помощи которых к насилию могут приводить такие радостные случаи, как различные празднования, кутежи и развлечения. Здесь же мы рассмотрим, как некоторые виды насилия, не связанные с радостью, такие как массовые беспорядки, могут приобретать разгульный оттенок.
В главе 8 объясняется, каким образом структура спортивных состязаний как драматического псевдонасилия в предсказуемые моменты порождает реальное насилие, совершаемое участниками соревнований и болельщиками. Кроме того, будут рассмотрены условия, при которых насилие со стороны болельщиков выплескивается за пределы спортивных арен и даже перестает от них зависеть. В таких случаях «команда В» (фанаты) заявляет о себе в качестве равной или даже превосходящей по статусу «команду А» (собственно спортсмены) в эмоциональном драматизме спортивного действа.
В главе 9 рассматривается вопрос о том, как начинаются – или не начинаются – насильственные столкновения. Здесь мы сосредоточимся на микродинамике бахвальства и блефа, изучив, каким образом они могут быть институционализированы в качестве предпочтительного стиля в кодексе поведения на улицах неблагополучных районов.
Главы 10 и 11 посвящены тому, как определяются победители и проигравшие в насильственных столкновениях в процессе установления доминирования в микроситуациях. Успех в совершении насилия представляет собой стратификацию эмоционального поля, аналогичную тому «закону малых чисел», который формирует творческую активность в интеллектуальной и художественной сферах – и в том и в другом случае перед нами разные варианты захвата эмоционального доминирования над ограниченными нишами в пространстве внимания. Лица, которые становятся элитой насилия – термин «элита», разумеется, употребляется здесь в структурном смысле, а ее представители способны вызывать к себе как моральное презрение, так и обожание, – достигают эмоционального доминирования за счет всех остальных присутствующих в данном поле. Они эмоционально паразитируют на своих жертвах, черпая собственный успех из того же самого процесса, который приносит поражение их противникам, и овладевают эмоциональной энергией менее значимых участников своей группы поддержки и зрителей.
В социологическом смысле в этом обстоятельстве как минимум нет худа без добра. Для насилия, которое по самой своей природе является порождением того или иного эмоционального поля, характерны очень сильные структурные ограничения. Те же самые особенности, благодаря которым немногие люди успешно совершают насилие, заставляют остальных придерживаться ненасилия. Впрочем, какие конструктивные выводы на будущее можно сделать из этой модели, еще предстоит выяснить.
Взаимодополняемость микро- и макротеорий
Поскольку мы, социальные ученые, склонны вести полемику и действовать так, будто наш собственный теоретический подход является единственно верным, я хотел бы во всеуслышание заявить, что социология не сводится к микросоциологической теории. Исследовательские успехи были достигнуты и в изучении крупномасштабных структур – сетей, рынков, организаций, государств и их взаимодействия на мировой арене – без обращения к микродеталям. Социологи уже накопили ряд ценных теорий, описывающих эти структуры среднего и крупного масштаба, и не мне предлагать коллегам отбросить их в сторону, чтобы сосредоточиться только на ситуациях взаимодействия лицом к лицу. В данном случае перед нами стоит проблема не онтологического – что реально, а что нет? – а прагматического характера: какие теории работают, а какие – нет? В конкретной области исследований насилия, возможно, в большей степени, чем в любой другой сфере, сложилось неверное понимание самой базовой модели микровзаимодействия. Социологами делалось допущение, что отдельно взятые люди совершают насилие с легкостью, поэтому микроуровень пропускается как беспроблемный, чтобы обратиться к фоновым условиям на среднем уровне анализа либо к макроуровню организаций или доминирующей культуре.
В результате возникает прагматическая ошибка. Совершать насилие – непросто, а ключевые камни преткновения и поворотные моменты в данном случае располагаются именно на микроуровне. Это не означает, что никаких условий мезо- и макроуровней не существует или что их невозможно с пользой интегрировать в более масштабную теорию, как только мы придем к правильному пониманию микромеханизмов.
Возможно, многие читатели этой книги будут поражены, насколько она сконцентрирована на микроуровне. За рамками нашего рассмотрения останутся предшествующие мотивы насилия, его фоновые условия и долгосрочные последствия. Кроме того, читатель не найдет описания механизмов порождения насилия более социальными структурами, более масштабными (например, военными или политическими), чем непосредственная ситуация. Да, все это в книге действительно отсутствует. Но для того, чтобы подробно сосредоточиться на микродинамике насилия, необходимо отставить в сторону все остальное. Однако эта книга представляет собой лишь первый том из двух намеченных – охват материала во втором томе будет шире именно за счет того, что осталось за кадром здесь27. В последующем мы обратимся к рассмотрению имеющихся у нас знаний об институционализированном насилии, а точнее, о тех элементах, которые повторяются, структурируются и тем самым складываются в организации среднего и крупного масштаба, обеспечивающие регулярный приток ресурсов для «специалистов» по насилию. Во втором томе будут рассмотрены такие темы, как войны и геополитика, а также пытки и многочисленные контексты и разновидности изнасилований.
Такое расширение темы насилия позволяет преодолеть несколько концептуальных и эмпирических рубежей. Обращение к крупномасштабным и долговременным структурам производства насилия граничит с общей теорией конфликта – темой более широкой, поскольку конфликт зачастую не сопровождается насилием. Связь между двумя этими темами обнаруживается в процессах эскалации и контрэскалации, которые необходимо расширить, добавив к ним имеющую ключевое значение, но не столь часто принимаемую во внимание теорию деэскалации. Основной акцент во втором томе будет сделан на конфликте как процессе, разрастающемся и затухающем во времени, который может быть как насильственным, так и ненасильственным. В связи с этим будет предпринята попытка очертить определенные временны́е закономерности: когда и как конфликт возникает в одни моменты и не возникает в другие. В результате темпоральный процесс предстанет ключевой характеристикой насилия как такового, помимо других способствующих ему условий. Возникновение насильственных событий зависит от их временны́х параметров в соотношении с другими подобными событиями, а также от внутреннего временно́го потока в рамках микроинцидентов. Все это может способствовать дальнейшему движению к пониманию насилия как относительно редкого события, не детерминированного фоновыми условиями.
Правильное соотношение микро- и макросоциологического подходов заключается не в том, что один должен сводиться к другому, а в координации двух этих уровней исследования там, где это приводит к какому-либо полезному результату. Насилие является одной из сфер, где это чрезвычайно важно. Несмотря на смену масштабов, оба тома будет связывать единая нить – а именно теория процессов взаимодействия в эмоциональных полях, которая в настоящей книге применяется к микрофрагментам времени и пространства, а в ее продолжении будет использована на более масштабном материале.
В дальнейшем изложении местоимения мужского рода «он», «его» и «ему» будут намеренно использоваться для обозначения именно мужчин. В насильственных ситуациях мужчины и женщины в ряде моментов ведут себя схоже, однако общепринятая ныне формулировка «он или она», замещающая общий род, при рассмотрении нашей темы способна основательно сбить с толку. Насилие, совершаемое между женщинами и между мужчинами и женщинами, будет рассматриваться по отдельности и без двучтений.
Часть I
Грязные секреты насилия
Глава 2
Конфронтационная напряженность и неумелое насилие
Для начала – эпизод из этнографических заметок автора:
Сомервиль, Массачусетс (рабочий район Бостона), октябрь 1994 года, около 23:30, будний день. Проходя по улице, я замечаю, как в квартале коммерческой застройки у обочины перед складом/офисом останавливается машина пепельного цвета. Из нее выходит молодой белый парень лет за двадцать в короткой куртке и хлопает дверью. Я иду дальше. Неподалеку на этой же улице стоит еще один молодой белый парень (я вижу его на противоположном тротуаре, с правой стороны, когда оглядываюсь, чтобы посмотреть, что происходит сзади). Он начинает вытаскивать бутылки из мусора, стоящего на улице до утра, пока его не заберут, и разбивать их о тротуар. Он разгневанно ходит туда-сюда, затем замечает первого парня на другой стороне улицы, примерно в 40 ярдах от него. Пронзительно кричит: «Джоуи! [непристойные ругательства]» и дальше что-то вроде: «Я доберусь до тебя, Джоуи!» Далее он бросается на середину улицы (это довольно широкая автомобильная магистраль, но движения в это время нет), а первый парень устремляется ему навстречу с левой стороны (они явно поджидали друг друга). Одновременно сзади по улице с расстояния около 50 ярдов (кажется, по правой стороне) подбегает третий парень – товарищ Джоуи. Эти двое нападают на парня, который бил бутылки. Противники наносят в направлении друг друга несколько сильных ударов, но я не уверен, что хоть один из них попадает в цель. Парень, который бил бутылки, начинает истошно кричать: «Эй, деремся по-честному, деремся по-честному! Никаких двое на одного! Один на один!» Далее они отступают вверх по улице по направлению от того места, где я стою. Еще пару минут крики продолжаются, затихают, потом снова начинаются. Наконец я ухожу (примерно через пять минут наблюдения за происходящим с расстояния 50 ярдов; рядом со мной находился еще один прохожий – женщина, которая также наблюдала за инцидентом, но участники драки не обращали на нас внимания). Непонятно, удалось ли им вообще попасть друг в друга кулаками.
В этом эпизоде мы видим, как участники драки принимаются демонстрировать свою крутизну, гнев и воинственность – бьют бутылки, хлопают дверьми, выкрикивают непристойные ругательства. Далее они наносят друг другу пару ударов, но промахиваются. Затем очень быстро обнаруживается предлог для прекращения драки, причем похоже, что он подходит не только для стороны, находящейся в меньшинстве, но и для стороны, обладающей преимуществом. В заключительной части инцидента его участники на какое-то время устраивают гневную перепалку.
Храбрые, умелые и равные по силам?
Преобладающее мифологизированное представление о драках можно свести к формуле, предполагающей, что их участники храбры, умелы и равны по силам. В сфере развлечений и в штампах обыденного дискурса противоборствующие стороны обычно разграничиваются в моральных терминах: герои и злодеи, благородные и заслуживающие порицания – при этом плохой парень тоже является сильным и серьезным бойцом, иначе портится вся драматургия и главного героя истории не получится представить в особо выгодном свете. При планировании спортивных соревнований – развлекательных мероприятий, организованных таким образом, что их структура представляет собой отвечающий представлениям о драматизме конфликт, – обычно стоит задача свести друг с другом равных соперников. В конфронтациях, изображаемых в художественных жанрах, несопоставимость сил противников уместна лишь в том случае, если герой побеждает превосходящую силу – разумеется, в вымышленных историях добиться этого легче, чем в реальной жизни.
В реальности дело обстоит почти противоположным образом. Участники драк преимущественно опасливы и неумелы в совершении насилия, причем в особенной степени эта неумелость, как правило, проявляется именно при равенстве сил. Для большинства успешных случаев насилия характерна как раз обратная ситуация – когда сильный нападает на слабого.
Хорошей иллюстрацией данной модели является этнографический фильм «Мертвые птицы», в котором изображена война между племенами в высокогорье Новой Гвинеи [Garner 1962]1. В боевых действиях принимают участие все взрослые мужчины двух соседних племен, по несколько сотен с каждой стороны. Их встреча происходит на традиционной площадке для проведения поединков, расположенной на границе между племенными территориями. Вот что мы видим в этом фильме. На переднем крае сражения находится примерно десяток бойцов; один или двое из них вырываются вперед, чтобы выпустить стрелу в направлении противника – когда это происходит, противник подается назад. Для такого сражения характерен ритмический паттерн в виде волн, которые то устремляются вперед, то откатывают обратно, как будто под воздействием некой магнетической силы, не позволяющей даже самым смелым бойцам выходить далеко за разделяющую стороны линию. Создается впечатление, будто храбрость для нападения представляет собой силу, которая расходуется, когда кто-то проникает глубже – пусть даже на несколько ярдов – на территорию противника, а отход назад уравновешивается приливом храбрости у противника, продвигающегося вперед. При этом большинство стрел не попадают в цель, а основная часть ранений приходится на ягодицы или спины и наносится во время бегства. Похоже, что за целый день сражения ранения получают сравнительно немногие – порядка 1-2% его участников. Схватка продолжается в течение нескольких дней, пока кто-нибудь не будет убит или не получит достаточно серьезное ранение, чреватое смертью.
После того как кто-то оказывается убит, сражение прекращается, тело погибшего забирают в его деревню для погребальной церемонии, а сторона, которой удалось совершить убийство, устраивает собственное празднование. Этот промежуток времени, когда обе стороны совершают торжества, по умолчанию представляет собой перемирие: границу не нужно охранять, каждый может поучаствовать в церемонии своего племени. Существуют и дополнительные способы, позволяющие ограничить объем боевых действий: их участники охотно прекратят битву, если испортится погода или если их боевая раскраска будет смыта дождем; в ходе сражения делаются перерывы, чтобы перекусить и поговорить о своих деяниях в битве – как правило, в таких обсуждениях присутствует много похвальбы и преувеличений.
Структура подобных племенных войн идентична вендетте: обычно за время одного сражения погибает всего одна жертва, но за каждую жертву необходимо отомстить, что заблаговременно обуславливает возможность новых битв. При этом подходящей жертвой оказывается любой представитель группы противника. В фильме «Мертвые птицы» на территорию одного из племен совершает набег неприятельский отряд, убивающий на окраинном поле маленького мальчика. Полномасштабные боевые конфронтации между всеми взрослыми с каждой из сторон, как правило, завершаются вничью. Подобные боевые действия принимают облик балета, однако их участники демонстрируют полнейшую несостоятельность в убийстве неприятеля – более эффективным оказывается нападение на отрезанных от товарищей и слабых представителей племени соперника. Данная картина характерна для племенных войн в целом [Divale 1973; Keeley 1996]. Помимо полномасштабных боевых столкновений, племена также совершают набеги, пытаясь застать врасплох жителей какой-нибудь деревни, особенно когда ее воины находятся где-то в другом месте, или могут устраивать засады. Когда участники племенных войн обладают преимуществом над беззащитными противниками, последних зачастую убивают. Лоуренс Кили приводит многочисленные случаи из военной практики индейских племен Северной Америки, которые нападали на поселения как других индейцев, так и белых европейцев. Самые значительные случаи насилия происходят там, где силы противоборствующих сторон крайне неравны2.
Но если драматический образ бойцов настолько не соответствует действительности, то почему он никуда не девается? Отчасти так происходит благодаря тому, что насилие стало частью сферы развлечений (включая его спортивную версию), где умело удается инсценировать его образ, удовлетворяющий представления о драматизме. То же самое происходит и в повседневных разговорах, являющихся драматическими мини-постановками, в которых мы рассказываем истории о себе или о других людях; привлекательность разговора заключается не в полнейшей правдивости обсуждаемого, а в том, что он служит способом привлечь внимание и развлечься. Именно по этим причинам у нас, как правило, отсутствует терминологический аппарат для точного описания поединков. Когда мы говорим о драках, в которых участвовали сами, присутствует непреодолимое устремление впасть в стереотипы, изображая себя храбрым, умелым и равным по силам с крепким противником. И наоборот: в победе над боязливым и неумелым соперником – а тем более в бегстве от него – нет никакой доблести. Разумеется, существует особая разновидность риторики, когда противника оскорбительно называют трусом. Обычно ее использование означает, что нападение противника оказалось успешным, поскольку оно было неожиданным и коварным, а поединок не был честным, – либо же такая риторика оказывается духоподъемным бахвальством: мы победим, когда встретимся с ним лицом к лицу. Солдаты, которые бывали в сражениях и непосредственно сталкивались с неприятелем, в своих рассказах, как правило, признают мужество противника. В то же время враг, находящийся на более отдаленных участках боевых действий, не пользуется уважением, а солдаты, которые располагаются в тылу, и уж тем более гражданские лица в своей обычной среде выражают к врагу пренебрежение [Stouffer et al. 1949: 158–165]. На самом же деле поведение в бою, как и в случае с другими разновидностями поединков, обычно наполнено совершенным страхом – именно поэтому солдаты на передовой заодно занимаются мифотворчеством не только о себе, но и о противнике. Вот почему необходимо задействовать прямые свидетельства того, как люди ведут себя в конфликтных ситуациях, а не полагаться на то, что они об этом говорят.
Ключевая реальность: конфронтационная напряженность
В самом начале этой главы было приведено описание драки между крутыми парнями из Бостона, которая не имела особых последствий. Наиболее простая интерпретация этого инцидента заключается в том, что участников поединка охватывает страх или по меньшей мере высокая напряженность, как только конфронтация доходит до того момента, где начинается насилие. Это состояние мы будем называть напряженностью/страхом – оно представляет собой коллективный настрой взаимодействия, характерный для всех сторон насильственной стычки и задающий поведение всех ее участников несколькими типичными способами.
Данный эмоциональный паттерн обнаруживается, когда мы наблюдаем реальную картину схватки и пытаемся проанализировать невербальные выражения ее участников. Возьмем для примера пару снимков, сделанных в ходе палестино-израильского конфликта. На одном из них, опубликованном агентством Reuters в октябре 2000 года, палестинские повстанцы ведут бой с израильтянами в районе Газы – из всех присутствующих на снимке палестинцев только один стреляет из автомата, а остальные одиннадцать пытаются укрыться. На другом фото (опубликовано Associated Press/World Wide Photos в 2002 году) два палестинских боевика стреляют из автоматов в отсутствующих на снимке израильских солдат – лица и позы этих двоих выдают напряженность. И в том и в другом случае мы видим людей, оказавшихся под огнем, и некоторые из их действий можно назвать храбрыми. Тем не менее их позы и мимика демонстрируют страх и желание прижаться к земле, и даже те, кто активно ведет огонь, находятся в напряженном и неестественном состоянии. На еще одном характерном фото (опубликовано AP/World Wide Photos) изображена группа полицейского спецназа, которая осторожно приближается к месту, где находится вооруженный человек, захвативший заложников в ресторане в Беркли (Калифорния) в 1990 году. И по численности, и по вооружению спецназовцы превосходят преступника, но стоит обратить внимание на их позы – крадущиеся, медленные, осторожные, как будто они толкают свои неподатливые тела вперед исключительно усилием воли.
Наконец, обратимся к одному фотоснимку, на котором представлены выражения лиц крупным планом – несколько палестинских мальчиков во время интифады бросают камни в израильский танк (опубликовано Reuters в 2002 году). Фактически в них никто не стреляет, а их действия, по сути, являются бравадой, но все они охвачены эмоциями конфронтации. У мальчика на переднем плане снимка проявляются классические признаки страха: брови подняты и сведены вместе, по центру лба дугой проходят морщины, верхние веки подняты, а нижние напряжены, рот открыт, губы слегка натянуты [Экман, Фризен 2022: 41]. Похожее выражение лица мы видим и у мальчика, бросающего камень: храбрость – это не отсутствие страха, а способность действовать даже в состоянии страха. Остальные мальчики прижимаются к земле или пригибаются с разной степенью напряженности.
Все происходящее в ситуации столкновения определяется напряженностью/страхом: то, каким образом осуществляется насилие (то есть преимущественно неумелые действия), продолжительность столкновения и склонность избегать вступления в драку, как только она становится непосредственной угрозой, и искать способы ее прекращения либо избегать участия в ней. От того, как мы справляемся с напряженностью/страхом, зависит, когда, в какой степени и в отношении кого состоится успешное применение насилия.
Напряженность/страх и уклонение от сражения во время войны
Наиболее масштабные свидетельства о страхе и его воздействиях были получены на примере поведения солдат в бою. С. Л. Э. Маршалл [Marshall 1947], автор важнейших работ по истории боевых действий армии США в центральной части Тихого океана в 1943 году и в Европе в 1944–1945 годах3, проводивший опросы солдат сразу после боя, пришел к выводу, что в типовом случае лишь 15% военнослужащих фронтовых частей стреляли в бою из своего оружия, а в наиболее боеспособных подразделениях этот показатель достигал максимум 25%:
Когда [командир пехотного подразделения] вступает в сражение с противником, к реальным боевым действиям способны не более четверти его людей, если солдат не вынуждают к этому почти непреодолимые обстоятельства или же если все младшие командиры не будут постоянно понукать бойцов с конкретной задачей увеличить их огневую мощь. Оценка в 25% справедлива даже для хорошо обученных и обстрелянных солдат. Это означает, что остальные 75% не будут стрелять либо не станут упорно отстреливаться от противника и его действий. Эти люди способны сталкиваться лицом к лицу с опасностью, но не станут сражаться [Marshall 1947: 50, курсив добавлен].
Вот что пишет Маршалл далее:
Как удалось выяснить, огонь по позициям противника фактически вели в среднем не более 15% солдат… а если рассматривать все боевые действия, то данный показатель не превысит 20–25% от общего состава… В большинстве случаев боестолкновения происходили в полевых условиях или в движении, когда огонь могли вести не менее 80% бойцов, причем почти все они в тот или иной момент оперировали в пределах удовлетворительного огневого расстояния до действий противника. Едва ли хотя бы один из указанных боев имел случайный характер. По большей части это были важные локальные бои, в ходе которых действия отдельно взятой роты имели принципиальное значение для положения ряда более крупных соединений, причем сама эта рота испытывала серьезный натиск противника. В большинстве случаев ей удавалось добиться значительного успеха, хотя в отдельных эпизодах приходилось отступать назад и терпеть локальные поражения от огня противника…
В среднестатистической пехотной роте, имеющей опыт боевых действий, в течение одного типового дня тяжелых боев какой-либо вид оружия использовали в сражении примерно 15% от общей численности личного состава. В наиболее напористых пехотных ротах, которые находились под максимально интенсивным давлением, этот показатель редко превышал 25% от общей численности личного состава с начала и до конца сражения… Кроме того, солдату не требовалось постоянно вести огонь, чтобы считаться активным бойцом. Положительную характеристику он получал уже в том случае, если хотя бы раз или два раза выстрелил из винтовки, пусть даже и не целился в какую-то конкретную мишень, или швырял гранату примерно в ту сторону, где находился неприятель… Ни особенности местности, ни тактическая обстановка, ни даже характер противника и точность его стрельбы, похоже, не оказывали почти никакого влияния на соотношение между активными бойцами и теми, кто не стрелял. Тот или иной боевой опыт, полученный в ходе трех или четырех кампаний, также, вопреки ожиданиям, не способствовал сколько-нибудь принципиальным изменениям. По-видимому, все эти результаты указывают на то, что потолок эффективности бойцов был обусловлен некой константой, заложенной в самой природе солдат, – либо, быть может, нашей неспособностью понять эту природу настолько глубоко, чтобы применить должные коррективы [Marshall 1947: 54, 56–57].




