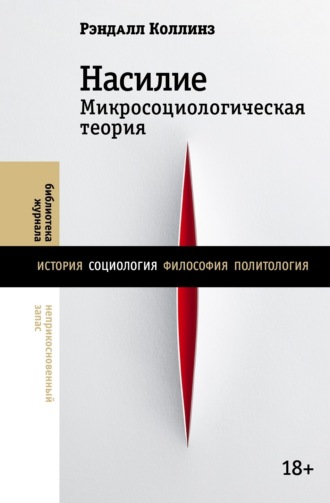
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
В настоящий момент эволюционная теория отвергается значительными сегментами интеллектуального мира – отчасти из‑за ее очевидной невосприимчивости к культурным и интеракционным моделям, а отчасти из‑за старинного интеллектуального антагонизма между интерпретативным и позитивистским подходами, между Geisteswissenschaft и Naturwissenschaft [науками о духе и науками о природе, нем.]. Моими интеллектуальными союзниками в значительной степени являются сторонники интерпретативного подхода, но все же хотелось бы ступить на эволюционистскую почву, высказав предположение, что эволюционная психология совершила две серьезные ошибки, исходя из своих же представлений.
Первая ошибка относится к вопросу о том, что именно эволюционировало генетически. Согласно утверждению сегодняшней эволюционной ортодоксии, в результате своей эволюции люди превратились в распространителей эгоистичных генов, а у мужчин развивался биологический аппарат агрессивности, направленный на распространение собственных генов с целью сделать их предпочтительными в сравнении с генами некоторых других мужчин. Я даю совершенно иную интерпретацию того, что именно является основным эволюционным наследием на биологическом уровне. Как уже утверждалось в другой моей работе в контексте объяснения человеческой эротической чувственности [Collins 2004: 227–228], человеческая эволюция происходила таким образом, что у людей появилась особенно высокая чувствительность к сигналам микровзаимодействий, которые подаются другими людьми. Мы генетически предрасположены к тому, чтобы оказываться во взаимном фокусе интерсубъективного внимания и в общих ритмах передавать эмоции от одного организма к другому. Данная особенность является сформированной в процессе эволюции биологической предрасположенностью: для нас характерна ситуационная поглощенность сиюминутными нюансами нервной и эндокринной систем друг друга, в результате чего у нас появляется склонность к формированию ритуалов взаимодействия, а следовательно, и к поддержанию солидарности, когда мы встречаемся лицом к лицу. Все это выходит за пределы банального утверждения о том, что в ходе эволюции у человека появились большой мозг и способность усваивать культуру. Результатом человеческой эволюции стала наша эмоциональная гипернастройка друг на друга, а стало быть, мы исключительно восприимчивы к механизмам ситуаций взаимодействия.
Таким образом, эволюция человеческого эготизма имеет далеко не первостепенное значение – он возникает лишь в особых обстоятельствах, причем по большей части на довольно позднем этапе истории человечества (см. [Collins 2004], гл. 9 «Индивидуализм и обращенность к внутреннему миру как порождения социума»). Все это оказывает прямое воздействие на совершаемое людьми насилие, хотя и совершенно противоположное основаниям эволюционной психологии. К нашим «системным настройкам» относится стремление к вовлеченности и солидарности при взаимодействии – в силу этого обстоятельства насилие и является столь затруднительным делом. Как будет более подробно показано ниже, конфронтационная напряженность и страх представляют собой не просто эгоистичное опасение человека, что его телу будет нанесен ущерб, – эта напряженность прямо противоречит склонности к захваченности эмоциями друг друга, когда присутствует общий фокус внимания. На физиологическом уровне наша эволюция привела к тому, что необходимость вступать в бой наталкивается на значительные интеракционные препятствия – так происходит благодаря тому способу, каким наши неврологические настройки заставляют нас действовать в непосредственном присутствии других людей. Конфронтационная напряженность/страх является той эволюционной ценой, которую мы платим за цивилизацию.
Люди способны испытывать гнев и мобилизовывать энергию своего организма для демонстрации силы и агрессии. У этих способностей также имеются физиологические основания, которые являются универсальными для любых обществ [Экман, Фризен 2022] и обнаруживаются у большинства маленьких детей20. В эволюционной психологии способность проявлять гнев объясняется в качестве способа мобилизации усилий организма для преодоления какого-либо препятствия [Frijda 1986: 19]. Но когда препятствием оказывается другой человек, заложенная в наших системных настройках способность к гневу и агрессии встречается с еще более сильной подобной настройкой – склонностью включаться в общий с другими людьми фокус внимания и эмоциональные ритмы других людей. Откуда мы знаем, что склонность к вовлеченности во взаимодействие сильнее, чем мобилизованная агрессия? Это знание появляется из микроситуационных свидетельств, рассматриваемых на всем протяжении этой книги, которые демонстрируют, что наиболее распространенной тенденцией является резкое прекращение открытого насилия, а когда насилие все же возникает, оно происходит в виде процесса взаимодействия, который обстоятельно ориентирован на преодоление конфронтационной напряженности, но по-прежнему сохраняет ее следы.
Это не означает, что люди не могут находиться в конфликте. У них зачастую бывают конфликтные интересы, а по отношению к противникам мы нередко демонстрируем неприязнь. Но этот антагонизм по большей части направлен против других лиц – а точнее, против расплывчато определяемых групп, – которые находятся на определенном расстоянии, желательно вне досягаемости для зрения и слуха. Всеобъемлющую напряженность вызывает именно непосредственная ситуационная конфронтация, и для того, чтобы насилие в ситуации лицом к лицу произошло, требуется какая-либо ситуационная траектория обхода этого эмоционального поля.
Теперь можно перейти к рассмотрению второй особенности эволюции, актуальной для конструкции человеческого насилия. Здесь нас будет интересовать уже не биологическая эволюция физических системных настроек человеческих организмов – мы обратимся к человеческим институтам, которые также можно рассматривать как эволюционирующие во времени, причем одним институтам удается пройти отбор, необходимый для выживания, а другим нет. Если на физиологическом уровне человеческая эволюция привела к тому, что нас при столкновении с кем-то другим в антагонистическом режиме переполняет конфронтационная напряженность, то в истории человечества развитие насилия должно было происходить за счет социальной эволюции техник преодоления конфронтационной напряженности/страха.
Как демонстрируют исторические сопоставления, социальная организация играет огромную роль среди факторов, предопределяющих объем совершаемого насилия. История армий представляет собой историю организационных приемов, позволяющих удерживать людей в бою или по меньшей мере препятствующих бегству, даже если они испытывают страх. В племенных обществах сражения были короткими – в основном они представляли собой стычки между несколькими сотнями человек (или еще меньшим количеством участников), которые с перерывами продолжались в течение нескольких часов и обычно прекращались вместе с появлением единственной жертвы – убитого или тяжело раненного. Без социальной организации, способной удерживать бойцов вместе в одном строю, они метались взад-вперед по линии соприкосновения с противником группами по несколько человек, спасаясь бегством при попадании на неприятельскую территорию более чем на несколько секунд. Эта схема напоминает о сегодняшних уличных бандах, которые совершают свои вендетты в виде взаимных нападений «с колес», стреляя в группу противников из движущегося автомобиля, – хотя в ситуациях, когда происходит встреча одной группы с другой с присутствием большого количества их участников, они, как правило, предаются пустым угрозам и оскорблениям в адрес друг друга, но при этом стараются избежать открытого столкновения. Данное сравнение показывает, что эволюция социальной техники активации насилия не сводится просто к тому или иному историческому периоду: отдельные группы современных обществ находятся в том же структурном положении, что и небольшие первобытные племена, не имевшие организационного аппарата для принуждения бойцов к тому, чтобы они оставались в сражении21.
Более сложная социальная организация в Греции, Риме и Китае эпохи Античности позволяла бросать в сражение более многочисленные (иногда порядка десятков тысяч солдат) и более дисциплинированные войска, которые могли вести бой целый день. В средневековой Европе сражения также обычно продолжались один день. Накануне эпохи Наполеоновских войн численность армий иногда достигала сотен тысяч человек, а сражения длились до трех дней. В мировых войнах ХX века сражения при поддержке массивного бюрократического аппарата тянулись до полугода и более – в качестве примеров можно привести битвы за Верден и Сталинград. В любой исторический период основную часть армий составляли молодые мужчины примерно на пике репродуктивного возраста, однако масштаб убийств определяется типом социальной организации. Эту вариативность невозможно объяснить борьбой за репродуктивные достижения. Эволюционировали в данном случае организационные приемы, позволявшие удерживать солдат в строю, где они могли наносить определенный урон противнику или по меньшей мере противостоять дальнобойному оружию, способному поражать их ряды. Эволюция этих приемов происходила благодаря ряду изобретений. В античную эпоху это была фаланга с сомкнутыми рядами, в Новое время – воинские подразделения, которые прошли муштру на плацу и шли в бой в окружении корпуса офицеров, стремившихся удержать солдат в строю. В современных массовых армиях такими приемами выступают политизированные призывы и способы укрепления морального духа, бюрократические методы позволяют заманивать людей в ловушку военной организации, из которой нет выхода, а также существуют формирования, специализирующиеся на принудительных мерах, наподобие военной полиции, задача которой состоит в том, чтобы не дать солдатам убежать. Работу Джона Кигана «Лицо войны» можно интерпретировать именно как сравнение таких методов на протяжении нескольких исторических периодов (см. [Keegan 1976], а также [Мак-Нил 2008; McNeill 1995]).
Военная организация дает самую простую возможность отследить социальные приемы, позволяющие преодолевать нашу биологическую склонность к ненасилию. Но существуют и другие сферы насилия, где развивались подобные приемы – в качестве примеров можно привести эволюцию дуэлей, боевых искусств и других школ единоборств, а также стандартного коллективного поведения спортивных болельщиков. Скажем, возникновение футбольных хулиганов в Великобритании ХX века можно рассматривать именно в качестве такой эволюции приемов: сначала фанаты участвовали в постановочном возбуждении спортивных состязаний, а затем произошло отделение этого возбуждения от собственно игры, в результате чего элита профессионалов смогла активировать собственную форму «беспорядков по первому требованию». К рассмотрению этих тем мы обратимся в последующих главах.
Устаревшее использование слова «эволюционный» в смысле прогресса не слишком согласуется с исторической моделью насилия – если таковая и существует, то она заключается в том, что способность к насилию возрастала вместе с увеличением масштабов социальной организации. Насилие не является чем-то первозданным, но и цивилизация его не усмиряет – гораздо ближе к истине обратное утверждение. Однако здесь в техническом смысле приобретает актуальность один из аспектов эволюционной теории – и выводы его неутешительны. Используя терминологию Норберта Элиаса, искомая модель может представлять собой не только «процесс цивилизации», но и в равной степени «процесс децивилизации»22. Не разделяя увлечения понятийным аппаратом эволюционной теории, я в большей степени склоняюсь к рассмотрению цепочек исторических событий с точки зрения веберовской теории многомерных изменений в социальной организации власти (наиболее всеобъемлющие разработки в этом направлении принадлежат Майклу Манну [Манн 2020а; Mann 2020b; Манн 2022]. Технические приемы осуществления насилия всегда должны соответствовать задаче преодоления конфронтационной напряженности/страха, и сколь бы масштабными ни были упомянутые выше организации на макро- и мезоуровне, их эффективность всегда проверяется на микроуровне. Эволюционная точка зрения в данном случае прежде всего выступает для нас напоминанием о чрезвычайно длительной перспективе. Проблема, которую стремилось разрешить развитие социальных техник, была создана именно нашими биологическими системными настройками – тем обстоятельством, что мы испытываем слишком сильные эмоциональные затруднения при столкновении с насилием лицом к лицу. Но к счастью для человеческого благоденствия, эта проблема в значительной степени по-прежнему сопротивляется решению.
Источники
По своей структуре эта книга представляет собой теоретическое исследование, но при этом она в значительной степени ориентирована на эмпирические данные. Целью автора было представить изображение насилия с максимально близкого расстояния. При работе над книгой в ход пошли любые доступные мне источники информации. Везде, где это было возможно, я старался использовать визуальные свидетельства. Доступные видеозаписи драк имеются главным образом для насилия, совершаемого полицией, насилия во время спортивных состязаний и насилия толпы. Кроме того, в отдельных случаях видеозаписи приходят на помощь при изучении современных военных действий, хотя более показательны антропологические съемки племенных войн. Фотоснимки, как выяснилось, еще более полезны, чем видеозаписи, поскольку они позволяют уловить эмоции и подробно демонстрируют пространственные положения человеческих тел. Присутствующие в книге фотографии автор включил в текст в той мере, насколько это позволили сделать практические возможности издателя23. Некоторые из представленных в книге обобщений основаны на имеющихся у автора подборках фотоснимков с изображением отдельных видов насилия.
Еще одним важным источником является наблюдение. Я использовал собственные наблюдения всякий раз, когда из них можно было хоть что-нибудь почерпнуть. Некоторые из этих данных собирались намеренно, когда я сам находился в местах, где происходит насилие, в опасное время суток (этому способствовало проживание в некоторых районах городов восточного побережья США), или в ходе участия в полицейских рейдах. Другие наблюдения появились благодаря бдительной готовности автора «включать социолога», внимательно смотреть на происходящее и делать заметки, когда происходит что-то интересное. Все это не настолько мелодраматично, как может показаться: меня интересуют конфликтные ситуации не только высокой, но и низкой интенсивности, и мне любопытно наблюдать за тем, как люди справляются с конфронтациями, большинство из которых в действительности вообще не перерастают в насилие, не говоря уже о его крайних формах24.
При обращении к некоторым темам этой книги я обширно использовал отчеты моих студентов – ретроспективные сообщения о ситуациях, которые они сами наблюдали, получив от меня заблаговременные инструкции относительно того, на что следует обращать внимание: эмоции, положения тела, обстоятельства времени происходящего. Я просил студентов описывать конфликтные ситуации, свидетелями которых они были на близком расстоянии, причем не обязательно с присутствием насилия: в представленные отчеты вошли, например, описания ссор и прерванных драк – все это также является важной составляющей спектра ситуационной динамики. Учитывая то, что выполнявшие эту работу студенты в основном происходят из семей среднего класса (хотя имеют весьма разнообразную этническую принадлежность и являются выходцами из разных стран), те разновидности насилия, о которых они сообщали, как правило, ограничивались кутежом, развлечениями и спортивными состязаниями, плюс некоторое количество семейных конфликтов и отдельные описания демонстраций и массовых беспорядков. Очевидно, что такие данные невозможно использовать для подсчета статистической частоты различных видов насилия, однако они очень показательны с точки зрения взаимосвязи между различными характеристиками ситуаций – что мне и требовалось.
Сам я интервьюировал людей, которые наблюдали насилие или были причастны к нему в различных формах: сотрудников полиции в нескольких странах, бывших солдат, музыкантов молодежной сцены, вышибал, судей и преступников. На протяжении этих интервью я уделял особое внимание тому, что именно они наблюдали, делая меньший акцент на том, как они интерпретировали или объясняли увиденное (хотя этот момент едва ли можно исключить). Интервьюирование варьировалось от ответов на заранее подготовленный (но не конечный) список вопросов до неформальных бесед; если это давало результат, то я вступал в продолжительные и неоднократные дискуссии. Особую пользу принесли обращения за деталями наблюдений к другим авторам этнографических исследований, которые поделились со мной различной информацией, выходящей за рамки их опубликованных работ – так произошло не потому, что они нечто утаивали, а благодаря моему стремлению получать материалы, актуализированные с новой перспективы. Кроме того, отдельные подробные описания различных видов насилия я почерпнул из судебных источников25. Еще одним источником информации я обязан собственному участию в различных школах боевых искусств на протяжении многих лет.
При рассмотрении некоторых тем активно использовались материалы новостных хроник. Они очень сильно различаются в подаче ситуационных деталей, но поскольку насилие, в особенности в более изощренных формах, является относительно редким событием, новостные сообщения нередко незаменимы. Особенно полезными материалы СМИ оказываются в тех случаях, когда в них сообщается дополнительная информация по делам, которые ведет полиция, например заключения баллистических экспертиз. В сводках новостей информация обычно подается в усеченном виде, однако гораздо больше подробностей содержится в отдельных длинных репортажах (например, о массовых беспорядках), которые можно обнаружить в интернете. Телевизионные новости, как правило, менее внятны и в большей степени нагружены комментариями, а следовательно, не столь полезны, за исключением тех случаев, когда в них присутствуют видеоматериалы. Основным исключением здесь выступает насилие в спорте. Для анализа насилия со стороны участников соревнований и болельщиков я использовал собственные наблюдения, почерпнутые из спортивных телетрансляций. В Америке спортивные события настолько ориентированы на видеосъемку, что зачастую по ней можно восстановить значительную часть контекста, опираясь на новостной сюжет о какой-нибудь драке, из которого неочевидна суть дела, – скажем, понять, какие действия игроков и команд во время матча привели к драке. Кроме того, мне удалось проверить некоторые моменты – например, соотношение между частотой случаев, когда бейсболисты получают удары мячом при подаче, и ситуациями, когда это приводит к дракам.
На всем протяжении книги в анализ включались материалы уже опубликованных исследований. Некоторые из них принадлежат другим специалистам – здесь особую ценность имеют работы авторов, занимающихся этнографией насилия (Элайджа Андерсон, Энтони Кинг, Билл Бьюфорд, Кертис Джексон-Джейкобс, Никки Джонс и другие), а также тех, кто изучает среду, в которой имеют место определенные его разновидности (работы Дэвида Грейзиана о сфере развлечений и Мюррея Милнера о статусных системах в средней школе). Особую признательность хотелось бы выразить таким исследователям, как Джек Кац, которые первыми стали сводить воедино все данные близких наблюдений с разных точек зрения. Ряд коллег, реализующих такой подход (Кац, Милнер, Грейзиан), предпринимают коллективные этнографические исследования – отчеты о наблюдениях от ряда лиц, которые собираются либо ретроспективно, либо от наблюдателей, направленных для освещения конкретных событий. Подобному подходу уделялось мало внимания в методологической литературе, однако он обладает множеством преимуществ и заслуживает того, чтобы приниматься в расчет более масштабно.
Кроме того, в качестве материалов использовались опубликованные интервью (например, с преступниками, находящимися в тюрьме или отбывшими срок), а также биографические и автобиографические сообщения людей, принимавших участие в насилии (в особенности во время военных действий). Историки приходят на помощь там, где они приводят подробности микронаблюдений из собственных источников.
Иногда полезными оказываются и художественные источники, хотя здесь нужно действовать с осторожностью, поскольку художественные описания насилия являются важным источником мифологии, которая заслоняет наше понимание этого феномена. Особенно это касается игровых фильмов, в которых насилие за редким исключением изображается крайне недостоверно. В некоторых литературных произведениях (главным образом относящихся к натуралистическому направлению начала XX века) содержатся ценные подробные описания военных действий и поединков, а также микромеханизмов, которые приводят к насильственным столкновениям, или сцен разгула, выступающих их фоном. Отдельные писатели, такие как Толстой, Хемингуэй и Фицджеральд, были микросоциологами еще до появления самой этой профессии. В произведениях авторов предшествующих периодов, таких как Гомер и Шекспир, во многом распространялись мифологические представления, но все же и они порой полезны, когда в них описывается ритуальная сфера, окружавшая насилие в отдельные исторические периоды, пусть и не сам процесс совершения насилия.
Там, где это было актуально, в книге также использовались количественные данные. Они оказались полезными (хотя и труднодоступными) применительно к некоторым аспектам насилия, совершаемого полицией, а военные реконструкции сыграли ключевую роль в пробуждении интереса ученых к тому, как на самом деле происходит насилие – к подобным данным относятся подсчеты выстрелов, сделанных солдатами, нанесенных ударов, израсходованных боеприпасов и потерь. Кроме того, были проведены детальные реконструкции нескольких массовых демонстраций и подробностей гибели их жертв (например, расстрела сотрудниками Национальной гвардии США студенческих выступлений в Кент Стейт в 1970 году26). Автор также опирался на данные о мародерстве и задержаниях в ходе массовых беспорядков и временны́е диаграммы их распространения и масштабов тяжести.
На протяжении всего исследования я придерживался правила давать собственные интерпретации данных. Зачастую это требовало разрыва с представлениями наблюдателей или предшествующих исследователей о том, что именно является важным, и выхода за рамки их понимания ситуаций. Можно сказать, что социология в значительной степени представляет собой искусство задания новых рамок для наблюдений других людей. Там, где эти предшествующие наблюдения принадлежат самим социологам, а новые рамки сильно пересекаются с прежними, можно говорить о накапливающемся прогрессе теоретических представлений.
Мои источники чрезвычайно разнородны – но именно так и должно быть. Для предметного понимания отдельно взятого феномена требуется взглянуть на него с как можно большего количества сторон. Методологический пуризм оказывается огромным камнем преткновения для понимания – в особенности в случае с таким трудным для постижения явлением, как насилие. Очевидно, что в будущем микросоциологические исследования насилия можно будет выполнять лучше, чем сделано в этой книге, – а пока важно задать принципиальное направление движения.
Краткий обзор содержания книги
В главе 2 будет представлена базовая модель: насильственные ситуации наполнены конфронтационной напряженностью и страхом. Как следствие, в большинстве случаев насилие не идет дальше пустого бахвальства и патовых ситуаций, в результате чего мало что происходит либо совершаются неумелые действия, наносящие в основном незначительный и непреднамеренный урон. Для нанесения противнику реального ущерба необходимы траектории, позволяющие обойти конфронтационную напряженность и страх – о том, что собой представляют эти способы, речь пойдет в последующих главах.
В главе 3 описывается особая разновидность динамической последовательности, в ходе которой напряженная конфронтация внезапно разрешается в пользу одной из сторон, получающей подавляющее превосходство. В результате возникает ситуация, которую я именую наступательной паникой. Именно по такой схеме совершались многие нашумевшие зверства – включая значительное число случаев чрезмерного насилия, попадавших в заголовки новостей.
В главах 4 и 5 рассматриваются траектории обхода конфронтационной напряженности/страха, предполагающие нападение на слабую жертву. Здесь мы обратимся к ситуационным механизмам домашнего насилия, травли, вооруженных ограблений и разбойных нападений. Некоторые из этих разновидностей насилия более институционализированы, чем прочие, и воспроизводятся на протяжении того или иного периода времени. Наступательная паника, рассмотренная в предшествующей главе, также является одним из видов нападения на слабого, хотя и расположенным на другом конце континуума – там, где у соперника возникает слабость, а внезапность эмоционального сдвига выступает залогом жестокости нападения. Все эти разновидности нападения на слабого демонстрируют ключевую особенность успешного акта насилия: выбор цели, слабой в эмоциональном отношении, что оказывается более важным, чем физическая слабость.




