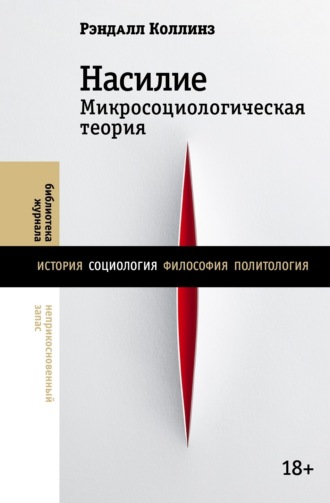
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
Можно привести множество других подобных примеров. Самое страшное поражение армии Древнего Рима произошло при Каннах в 216 году до н. э., когда маневры карфагенского войска под командованием Ганнибала привели к тому, что римляне были окружены, дезорганизованы и деморализованы – в итоге состоялось побоище, в котором примерно 50–70 тысяч из 75 тысяч римлян были убиты. Поскольку карфагеняне потеряли 4,5 тысячи из 36 тысяч солдат (в основном в самом начале сражения), очевидно, что практически все потери пришлись на ту стадию битвы, когда побежденные не оказывали сопротивления [Keegan 1993: 271]. Именно сражение при Каннах Ардан дю Пик [du Picq 1921: 19–29] взял за основу для формулировки своего принципа, согласно которому большинство потерь происходит, когда одна сторона сломлена и уступает другой стороне преимущество в моральном духе.
Все решающие победы Александра Македонского над персами происходили по одному и тому же сценарию: огромные массы персов (40 тысяч в битве при Гранике против 45 тысяч греков при превосходстве в кавалерии – 20 тысяч персов против пяти тысяч греков; около 160 тысяч персов при Иссе против 40 тысяч греков; 150 тысяч, а то и больше персов при Гавгамелах против 50 тысяч греков) стояли в оборонительном порядке против относительно меньших и более компактных подразделений македонской армии. Персы вытягивались в длинные шеренги, которые были слишком широкими, чтобы все солдаты могли вступить в бой с противником, а кроме того, персам мешала еще и статичная оборона, которая не позволяла им развернуться, чтобы атаковать греков с тыла. В каждом из перечисленных сражений наиболее агрессивные подразделения армии Александра – его личная кавалерия, которая атаковала клином во главе с самим царем, – выбирали уязвимое место, располагавшееся, как правило, рядом с командным пунктом персов. Здесь, несмотря на общий перевес в численности в пользу защищающейся стороны, непосредственное соотношение сил было равным, и преимущество переходило к атакующим. Киган [Keegan 1987: 78–79] приходит к заключению, что военные победы македонцев были наполовину обусловлены использованием определенной техники психологической войны, указывая, что персы занимали оборонительные позиции, поскольку боялись противника.
Александр делал все возможное, чтобы усилить этот страх, поощряя агрессивное маневрирование своей армии и держа противника в напряженном ожидании атаки. Вполне возможно, он выискивал момент, когда персидская линия обороны дрогнет – у лошадей ведь тоже есть эмоции, которые можно было заметить по их дрожи, – и начинал атаку в нужное время и в нужном месте19. В каждом из трех крупнейших сражений Александра с персами – при Гранике у границы персидской державы в Малой Азии, при Иссе, где персы пытались не пустить греков в пределы Плодородного полумесяца, и при Гавгамелах, где Дарию предстояло защищать свою столицу в Вавилоне, – греки прорывали строй персов, заставляя их командующего бежать и вызывая беспорядочное паническое отступление всего неприятельского войска. Соотношение потерь в каждом случае было чрезвычайно неравномерным: при Гранике полегло около 50% персов, а в двух других сражениях их потери, возможно, были еще больше; среди македонцев самые значительные потери составили 130 человек – меньше 1% их армии [Keegan 1987: 25–27, 79–87].
Ключевой особенностью этих сражений был их решающий характер. Но поскольку этот момент становится ясным лишь постфактум, необходимо рассмотреть, в чем состоит разница в процессах, которые приводят к решающим либо безрезультатным сражениям. Эту разницу прекрасно осознавал Юлий Цезарь, и его долгосрочная стратегия во время гражданских войн была направлена на то, чтобы организовать решающую битву. Но для начала необходимо выяснить, что такое безрезультатное сражение. Схватки между пехотными фалангами, как правило, представляли собой соревнование в толкотне с относительно небольшими потерями, если только одна из сторон не распадалась на части. Именно поэтому многие сражения эпохи греческих городов-государств были безрезультатными – и небольшие полисы, которые редко захватывали новые территории, этот момент, вероятно, устраивал. Еще одной разновидностью безрезультатных сражений были стычки между конницей или легковооруженными, стремительно передвигающимися подразделениями, либо между таким типом войск и более громоздкими тяжеловооруженными фалангами. Если быстро перемещающиеся части не добивались дезорганизации пехоты противника или не заставали ее врасплох на марше, результат обычно сводился к тому, что всадники или другие участники стычки отступали без особого ущерба для обеих сторон. Когда в 46 году до н. э. Цезарь пытался организовать полномасштабное сражение в Северной Африке, нумидийские всадники и легковооруженные воины-скороходы часто преследовали его легионы на марше. Но «если тем временем три-четыре Цезаревых ветерана оборачивались и изо всех сил пускали копья в наступающих нумидийцев, то те все до одного, в количестве более двухсот [у Коллинза – более двух тысяч], повертывали тыл, а затем, снова повернув лошадей против его войска, в разных местах собирались, на известном расстоянии преследовали легионеров и бросали в них дротики» [Цезарь 2020: 506]. За один день такого марша в войске Цезаря было десять раненых, а противник потерял триста человек. Нумидийцы практиковали стиль ведения сражений, характерный для племенных войн: они периодически бросались вперед и намеренно отступали, избегая полномасштабного столкновения.
Решающая битва должна была представлять собой полномасштабное, имеющее обязательный характер для сторон сражение между основными силами обеих армий, выстроенными в боевой порядок на ровной местности. Такое сражение неоднократно предлагал как сам Цезарь, так и его противники, однако это предложение принималось редко. Одна из сторон могла выстроиться на склоне холма, где у нее было преимущество ведения боя по направлению сверху вниз, либо могла блефовать, демонстрируя свои силы, в ожидании, пока у другой стороны закончатся вода или припасы. Таким образом, одним из факторов, делавших сражение решающим, было обязательное согласие обеих сторон на то, чтобы устроить такую битву. Александр в своих кампаниях против персов избегал ночных атак или внезапных перемещений, которые могли бы дать врагу повод утверждать, что его застигли врасплох, – македонский царь стремился к возникновению пропагандистского эффекта чистой победы, которая положила бы конец сопротивлению его противников [Keegan 1987: 85–86]. Точно так же Цезарь в каждой из своих кампаний – то есть на протяжении времени года, подходящего для ведения боевых действий на конкретной территории, – маневрировал с целью завершить ее сражением, которое подвело бы итог данной стадии войны и установило политическое господство над соответствующим регионом.
После того как полководцу удавалось ввязаться в сражение, задача заключалась в том, чтобы при помощи маневров спровоцировать паническое отступление какой-либо части войска противника, которое распространилось бы на остальную часть его армии и переросло в ситуацию наступательной паники. В 48 году до н. э. после семимесячной кампании в Греции и на Балканском полуострове Цезарь дал полномасштабное сражение своему сопернику Помпею при Фарсале [Цезарь 2020: 390–398]. Армия Цезаря насчитывала 22 тысячи человек, из которых он потерял около 1200 солдат (5%); у Помпея было 45 тысяч человек, но при Фарсале он потерял 15 тысяч (33%), а еще 24 тысячи (большинство из оставшихся в живых 30 тысяч) сдались в плен. Численное преимущество Помпея не принесло результат, так как не все его солдаты смогли войти в соприкосновение с противником; как обычно происходило в таких битвах, решающий маневр на одном из участков поля боя задавал эмоциональный настрой и направление действий на остальных. Битва началась с того, что шеренга войск Цезаря повела лобовую атаку – поначалу эти действия были малоэффективными, напоминая типичное столкновение двух фаланг, за тем исключением, что в этой части поля боя образовался затор. Переломный момент наступил, когда кавалерия Помпея атаковала левое крыло шеренги Цезаря, одержав победу на этом участке. Это побудило прикрытых легкими доспехами солдат Помпея – лучников и пращников, которые могли поражать цели на большой дистанции, – броситься вперед с той же стороны. Именно в этот момент Цезарь отправил в контратаку резервные силы, и она оказалась успешной: дисциплинированная фаланга с ее частоколом копий всегда была способна побеждать кавалерию, которую при Фарсале привел в дезорганизованное состояние ее же собственный натиск, – и теперь уже конница Помпея в панике бежала, сметая все на своем пути и покидая поле боя. Хуже того, несколько тысяч лучников и пращников остались без прикрытия и все были убиты. Таким образом, локальный эпизод на левом фланге представлял собой классический случай наступательной паники: пережив определенный промежуток напряженности и кратковременное поражение, войска Цезаря рванули вперед в убийственном неистовстве против уже беспомощного противника, продолжая двигаться дальше в поисках новых жертв в основном массиве пехоты Помпея, которая теперь оказалась дезорганизованной из‑за бегства собственной кавалерии и была окружена сзади. В результате началось общее паническое отступление, побежденные бросали оружие, и значительную часть солдат противника воины Цезаря зарубили в беззащитном состоянии.
Битва при Тапсе, которой завершилась кампания Цезаря в Северной Африке в 46 году до н. э., развивалась проще. Армия Цезаря совершала марш по Тунису, пытаясь заставить войска его противника Сципиона покинуть свои места постоянной дислокации и укрепленные лагеря и вступить в сражение. В итоге Цезарь добился этого, вынудив Сципиона предпринять попытку снять осаду с одного крупного города. Одно из подразделений армии Сципиона было заметно напугано: солдаты постоянно то выбегали из ворот своего лагеря, то забегали обратно, не решаясь вступать в сражение; обнаружив это, солдаты Цезаря, уже выстроившиеся в боевом порядке, не смогли удержаться на месте и бросились в атаку. Паническое отступление противника приобрело всеобщий характер, а за ним последовала такая же неконтролируемая резня, как и в описанном выше сражении при Фарсале. Армия Сципиона потеряла пять тысяч человек из примерно 30 или 40 тысяч; потери армии Цезаря составили 50 человек из примерно 35 тысяч [Цезарь 2020: 511–517]. Такой диспропорции в потерях – а прежде всего распада организации армии Сципиона – оказалось достаточно для завершения данной стадии войны.
Панике подверглись не только люди: град стрел и камней, которые выпускали лучники и пращники Цезаря, напугал боевых слонов Сципиона, которые стали метаться по расположению его войск, растоптав множество людей. Эпизод со слонами позволяет воочию представить эту битву далекого прошлого: «На левом фланге раненый слон от сильной боли бросился на безоружного обозного служителя, подмял его под ноги, а затем, став на колени, задавил его до смерти, причем поднял свой хобот и стал со страшным ревом ворочать им в разные стороны. Наш солдат не стерпел и с оружием в руках бросился на зверя. Когда слон заметил, что на него нападают с оружием, он бросил мертвого, обвил солдата хоботом и поднял кверху. Вооруженный солдат, понимая, что в подобной опасности нельзя терять голову, стал изо всех сил рубить мечом по хоботу, в который был захвачен. От боли слон, наконец, сбросил солдата, со страшным ревом повернул назад и бегом пустился к остальным животным» [Цезарь 2020: 513–514]. Любопытно, что поведение слона напоминает человека: напуганное нападающими, животное обнаруживает слабую цель для атаки и начинает на нее наваливаться. Действия солдата в этом фрагменте также весьма примечательны для тех времен, ведь обозный служитель, на которого напал слон, по своему статусу, вероятно, находился не намного выше раба или какого-нибудь презренного инородца, но действия животного производят на солдата настолько чудовищное впечатление, что он сам переходит в контрнаступление – даже несмотря на то что жертва слона уже мертва. А слон, наконец побежденный превосходящей силой человеческого оружия – или силой человеческого эмоционального порыва, – в итоге отступает в направлении группы своих собратьев.
Впрочем, сталкиваться лицом к лицу с наступательной паникой порой приходилось и самой армии Цезаря. В ходе греческой кампании в 48 году до н. э., за месяц до победы при Фарсале, его войска вели нечто вроде окопной войны на открытой местности, пытаясь сковать армию Помпея, окружив ее фортификационными сооружениями, а солдаты Помпея, в свою очередь, строили встречные земляные укрепления – все эти действия чем-то напоминают ходы в японской игре го. На одном из участков, где строились такие фортификации, разгорелось сражение, в ходе которого наступающую конницу Цезаря охватила паника после того, как она оказалась в ловушке укреплений неприятеля. Бросившись наутек, всадники спровоцировали панику среди располагавшейся поблизости пехоты, и многие солдаты задавили своих товарищей насмерть, прыгая в канавы друг на друга – эпизод, напоминающий давку в сражении при Азенкуре. «Всюду было такое смятение, ужас и бегство, что хотя Цезарь собственноручно выхватывал знамена у бегущих и приказывал им остановиться, тем не менее одни пускали на волю своих коней и бежали вместе с толпой, другие от страха бросали даже знамена, и вообще никто не слушался его приказа» [Там же: 379]. В этом сражении Цезарь потерял около тысячи человек, или около 6% своей армии, а что еще важнее, погибли около 15% офицеров – большинство из них, скорее всего, были растоптаны при попытке сдержать бегство. Вероятно, от полного уничтожения охваченную паникой армию Цезаря спасло то, что его войска были рассредоточены вдоль длинной линии укреплений. Благодаря этому обстоятельству описанный локальный эпизод не смог распространиться дальше, а противник не стал быстро развивать успех, дав Цезарю возможность перегруппироваться. Однако все его солдаты восприняли случившееся как поражение, что заставило Цезаря оставить это поле сражения.
Еще одной разновидностью наступательной паники является ощущение неудовлетворенности после победы. Когда победа над противником добыта легко либо позиция захвачена без ожидаемого сопротивления, солдаты, как правило, не прочь это как-нибудь отметить. По утверждению Маршалла, «напряженность является нормальным состоянием души и тела в бою. Но когда напряженность внезапно спадает после успешного выполнения первой задачи, солдаты склонны проникаться чрезвычайно благостным ощущением, из которого обычно проистекает расслабленность во всевозможных формах и со всевозможными опасностями» [Marshall 1947: 194]. В качестве относительно безобидного примера можно привести первое сражение Улисса Гранта в Гражданской войне, состоявшееся при Белмонте (штат Миссури) в ноябре 1861 года, когда войскам северян легко удалось обратить конфедератов в паническое отступление, а в течение следующих нескольких часов победители восторженно отмечали успех в захваченном лагере противника. Однако конфедераты смогли подвести подкрепление для контратаки, и Гранту лишь с трудом удалось привести свое войско в достаточный порядок для благополучного отступления [Grant 1990: 178–185]. Иногда сражения приобретают решающий характер в рамках следующего двухшагового механизма: одна из сторон первоначально одерживает верх на каком-то участке сражения, но эта победа приводит к такой дезинтеграции победоносных частей, что на втором этапе боя вся армия оказывается уязвимой для организованной контратаки.
Именно по такой схеме в 1645 году происходило сражение при Нейзби во время гражданской войны в Англии, в котором армия парламента одержала свою крупнейшую победу над роялистами. В начале сражения в центре боевых порядков обеих сторон находилась пехота (мушкетеры и пикинеры), а на флангах располагалась кавалерия. Со стороны армии парламента картина сражения выглядела так. Кавалерия роялистов под командованием принца Рупрехта Пфальцского атакует на левом фланге, захватывает преимущество в темпе и наголову разбивает кавалерию армии парламента. Тем временем в центре пехота роялистов медленно продвигается вверх по склону, чтобы держаться в строю. Армия парламента ведет огонь, но без особого результата – вот она привычная неэффективность боевой стрельбы, особенно в эпоху мушкетов, – поэтому роялисты вступают с противником в непосредственное соприкосновение и в жестоком бою медленно оттесняют армию парламента. Добиться успеха последней удается только на правом фланге, где кавалерия Кромвеля атакует конницу роялистов и наносит ей поражение. В этот момент сражение выглядит симметрично: роялисты победоносно наступают на левом фланге и движутся сквозь тылы противника, в центре наступление роялистов в конечном итоге останавливается, а на правом фланге армия парламента одерживает победу в своем наступлении и продвигается в направлении тыла роялистов (это описание основано на сведениях, представленных на информационных стендах мемориального комплекса битвы при Нейзби).
Переломный момент возникает потому, что в кавалерии роялистов на левом фланге происходит дезорганизация после одержанной победы: охваченные радостным неистовством, всадники движутся все дальше в тыл противника, чтобы разграбить его обоз. Тем самым они покидают поле боя, полностью утратив боевой порядок, и больше не участвуют в сражении, которое продолжается и теперь вступает в решающую вторую фазу. Напротив, не столь азартная и более дисциплинированная кавалерия Кромвеля на правом фланге сохраняет порядок либо успевает перегруппироваться после того, как ей удается разбить конницу роялистов на своем участке, а затем разворачивается и окружает пехоту противника, которая оказывается в беспомощном положении в центре сражения. В результате пехотинцы роялистов сдаются, после чего происходит массовое убийство пленных, а король Карл I, наблюдавший за битвой с вершины холма, с позором бежит. В определенном смысле эта победа свидетельствовала о переходе к современной организации военных действий. Несмотря на то что численность задействованных войск была относительно небольшой – около десяти тысяч человек с каждой стороны, – подразделения армии парламента обладали достаточно приличной организацией, чтобы после завершения первой фазы сражения приступить ко второй. В свою очередь, роялисты, одержав первоначальную победу в порыве наступательной паники, смогли предпринять всего один шаг и не нашли ответ на второй.
Наступательная паника имела наиболее решающее значение в войнах, которые велись до появления огнестрельного оружия, когда численность войск была относительно небольшой по сравнению с современными армиями, боевые порядки предполагали, что тела людей (а также животных) плотно прижаты друг к другу, а войскам для нанесения значительного урона противнику приходилось сближаться на расстояние досягаемости ручного оружия. Помимо наступательной паники, существуют и другие способы нанесения противнику тяжелых потерь – особенной эффективностью в данном случае отличаются артиллерийские обстрелы и бомбардировки с больших расстояний. Но ключевой момент заключается в том, что в современных войнах редко происходят решающие сражения, хотя иногда эти сражения сопровождаются масштабными убийствами без наступательной паники20. Современные сражения не относятся к тем самым явным драматическим событиям, которые все стороны воспринимают как катастрофу, приводящую к окончанию войны или отдельной кампании. Современные сражения приносят преимущественно кровавый ничейный результат, как это было в большинстве многомесячных битв на Западном фронте Первой мировой войны21.
В современной крупномасштабной войне случаи наступательной паники, как правило, имеют эпизодический характер, хотя сама эта схема остается актуальной и сегодня. Конфликты в мирной жизни чрезвычайно напоминают сражения древности, а то и племенные войны, в чем можно убедиться на примере бандитских разборок, массовых беспорядков на этнической почве и полицейского насилия. Если в подобных столкновениях используется огнестрельное оружие, то почти всегда это происходит на близком расстоянии по модели «наступательная паника/избыточное насилие», при этом в каждом конкретном инциденте наблюдается резкий дисбаланс потерь не в пользу одной из сторон. При оптимистичных сценариях будущего мобилизация крупных армий может стать редким событием, однако столкновения с участием этнических групп, толп и полиции, а также менее масштабные гражданские конфликты и антипартизанские войны отчетливо остаются в пределах модели насилия, в которой преобладает наступательная паника.
Чрезмерная жестокость в мирное время
В нормальном течении жизни в современном государстве именно оно заявляет о своей монополии на насилие, тогда как от всех остальных субъектов ожидается «поддержание мира»; государственным агентам при этом предписывается сводить дозволенное им насилие к необходимому минимуму. Однако подобные идеальные установки нередко сталкиваются с микроситуационной динамикой наступательной паники. Результатом этого столкновения становится чрезмерная жестокость, которая сопровождала деятельность по охране правопорядка на протяжении всей ее истории, но начиная с 1990‑х годов она оказывается в центре громадных общественных скандалов в ситуациях, когда подробности соответствующих инцидентов получают гораздо более широкую огласку благодаря баллистическим экспертизам, видеозаписям, а также нарастающему вниманию к новостям и реакции политиков на полицейское насилие.
Один из таких нашумевших случаев произошел в феврале 1999 года в Нью-Йорке с африканским уличным торговцем Амаду Диалло, когда тот входил в коридор жилого дома, а за ним проследовали четверо полицейских в штатском – специальная группа, участвовавшая в общегородской программе активного выявления уличных преступников. По сути, такие группы представляли собой нечто вроде занимающихся патрулированием антипартизанских сил, подозреваемыми для которых оказываются любые представители мирного населения. В данном случае полицейские разыскивали проживавшего в этом районе насильника, который по описанию напоминал Диалло. Явно испугавшись их появления, Диалло резко отступил назад в здание, однако полицейские восприняли это как негласный признак того, что подозреваемый хочет скрыться, – или же они просто угодили в типовую ситуацию, когда нужно гнаться за каждым, кто убегает. Полицейские бросились вперед и восприняли последующий жест Диалло как попытку достать оружие – хотя затем выяснилось, что он лишь полез за бумажником, где лежало его удостоверение личности. Все четверо полицейских открыли огонь, выпустив в общей сложности 41 пулю, 19 из которых попали в цель. Эта чудовищная избыточная жестокость оказалась отправным моментом для возмущения случившимся в СМИ и последовавших массовых протестов. Но давайте обратим внимание на другое обстоятельство: хотя полицейские стреляли с расстояния менее семи футов [два метра], половина их пуль не попала в цель22. Эта ситуация обладает всеми признаками наступательной паники: напряженность/страх со стороны полицейских, внезапное отступление явного противника, провоцирующий жест кажущегося сопротивления и нападение в горячке – беспощадное, но не отличающееся точностью. Полицейские, захваченные стрельбой из своего оружия, неспособны остановиться.
Сравним этот эпизод с другим случаем, который развивался по несколько иному сценарию, но имел во многом такой же исход. В декабре 1998 года в Риверсайде (штат Калифорния) у молодой чернокожей женщины, возвращавшейся с вечеринки, в два часа ночи сломалась машина (см.: Los Angeles Times, 2 января 1999 года, San Diego Union, 30 декабря 1998 года и USA Today, 21 января 1999 года). Полагая – и не без оснований, – что это опасный район, она остановилась на заправочной станции, заперлась в машине и позвонила по мобильному родственникам, чтобы они оказали ей помощь. Когда те прибыли на место, оказалось, что женщина уснула под воздействием алкоголя и наркотиков, и разбудить ее не удалось. Пришлось вызывать полицию. Из-за ощущения опасности спавшая в машине женщина положила на сиденье рядом с собой пистолет. Полицейские тоже подошли к машине с пистолетами наизготовку и после безуспешных попыток разбудить женщину разбили окно машины. В последующие несколько секунд четверо полицейских выпустили 27 пуль (о чем свидетельствуют гильзы, найденные на месте происшествия), из которых 12 попали в женщину. В этой истории присутствуют нотки абсурда: женщина была убита теми, кто должен был ее спасти. Однако больше всего ее семью и общественность шокировало чрезмерное количество выпущенных пуль. Узнав об этом инциденте, местная чернокожая община выразила возмущение, начались демонстрации против полиции, а власти устроили расследование случившегося. В приведенном эпизоде вновь отчетливо прослеживаются элементы наступательной паники: напряженность/страх, внезапное событие, выступающее в роли спускового крючка, беспорядочная стрельба, чрезмерное насилие.
Многочисленные инциденты демонстрируют аналогичный паттерн. В марте 1998 года в Лос-Анджелесе полицейские 106 раз выстрелили в одного 39-летнего белого мужчину, находившегося в состоянии опьянения. Сначала он в течение часа сидел на пандусе автомагистрали, а затем спровоцировал погоню полицейских машин, которые преследовали его автомобиль на малой скорости (20 миль в час) до еще одного места, где этот человек вышел из машины и стал размахивать неким предметом (в дальнейшем оказалось, что это пневматический пистолет), время от времени приставляя его к своей голове, как будто он собирался покончить с собой (см.: Los Angeles Times, 26 июля 1999 года). Большое количество пуль, выпущенных полицейскими, было связано с тем, что за продолжительное время противостояния на месте происшествия собралось много патрульных машин. Кроме того, в течение этого времени полицейские диспетчеры распространяли по рации ошибочные сведения о том, что некий человек стреляет по полицейским вертолетам и помощникам шерифа на земле. Из-за огромного количества полицейских, вызванных с разных участков, несомненно, возникла путаница и усилилось ощущение угрозы. Некоторые выпущенные полицейскими пули попали в жилые дома на расстоянии двух кварталов. Здесь перед нами вдобавок к беспорядочной, неточной и угрожающей посторонним лицам стрельбе еще и обнаруживается тенденция к тому, что слухи все больше способствуют разжиганию ситуации по мере увеличения количества звеньев цепочки.




