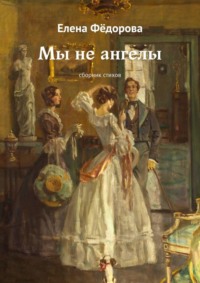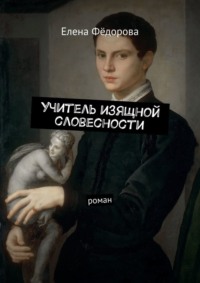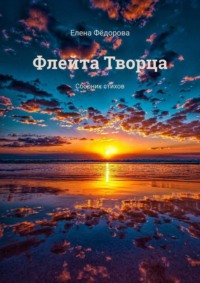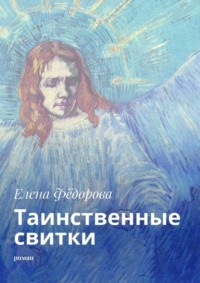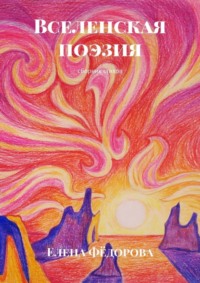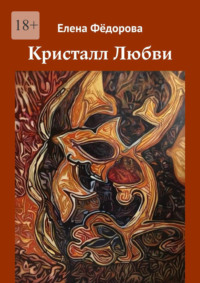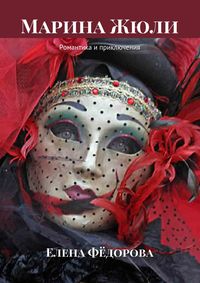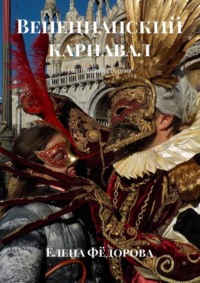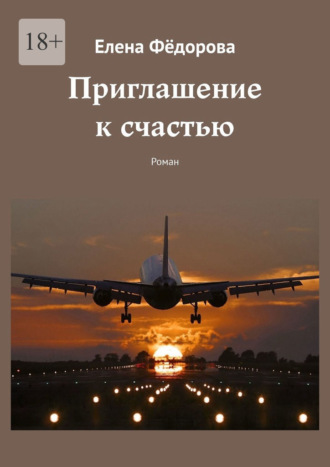
Полная версия
Приглашение к счастью. Роман
На севере, Сергей узнал историю Ерминии Жданко – первой и единственной в мире высокоширотной полярницы, именем который назвали мыс на острове Брюс в архипелаге Земля Франца Иосифа. На шхуне «Святая Анна», которая летом 1912 году отправилась покорять Северный полюс, Ерминия выполняла обязанности судового врача и была единственной женщиной в команде из двадцати четырёх человек. Профессионалов было четверо: капитан морской офицер Георгий Брусилов, штурман Валериан Альбанов, два гарпунёра.
Брусилов впервые под российским флагом собирался пройти по Северному Ледовитому океану от Архангельска до Владивостока за одну навигацию и доказать возможность регулярного движения в арктических водах. Но грандиозным замыслам капитана не суждено было осуществиться. В середине октября «Святая Анна» вмерзла в ледяное поле у полуострова Ямал, попала в Арктический плен. Никто не думал, что плен этот будет долгим. Но когда в октябре 1912 года ледяное поле «оторвалось от Ямала», и «Святая Анна» пустилась в дрейф, главной задачей людей стало выживание в арктических условиях. Наступила многомесячная полярная ночь, а вместе с ней началась депрессия. Даже полярное сияние, которое многие мечтали увидеть, не только не завораживало своей магической красотой, а нервировало заложников. Тяжелое настоящее и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди создало обстановку нервного заболевания… Половина команды хотела идти на материк, но Брусилов никого не отпускал.
Только в апреле 1914 года он дал согласие на то, чтобы группа из одиннадцати матросов во главе со штурманом Альбановым отправилась на материк. Они взяли с собой почту, копию судового журнала, данные промеров и метеорологических наблюдений, которые сделала Ерминия Жданко. Уходили люди с тяжелым сердцем, но надеялись вернуться и спасти товарищей, оставшихся в ледяном плену… Не спасли. «Святая Анна» бесследно исчезла во льдах Арктики.
До мыса Флор чудом дошли два человека: сам Альбанов и матрос Конрад. За три месяца они преодолели путь в четыреста километров. В августе 1914 года Альбанова и Конрада подобрал корабль «Святой Фока», который возвращался из экспедиции к Северному Полюсу, потеряв своего капитана Георгия Седова.
В сложных условиях перехода погибла половина писем и бумаг, взятых со шхуны «Святая Анна». Сохранившиеся документы оказались очень важными. Промеры северной части Карского моря, сделанные во время дрейфа «Святой Анны» открыли меридиональную впадину длиной почти в пятьсот километров, которую позднее назвали «жёлоб Святой Анны».
Благодаря записям из судового журнала был составлен чёткий подводный рельеф северо-западной, открытой части Карского моря и Ледовитого океана, где до той поры не проходило ни одно судно. Изучив данные дрейфа, учёные сделали вывод о существовании неизвестной земли между семьдесят восьмым и восьмидесятым градусами северной широты, которая была открыта там в 1930 году.
Шхуна «Святая Анна» навсегда ушла в область преданий, домыслов и легенд. О ней в своём романе «Два капитана написал Вениамин Каверин». Сергей любил этот роман. А когда узнал об Ерминии, которая в свои не полных двадцать лет отправилась в рискованное путешествие, чтобы помочь Брусилову, и два года провела в ледяном плену, спасая команду «Святой Анны» от смерти, сокрушался, почему Каверин обошёл вниманием подвиг этой барышни?
Радовало его, что о подвиге Ерминии не забыли. Именем отважной дочери генерала Жданко в 1953 году назвали мыс на острове Брюс в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Именем капитана Георгия Брусилова назван ледяной купол, который находится в неприступных отрогах запретной Новой Земли.
Историки Арктики, учёные, полярные лётчики и всевозможные аналитики пытаются понять, что могло случиться со «Святой Анной» и людьми лейтенанта Брусилова, выдвигают десятки гипотез и теорий, которые остаются пока без ответа… Сергей тоже увлёкся и, пролетая над бескрайними просторами, пытался отыскать следы «Святой Анны». А вдруг?
Работа в полярной авиации была почётной и престижной. Сергей гордился тем, что в их отряде летают прославленные летчики Герои Социалистического Труда Александр Сергеевич Поляков и Борис Семёновичу Осипов. Они совершили первый трансконтинентальный перелёт к Южному полюсу в Антарктиду. В декабре 1961 года на самолётах ИЛ-18 и Ан-12 они доставили на континент участников седьмой Советской Арктической экспедиции. Полёт проходил по маршруту: Москва – Ташкент – Дели (Индия) – Рангун (Бирма) – Дарвин (Австралия) – Сидней (Австралия) – Крайстчерч (Новая Зеландия) – Мак-Мердо (Антарктида) – Мирный (Антарктида). Эта воздушная эпопея с наземными посадками для дозаправки продолжалась десять суток.
Путь через четыре континента и два океана самолёт АН-12 совершил за сорок восемь часов и двадцать семь минут, а ИЛ-18 – за сорок четыре часа сорок шесть минут. Советские полярники проложили новую трассу Москва – Мирный общей протяженностью более двадцати пяти тысяч километров. Перелёт проходил на высоте девять тысяч метров над землёй.
Второго февраля 1962 года самолёты вернулись в Москву. Приветствуя участников встречи, действительный член Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин назвал героями участников памятного воздушного перелёта. Они действительно таковыми и были – командир Ил-18 Александр Поляков и командир Ан-12 Борис Осипов, члены их экипажей, да и все, кто отправился тогда в дальний маршрут, последним пунктом которого стал аэродром советской антарктической станции Мирный.
Авторитет Александра Сергеевича Полякова и Бориса Семёновича Осипова – мастеров полётов над «белым безмолвием» без ориентиров в сложнейших метеоусловиях был непререкаем. Они учили Сергея летать «вслепую». Он оценил эти уроки, когда неожиданно налетевший снежный заряд, сделал непроницаемым стекло его кабины. Хорошо, что этот экстремальный полёт длился недолго. Арктика в очередной раз проверила его на прочность. Слава Богу, он экзамен сдал.
Несмотря на всю серьёзность полётов, полярники были людьми весёлыми, давали друг другу разные прозвища: Бармалей, Слон, Мазай, Кардинал. Аэропортам тоже присваивали особые позывные для радиосвязи, которые периодически менялись. Остров Диксон называли «Волкодав». Остров Средний – «Плетёнка». За сто или сто пятьдесят километров до места назначения командир самолёта выходил на внешнюю связь, вызывал диспетчера, чтобы получить разрешение на снижение и узнать условия посадки. Переговоры слышали и другие самолёты. Однажды Сергей услышал в эфире такой разговор:
– Корзина, корзинка, я борт такой-то, прошу снижения и условия посадки.
Диспетчер ничего ему не ответил. Взволнованный голос командира зазвучал настойчивее:
– Корзинка, корзинка, корзинка… вас вызывает борт такой-то
Снова тишина в эфире. Командир уже кричал во всё горло.
– Ко-о-о-о-рзин-ка-а-а!
Сергей не выдержал, громко сказал:
– Борт такой-то, уточните позывной аэропорта по справочнику.
После небольшой паузы раздался более спокойный голос:
– Корзинка, корзинка… тьфу ты… Плетёнка, плетёнка…
Диспетчер вышел на связь, дал координаты и условия посадки. С тех пор за этим командиром закрепилось прозвище «Корзинка».
Пилотом-инструктором Полярной авиации был Александр Афанасьевич Руднев – «папа Руднев». Его экзаменов в воздухе боялись больше всех проверок и государственных комиссий. Но тот, кто успешно сдавал экзамен «папе», гордился потом этим всю жизнь. Лучшей наградой для полярного лётчика было услышать похвалу от Руднева.
– Будет из тебя толк, паренёк, – сказал он Сергею после проверки. Эти слова стали для него талисманом, спасательным кругом, не раз выручали в трудную минуту. Сергей охотно учился у Руднева. Тот отлично знал все маршруты полётов, превышение высот над уровнем моря, ширину каждого пролива и требовал от лётчиков таких же идеальных знаний.
– Арктика не смотрит на чины-кресты и не прощает даже малейшую оплошность, – постоянно повторял он на разборах. – Авиация не любит поспешность и неоправданный риск. Никогда не спешите. Готовьтесь к полётам тщательно. Я рассказываю вам то, что вы не найдёте ни в каких лётных документах Гражданской авиации. Полёты в Арктике и Антарктике выполняются по своим строго отработанным методикам, проверенным на жизненном опыте.
Сергей убедился в правильности слов «папы Руднева», когда участвовал в испытаниях лыжных шасси на Ил-14 в Антарктиде. Пилотам пришлось отрабатывать методику взлёта с коротких взлётно-посадочных полос, с довыпуском закрылков на пять – десять градусов. Такую методику предложил Валентин Иванович Аккуратов заслуженный штурман СССР – легендарная личность. Он пришёл в Полярную авиацию в 1934 года, летал в ледовой разведке. В 1936 году вместе с Героем Советского Союза Михаилом Водопьяновым совершил высокоширотный полёт на остров Рудольф в Земле Франца Исоифа, участвовал в высадке на лёд первой дрейфующей станции «Северный полюс -1», трижды летал на Северный полюс недоступности с острова Врангеля, совершил беспосадочный полёт от мыса Челюскин до Северного полюса, оттуда к Новосибирским островам, чтобы проверить работу приборов самолета при переходе из полярной ночи в полярный день.
Во время Великой Отечественной Войны Аккуратов был штурманом корабля Московской авиационной группы особого назначения. Принимал участие в эвакуации советского правительства из Москвы в Куйбышев осенью 1941 года. Летал в блокадный Ленинград и в ледовую разведку в Заполярье. Совершил восемьдесят боевых вылетов на самолёте Ли-2 и двадцать шесть боевых вылетов на самолёте-амфибии «Консолидейтед». Войну закончил в звании майора и снова вернулся в Полярную авиацию.
Вместе с гидрологами научно-исследовательского института Арктики и Антарктики Аккуратов разработал единую систему ледовых обозначений и терминологию для нанесения на карты ледовой разведки. Карты ледовой разведки с рекомендацией безопасных проходов во льдах пилоты сбрасывали на ледоколы – головные корабли караванов, идущих по Северному морскому пути.
Брали в ледовую разведку только асов своего дела. Полёты проходили на низкой высоте, что позволяло хорошо видеть, где море, а где лёд и выводить корабли на чистую воду. Шиком у полярников считалось «положить» пенал с картой ледовой обстановки к ногам капитана ледокола. Это было непросто и даже опасно. Чтобы уложить вымпел на палубу и не задеть за мачты, требовалось высочайшее мастерство, слаженная работа экипажа, точный расчёт траектории полёта с учётом скорости и направления ветра. Пилоты шли на риск, понимая, как важна для каравана карта ледовой обстановки.
Со временем появилась аппаратура, передающая информацию с самолёта на корабль, рискованные трюки прекратились. Сейчас смешно вспоминать о тех допотопных методах, но они – часть истории нашей Полярной Авиации, которая спасла много жизней.
Сегодня слова «ледовая разведка», «дрейфующая станция», «Северный полюс» практически не звучат. Их заменили слова: «нет денег», «нужно оптимизировать процесс» и т. д.
Каждый раз, когда Сергей вспоминал Север, душу переполняла щемящая тоска по юности, по тем этапам жизни, которые невозможно повторить. Сколько интересных людей, специалистов высочайшего класса встретил он на своём пути. Гидрологи могли по цвету льда определить толщину, которая лучше всего подойдёт для дрейфующей экспедиции. Они знали про лёд всё и с лёгкостью рисовали карты ледовой обстановки.
Полёты с гидрологами обычно занимали более десяти часов. У самолёта разведчика было два дополнительных топливных бака внутри фюзеляжа по девятьсот восемьдесят литров каждый, насос для перекачки топлива в основные баки, специальные устройства для аварийного слива топлива в случае отказа одного из двигателей. Снизу в хвостовой части на полтора метра торчала труба шириной в пятнадцать сантиметров. Кран для слива находился внутри фюзеляжа. Пилоты нежно называли сливную трубу «бомбосбрасыватель».
Была на самолете маленькая кухня с набором посуды и электроплиткой. Кашеварил обычно бортмеханик. Он был самым свободным. Пилоты внимательно следили за полётом, который проходил по кромке льда на высоте всего триста метров. Штурман прокладывал маршрут, бортрадист передавал данные, гидрологи неотрывно смотрели в иллюминаторы. Когда находилась подходящая льдина, на неё сбрасывали дымовую шашку. Это называлось «подкоптить льдину», чтобы облегчить её поиск второму самолёту. Точные данные льдины передавали туда, где их ждали. Всё зависело от конкретных целей и задач, которые будет решать дрейфующая экспедиция.
Бывалые пилоты сбрасывали на льдину две-три пустые бочки, смотрели чтобы рядом не было больших старых паковых льдов или остатков айсбергов, которые могут снести будущий лагерь полярников. Когда подготовка заканчивалась, давалась команда второму самолёту Ли-2 на лыжных шасси, который вылетал на льдину вместе с командой руководителя полётов. В команду входили радист с радиостанцией, тракторист с миниатюрным трактором с ковшом по прозвищу «французик», набор лопат, кирок, дымовых и топливных шашек, красная арктическая палатка Шапошникова для жилья членов экспедиции, набор продуктов, газовая горелка, дополнительные баллоны.
Посадка на льдину опасное дело. Не известно, что там под снегом: трещины или другие препятствия, которые её затруднят. После посадки обязательно проводятся промеры льда и, если всё в норме, то группа руководителя полётов готовит взлётно-посадочную полосу длиной восемьсот – восемьсот пятьдесят метров и разбивается лагерь. Когда всё готово, прилетает экспедиция с необходимым грузом и оборудованием для зимовки.
Ледовая разведка ведётся непрерывно с февраля по май практически без выходных. Зато потом лётчикам давали двухмесячный отпуск. Вернуться из белого безмолвия в цветущую майскую Москву было настоящим счастьем. Сергей помнил каждый свой весенний приезд. После обжигающего морозного воздуха запах весны казался ему дурманящим и пьянящим.
Ему не хотелось никуда спешить, не хотелось погружаться в суету. Хотелось сидеть в сквере и смотреть на красивых девушек, пролетающих стайками мимо.
Так было в тот день, когда он увидел её. Она шла по скверу в солнечной кофточке и солнечно ему улыбалась. Может, и не ему вовсе, но он почувствовал в этой девушке что-то родное-родное и оробел. Полярный волк стоял перед ней не решаясь вымолвить ни слова.
– «Капитан, капитан, улыбнитесь», – пропела она, рассмеялась. – Сергей, неужели вы меня не узнали?
Минуту он смотрел на неё во все глаза и не мог поверить в то, что девочка из соседнего дома, похожая на гадкого утёнка, стала та-а-а-кой красавицей, барышней. Её имя вертелось у него на языке, но он был нем. Она пришла ему на помощь, протянула руку.
– Я, Валя, Валентина Смирнова.
– Ва-а-а-ля, Ва-лен-тина, – Сергей наконец-то ожил, поцеловал ей ручку. – Какая вы… ты… выросла…
– Выросла, – теперь смутилась она, убрала руку, спрятала её за спину. – В институте культуры учусь на искусствоведа. А вы… ты – в полярной авиации летаешь?
– Да. Откуда знаешь?
– Мама твоя Зоя Викторовна сказала. Мы с ней часто о тебе разговариваем. Она тебя любит и ждёт из полётов. Волнуется всегда. Север – это не шуточки.
– Не шуточки, – Сергей совсем осмелел. Перешел в наступление, приобнял Валентину. – А ты меня ждать будешь? Будешь?
– Вы меня замуж зовёте, Сергей Васильевич? – краска залила Валино лицо. От этого оно стало ещё прекраснее и роднее.
– Зову, – он поцеловал её в пылающую щёку. – Сватов к тебе прислать завтра или пару дней на раздумье дать?
– Дайте, пожалуйста, – она вырвалась из его объятий, убежала, умчалась, улетела.
– Ребёнок, сущий ребёнок, – подумал он с нежностью и пошёл домой, напевая «капитан, капитан, улыбнитесь…»
Новое, волшебное чувство ворвалось в его жизнь запахом сирени и солнечным светом. Привыкший к чёрно-белому безмолвию Севера, он опьянел от обилия красок и света, соединившихся в имени Ва-лен-ти-на…
В солнечной кофточкеС солнечным взглядомЛёгкой походкой по скверу идёт.Вижу её, и душа замирает,Вижу её, и сердце поёт.Солнечным зайчиком мчится навстречуСолнечной девочке радость моя,Птицы на все голоса повторяют:– Как хорошо, что я встретил тебя!Любовь
На следующий день Сергей пошёл к Смирновым с букетом цветов. Пили на кухне чай с вишнёвым вареньем без косточек – неслыханная роскошь. Разговор поначалу не клеился, оба смущались.
– Сергей, расскажи про Север, – попросила мама Валентины Ангелина Андреевна. Он воспрял духом. Про Север он может говорить часами, если не остановят.
– Белое безмолвие пугает и завораживает одновременно. Тот, кто попал туда однажды, стал пленником холодной, безжизненной красоты. Возвращаться обратно полярники не торопятся.
– А вы? – в голосе Валентины прозвучал испуг. – Ты хочешь остаться там?
– И да, и нет, – он улыбнулся. Понял, он ей не безразличен. Она тоже переполнена эмоциями. В ней горит огонь любви. Надо его разжечь ещё сильнее. Он положил руку ей на руку. – Валечка, на Севере я скучаю по Москве, по ярким краскам и белой сирени. А здесь мне не хватает суровой сдержанности Арктики. Здесь я словно не в своей тарелке. Смущаюсь, как юнец безусый. Предложение пришёл тебе сделать и… – хмыкнул. – Одним словом, поедешь со мной? При свидетелях спрашиваю.
– Ой, Серёжа… это так неожиданно, – Валентина покраснела. Он понял, что с матерью они этот вопрос уже обсудили. Оставалось узнать, каким будет положительный ответ. Серёжа прозвучало так нежно, что он осмелел, заговорил с жаром.
– Ангелина Андреевна, я зову вашу дочь с собой, потому что не знаю, как я теперь жить без неё буду. Ничего между нами не было, а такое чувство, словно было, было, было. Мы такие родные с Валюшей, не разделить. Она это тоже чувствует. Так ведь, Валечка?
– Так, – голос дрогнул слёзы блеснули в уголочках глаз. – Так… Мне страшно от этих новых чувств… Я Севера боюсь. Я тут читала про Ерминию Жданко, которая в 1912 году на шхуне «Святая Анна» пошла покорять Северный полюс и пропала без вести. Шхуна вмерзла в лёд, и след юной барышни затерялся во льдах.
– Глупенькая ты моя, – Сергей погладил Валю по руке. – Про Ерминию мы тоже знаем. Поиски пропавшей экспедиции ведутся до сих пор. Мало того, их ведёт наш замечательный штурман Аккуратов, который знает Север, как свои пять пальцев. Но мы не об этом. Ерминия наша на шхуне в Северный ледовитый океан пошла в компании двадцати четырёх мужчин. А мы на самолётах летаем над северным безмолвием. Авиация – это другой вид транспорта. Да и время другое уже, не 1912 год.
Мы – икары небесных широт, покорители Арктики и Антарктики. Мы дружим с пингвинами и белыми медведями. Северным сиянием любуемся. К тому же, ты на земле будешь жить, в тепле и уюте, накудренная, напудренная.
– Северное сияние – это волшебно… – сказала молчавшая до сих пор Ангелина Андреевна. – Только вот кудри Валя не завивает и пудрой не пудрится. Естественной красотой богата…
– Простите, это я пошутил неудачно, – он смутился. Отругал поспешный свой язык. Вспомнил «папу Руднева», вздохнул. Приготовился выдержать бомбардировку тёщи.
– Пойми нас правильно, Серёжа, Валечка ещё юная совсем. Она не готова сломя голову лететь в неизвестность, – голос Ангелины Андреевны звучал властно, убедительно.
– Вы мне отказываете? Отворот – поворот, значит, – Сергей поднялся.
– Да нет же, нет, – Валя вскочила. – Я хочу быть с тобой, но… – плюхнулась на стул, закрыла лицо руками, всхлипнула. – Не могу я всё бросить сейчас. Мне ещё четыре года учиться. Как я уеду? Куду? Смогу ли я жить вдали от родных?
Её простые вопросы Сергея отрезвили. Он понял, насколько нелепо звать девушку туда, не зная куда, в Полярную ночь и одиночество. Они живут в промёрзшей гостинице по пять – шесть человек в комнате. Они летают по десять – двенадцать часов, а потом валятся без сил. Что будет делать она? Сидеть у окошка и ждать? Нет, пусть уж лучше с мамочкой в Москве живёт в тепле и любви, наслаждаясь солнечным светом и буйством красок.
– Прости, раскомандовался я тут, – сказал он, проведя рукой по её волосам. Улыбнулся – нежнейший шёлк. – Вы правы. Север характер проверяет. Только самые отважные его покорить могут. А ты, Валечка, барышня утончённая, замёрзнешь там. Да и жить пока негде. Некуда мне молодую жену привести. Не торопись. Учись…
– Спасибо, – она встала, прижалась к нему. Огненная вспышка ослепила обоих. Сергей целовал её мокрое от слёз лицо и никак не мог найти губы. Ангелина Андреевна перестала дышать. Ей передалась энергия любви и счастья дочери. Возможно, она в этот момент вспоминала свой первый поцелуй.
– Девочки, кто это у нас в гостях? – громкий мужской голос заставил Сергея и Валентину разжать объятия. В дверном проёме появился высоченный седой генерал. Проём был явно ему мал. Голова генерала прижалась к груди, потом вытянулась вперёд и только потом в кухню вошёл будущий тесть.
– Здравие желаю, товарищ генерал! – Сергей вытянулся во фрунт. Взгляд у генерала был суровым, желваки ходили на скулах. В любой момент револьвер достанет и пристрелит паршивца. – Я – Сергей Звонарёв – командир корабля Ил-14, лётчик Полярной авиации.
– Наслышан о вас, молодой человек, – лицо генерала подобрело. Он пожал Сергею руку. Сел сам, указал Сергею на стул напротив. – Надолго к нам?
– Через месяц назад. Ледовая разведка – дело серьёзное. Длинных отпусков нам не дают.
– Через месяц… Валечка, чаю мне налей. Что-то у тебя руки дрожат и глаза на мокром месте. Влюбилась что ли?
– Папа? – она нахмурилась.
– Я знаю, что я – твой па-па, папка, – рассмеялся. – Стесняться своих чувств не нужно, детка. Правда, мать? – та кивнула. Было видно, что без разрешения в доме никто слова сказать не может. Генерал всегда прав. Впрочем, как и командир. В этом они с тестем похожи.
– Первая любовь – прекрасное чувство, – генерал приобнял дочь. – Лётчик какой к тебе в гости пришёл, в женихи метит. Рада? – она кивнула, не замечая сарказма в его словах. – Но ты ведь тоже, не так себе птичка, дочка генеральская! Ухажёр твой папочке с мамочкой понравиться должен, чтобы они разрешение вам дали на объятия и прочие шуры-муры, – строго посмотрел на Сергея. – Не вздумай раньше времени руки распускать, летун. Знаем мы залётных таких… Если узнаю… – сжал увесистый кулак перед носом Сергея. – Понял?
– Пап, перестань, пожалуйста, – Вале стало стыдно за отца. – Сергей мне предложение сделал.
– Пред-ло-же-ние… – генерал хохотнул. – И что ты ему ответила?
– Я люблю его, папа, – выкрикнула Валя, схватив Сергея за руку. – Я с ним на Север поеду в Антарктиду.
– Героиня, – генерал рассмеялся от души. – Дурочка ты моя. Мала ты ещё, чтобы такие героические поступки совершать. Да и лётчик твой – козявка ещё. Козявка…
– Спасибо на добром слове, товарищ генерал, – сказал Сергей, поднявшись. Всё внутри кипело и клокотало, как в жерле извергающегося вулкана, но он сдержался. Вспомнил свою Анну Ивановну Шмелькову, которая его первое время «козявкой» называла, а потом изменила своё отношение к молодому, перспективному лётчику. Благословила его на полёты в Полярной авиации. И «папа Руднев» его хвалит. Значит, не такой уж он никчёмный человечек, как думает генерал. Насмешки его только силы и уверенности капитану добавляют. Валя его любит. Она это громко заявила. Значит, печалиться не стоит. Всё у них сложится. Вместе они все невзгоды преодолеют. Рука у неё сильная. Держит его крепко, не отпустит ни за что.
– Разрешите идти, товарищ генерал? – Сергей посмотрел на Валю.
– Идите, – генерал обмяк. – Ангелина, накорми меня. Я голодный, как собака и злой, как тысяча волков…
Валентина и Сергей вышли из кухни. Она закрыла за собой дверь, шепнула:
– Не сердись на папку, пожалуйста. Он хороший. Ты иди. Я к вам сама зайду… сегодня вечером. Иди, – чмокнула его в щёку.
Сергей лежал на кровати, смотрел в потолок. В груди что-то тонко-тонко ныло. Монотонный этот звук нарастал, превращаясь в недоброе предчувствие. Сергей думал о странном наваждении, произошедшем с ним. Сравнивал своё состояние с болезненным бредом, от которого нужно поскорее избавиться. Зачем ему жена? Обуза. Чемодан без ручки, который придётся оставить в Москве. Он уедет один, а её закружит весёлая, беззаботная жизнь: танцульки, кавалеры, соблазны… А у него там, на Севере, соблазнов нет. Там сложная, опасная работа, вечная мерзлота и холод. Нет, ещё есть повар дядя Вася со своим вкуснейшим борщом.
Сергей встал, подошёл к окну. Через двор бежала Валя, Валечка… Её легкое цветастое платье взлетало вверх-вниз, как крылья бабочки, оголяя колени. Здравый смысл отступил. Голос любви зазвучал в полную мощь! Сергей помчался Вале навстречу.
Они стояли в подъезде, прижавшись друг к другу. Он целовал её мокрое от слёз лицо и никак не мог найти губы, как тогда, на кухне. Валя была невысокого роста и от смущения опускала голову всё ниже и ниже. Шаги, поднимающегося по ступеням человека, заставили их разжать объятия, войти в квартиру.