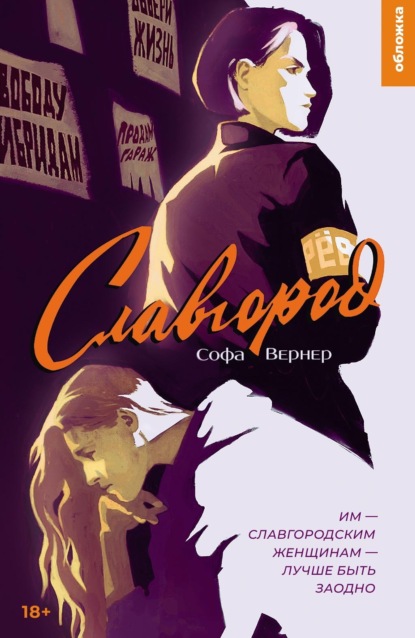Полная версия
Ход до цугцванга
Он стащил меня с Агафонова, вздернул за пиджак, как нашкодившего кота за шкирку. Глаза его пылали злостью, а между бровей залегла толстая глубокая морщина. От него воняло потом, и я невольно сделал шаг в сторону.
– Восьмой класс! – взревел он. – А деретесь, как в детском саду! Я сообщу классному руководителю!
У него перехватывало дыхание, поэтому он говорил обрывисто.
– Она пусть! Звонит родителям! Обоих! К директору!
Агафонов нахмурился. Подбородок у него задрожал, и Инесса Сергеевна тут же его приобняла.
– Ну что ты, ты не виноват… – шептала она ему на ухо, и это были те немногие слова, которые удалось разобрать.
Я молча подхватил рюкзак. Одноклассники, сбившись в кучу, смотрели затравленно и враждебно, как будто я мог кинуться на них просто так, потому что мне захотелось. Незаметно для Инессы Сергеевны я показал им средний палец и вышел из кабинета. Кожа головы еще болела из-за того, что Агафонов тянул за волосы, и правая скула неприятно ныла – все-таки этот уродец приложился к ней кулаком.
В кабинет директора я зашел первым, пока Агафонову вытирала сопли литераторша. Раздраженно пнув стул, я плюхнулся в него, едва не отбив задницу о плотное глянцевое сиденье, и скрестил руки на груди.
Директор нехотя оторвал взгляд от лежавших на его столе в беспорядке бумаг и зыркнул на меня. Молчание повисло нехорошее: я точно знал, что они опять заведут речь о моем отчислении из лицея. Так было в прошлом году, когда Инесса Сергеевна выставила мне два за год по литературе. Она обозвала меня неучем в сотый раз, а я ее – козой драной. Правда, про себя, а не вслух.
Агафонов зашел вместе с учительницей литературы, и она держала его за ручку, как маленького. Он зло таращился на меня, кривил свои пухлые губы, а покрасневшие поросячьи глазки точно хотели прожечь во мне дыру. Он сел напротив. Я дернулся в его сторону, и тот, испугавшись, отшатнулся и чуть не свалился со стула. Он казался таким уморительным увальнем, что я засмеялся.
– Грозовский, – предупредительно зашипел директор, и я замолк, но ухмыляться не перестал.
Отец ввалился в кабинет подобно грозе без штормового предупреждения, распахнув дверь и даже не постучавшись. За ним тащилась мать Агафонова, и я видел ее впервые за все время обучения в лицее. Ее светлые волосы аккуратными прямыми прядями лежали на плечах, и она, едва успев зайти в кабинет, кинулась к сыночку, причитая:
– Солнышко… Да что ж это такое… Приличный лицей… Батюшки святые.
Папа же молча встал за моей спиной и стиснул плечо. Я так и не понял, поддерживающий это был жест или предупреждающий. Ухмыляться больше не хотелось, и я уставился на собственные ладони.
– Рудольф под угрозой отчисления, – оповестил завуч, а потом внимательно посмотрел на меня. – Может, скажешь что-нибудь?
Поведя плечами, я мельком скользнул по нему взглядом.
– Я не виноват. Агафонов первый начал.
– А в драку кто полез? Инесса Сергеевна сказала, что ты!
Пухлый палец завуча ткнулся почти мне в лицо, и я отшатнулся к отцу.
– Я, но он меня оскорблял. И моего отца тоже.
– Ложь! – воскликнула Инесса Сергеевна. – Мы обсуждали «Недоросля» Фонвизина, Агафонов просто пошутил. Да, возможно, неудачно. Но это не повод распускать кулаки! Все можно решить словами!
Я потупился и замолчал. Директор, до этого что-то увлеченно писавший в своем ежедневнике, поднял взгляд на папу.
– Это недопустимо, Всеволод Андреевич. Мы закрываем глаза на многое, но…
– Травля в классе – именно то, на что вы закрываете глаза? – перебил его отец. – Рудольф не в первый раз говорит, что учитель литературы относится к нему предвзято и с негативным настроем, что в классе его дразнят, а педагоги закрывают на это глаза!
Я ошалело посмотрел на отца. Директор замолчал. Завуч, тяжело дыша и постоянно утирая платком пот с сального лба, тоже заткнулся.
– Он распускает кулаки… – начала было мать Агафонова. – В приличном лицее. Батюшки мои.
Мне показалось, что еще немного, и она начнет креститься. Отец даже головы в ее сторону не повернул.
– Я напишу заявление о травле, – пригрозил папа, глядя директору в глаза.
Тот опустил взгляд. Я с детства знал, что один звонок «кому надо» – и все проблемы решаются. Директор раздражающе барабанил пальцами по столу. Видать, он тоже знал об отцовских связях.
– Всеволод Андреевич.
– Мы поговорим с Рудольфом сами. Но не сметь! Обижать моего ребенка я не позволю. И скажите спасибо, что я не требую для сына публичных извинений перед всем классом.
Он вышел не прощаясь. Схватив рюкзак, я посеменил за ним, еле переставляя ноги. Плечи отца подергивались, а шаги были крупными и рваными. Я не успевал за ним, и мне пришлось побежать.
Мы сели в машину. Ехали молча. Отец дергал руль в разные стороны так резко, что на поворотах приходилось держаться то за бардачок, то за ручку над дверцей. Я весь съежился. Не до конца застегнутый рюкзак с учебниками упал в ноги. Никогда мы так быстро не добирались из школы домой, даже когда я раньше опаздывал на секции. Папа проносился на все желтые сигналы светофора, иногда на красные. Его щеки горели алым, и я был рад, что не видел его взгляда.
Он бросил машину прямо у крыльца. Выходить не хотелось. Я мечтал спрятаться под сиденье и никогда оттуда не выбираться, стать прозрачным и незаметным, но под тяжелым отцовским взглядом я подобрал-таки рюкзак. Тот выскользнул из моих рук, и ручки, карандаши, тетрадки – все разлетелось прямо по асфальту возле машины.
Первое, что я почувствовал, – острая, жгучая боль в щеке. Он ударил меня раскрытой ладонью, попав в уголок рта. Тонкая кожица треснула, и тут же засочилась кровь. Я застонал и присел за тетрадками, но папа опять вздернул меня на ноги.
– Паршивец… Дрянь…
Он ударил меня снова, но на этот раз по второй щеке. Голова мотнулась в сторону, и я захотел, чтобы она оторвалась и мои мучения закончились. Но судьба не была ко мне милостива: рука отца опять поднялась в замахе. Раздался сильный шлепок, и я, не выдержав, завалился на колени. По щекам потекли слезы, смешиваясь с кровью на подбородке.
– Почему ты постоянно меня подводишь?! – заорал он, схватив меня за рубашку.
Я только всхлипнул и безвольно опустил голову. Охранники выскочили из будки, но молча, со стороны наблюдали за нами. Один попытался дернуться ко мне, но второй придержал его и небрежно махнул рукой.
– Я не хотел… – пролепетал я.
Отец ударил еще раз, и с моих губ сорвался острый, громкий вскрик.
– Ты должен соответствовать! Своей фамилии! А ты ее только позоришь! Почему лицей во второй раз ставит вопрос о твоем отчислении?!
Слезы бежали по моим щекам нескончаемым потоком, пока отец крепко, до боли сжимал мои плечи через ткань расстегнутого бежевого пальто.
– Не реви! Не реви, щенок, научись отвечать за свои поступки!
Мои ноги совсем подкосились и ослабели, поэтому я повис в его руках. Отец не стал меня держать – швырнул прямо на асфальт. Локоть обожгло болью, и теперь на рукаве пальто, а может, даже и рубашки, точно была дырка.
Он обошел меня, захлопнув дверь пассажирского сиденья, и пнул рюкзак прямо мне под ноги. Мотор «мерседеса» опять зарычал. Я не успел и голову поднять, а отец уже сорвался с места, проезжая в услужливо открытые охранниками ворота.
Лицо пылало болью. Разбитые губы опухли, и я почти не мог ими шевелить. На помощь мне выскочила Ира – несмотря на приближающийся ноябрь, в одних домашних тапках и униформе. Она нежно приподняла мое лицо за подбородок, и в глазах ее блеснули слезы.
– Солнышко… – прошептала она.
И я жалко уткнулся ей в плечо, запачкав светлый воротник платья бордовыми пятнами.
Ира помогла мне встать. Она собрала рассыпавшиеся тетрадки, бережно сложив их в рюкзак, а потом, придерживая меня, повела к дому. Охранники давно скрылись в будке, а от присутствия отца остались разве что расцветающие на моем лице синяки. Ира, когда мы зашли в дом, стянула с меня пальто, которое неопрятно соскользнуло на мраморный пол бесформенной кучей ткани.
– Надо умыться, – шепнула она, придерживая меня за пояс.
Поскуливая, я направился к ванной. В зеркало смотреться не стал: хватило того, что в белоснежную керамическую раковину закапала кровь. Ира взяла чистую одноразовую тряпочку из ящика и смочила ее прохладной водой. На тонкой безворсовой ткани после соприкосновения с моим лицом тоже остались бледно-красные разводы. Я склонился над раковиной ниже, резко выкрутив ручку крана вправо, и дождался, пока на мои пальцы побежит ледяная струя. Набрав полные ладони, я ополоснул лицо. Розовая вода потекла в слив, и я сплюнул. Во рту крови, к счастью, не было. Языком я скользнул по зубам, проверяя, все ли на месте.
По лестнице со второго этажа неуклюже бежал Рэй, радостно потявкивая, но у меня не было сил склониться к нему и погладить. Тогда он начал тереться об мои ноги, не желая пропускать на кухню.
– Я найду аптечку, – негромко сказала Ира, усадив меня в гостиной.
– Ага, – шепнул я.
Рэй запрыгнул ко мне на колени, и я мягко потрепал его за ушком. Он хотел было вылизать мое лицо, но бдительная Ира, вернувшаяся с ватой и хлоргексидином, быстро приняла меры.
– Инфекция! – воскликнула она, спихивая щенка с моих колен.
– Поласковее, – нахмурился я. – Он же просто маленький и радуется.
Хлоргексидин почти не щипал, больно было от прикосновений. Я то и дело судорожно втягивал в себя воздух сквозь зубы, тихо шипел и все время пытался увильнуть от Ириной руки. Она кружила возле меня, не позволяя вывернуться, и требовала сидеть ровно, ведь я уже не маленький, по ее словам. Не подействовало – я крутился и хныкал от боли в разбитом лице.
– Тебе надо лечь, – наконец убрав вату и хлоргексидин подальше, вздохнула Ира. – Вдруг сотрясение?
– Меня не тошнит, – пожал я плечами. – Голова не кружится. Других симптомов тоже нет.
– Все лицо в синяках будет…
– Зато в школу не пойду, – внезапно нашел плюс я. – Мне совсем не хочется туда ходить.
* * *Простынь подо мной опять взмокла от пота, пока я ворочался, пытаясь уснуть. Лицо все еще ныло, и спать на боку, уткнувшись разбитой скулой в подушку, было больно. Все тело горело, не помогала даже прохлада из открытого на проветривание окна. Комната давно погрузилась во мрак. Я не спускался к ужину и отца не видел с обеда – он не заходил ко мне в комнату, а я не рвался из нее выбираться. Забытый «Гарри Поттер» валялся у тумбочки.
Единственным, кому безмятежно спалось ночью, был Рэй. Он свернулся клубком в моих ногах, прямо на одеяле, и чуть похрапывал во сне. Дотянувшись, я коснулся кончиками пальцев его шерстки, погладил, и щенок встрепенулся, доверительно подставляя макушку под мою руку.
Желудок заурчал, стянутый голодом, и я с трудом спустил ноги с кровати, засунув их в мягкие уютные тапки.
– Пойдем, – шепнул я Рэю. – Отрежу тебе колбаски.
Пока отец и Ира спали, можно было угостить Рэя чем-нибудь очень вкусным – обычно он питался только сухим кормом. Не знаю, понял ли щенок слово «колбаска», но уж очень радостно он соскочил с кровати и ринулся к двери. Я, шаркая ногами, пошел за ним.
Наши с отцом спальни располагались недалеко друг от друга, через дверь, ведущую в ванную комнату. Обычно я слышал, когда отец возвращался, а он контролировал мой режим.
Его комната оказалась приоткрыта, хотя обычно папа плотно захлопывал дверь, иногда даже запирал ее на щеколду, особенно по вечерам, будучи уставшим после работы. Из спальни доносился его тихий, но рассерженный голос.
– Я все для него делаю, все! – агрессивным шепотом говорил он кому-то. – Но сегодня опять сорвался…
Я прислушался. Рэй тоже замер у моих ног, выжидающе подняв голову. Сделав несколько аккуратных шагов, я замер у отцовской двери.
– Рудольф все время меня выводит! Почему он не может быть просто нормальным, обычным ребенком?!
– Он и так ведет себя как обычный ребенок, Всеволод… – отвечал ему женский преломленный сотовой связью голос.
С опаской я заглянул в тоненькую щелку между дверью и косяком. Папа сидел на кровати еще в костюме, и телефон, включенный на громкую связь, валялся рядом. Отсюда было видно, как у него тряслись руки, а правый глаз слабо подергивался.
– Нет, он ведет себя отвратительно! Он ужасно учится, дерется, дерзит!
– У него переходный возраст… – мягко настаивала женщина.
– Я опять не сдержался! Я же не хотел, не хотел его и пальцем трогать! Но он вывел! Он сам виноват!
Перестав дышать, я вслушивался в каждое отцовское слово и никак не мог понять, с кем он говорит. Его собеседница молчала. Рэй тихонько поскуливал и мог выдать наше присутствие, поэтому я еле слышно шикнул на него.
– Может, с ним стоило поговорить? – наконец опять раздался женский голос. – Что вы чувствуете, Всеволод?
Теперь замолчал отец.
– Вину, – помедлив, выдавил он. – Не могу на него смотреть. Я опять сорвался и не знаю, как это исправить.
Папа шумно выдохнул и откинулся на кровать прямо в костюме. Он положил телефон себе на грудь, чтобы лучше слышать собеседника. Чудом он до сих пор меня не заметил. Рэй гавкнул, и я отшатнулся в сторону.
Теперь мы точно привлекли его внимание. Окончание разговора я уже не уловил, потому что рванул к лестнице, боясь быть застуканным за подслушиванием. Собака ломанулась за мной. Дверь отцовской спальни скрипнула, открываясь, и он показался на пороге. Я виновато посмотрел на него, но папа скользнул по мне отрешенным, невидящим взглядом.
– Ты почему не спишь?
– Я не ужинал и теперь хочу есть, – брякнул я первое, что пришло в голову.
– В холодильнике, кажется, еще осталось рагу с курицей, – отстраненно произнес отец. – Разбудить Иру, чтобы она подогрела?
– Пусть спит, я сам!
Кивнув отцу, я направился по лестнице на первый этаж. Щенок давно ждал меня внизу, неслышно сбежав по ступенькам. Я почти преодолел половину спуска, как услышал отцовский оклик.
– Рудя, – позвал он.
Я удивился: обычно папа называл меня только Рудольфом и никак иначе.
– Да?
– Через неделю ты едешь в Будапешт на международный турнир. Хочешь, купим тебе новую шахматную доску?
Глава 5
Папа купил мне целых три шахматные доски. Одну с красивыми, сделанными под мрамор полями и такими же мраморными фигурами. На белых виднелись черные и темно-коричневые прожилки, а на черных – светло-бежевые. Вторая доска была сделана из красного дерева, покрыта дорогим лаком, а фигуры на ней возвышались тяжелые, из настоящего металла, и такие реалистичные, будто я держал в руках искусно отлитых оловянных солдатиков.
Кроме двух больших досок, папа подарил мне новую карманную. Она была чуть больше моей старой, уже почти развалившейся, и сделана не из дешевого пластика, а вполне себе приличного. Именно на ней я двигал фигуры, распластавшись на кровати в комнате у своего единственного друга Коли. Он в этом году стал первокурсником филфака, и я попросил помочь мне с литературой.
– Рудь, если ты не будешь слушать, никогда не осилишь литературу, – окликнул меня Коля, как только я передвинул белого коня на f3, решив сыграть испанскую партию[11]. – В ней думать надо. Над стихотворениями, произведениями, смыслами… А ты на шахматы отвлекаешься.
Коля был моим старшим товарищем, а его отец – близким другом моего папы. И, несмотря на подкрадывающийся вечер, я сидел у него в гостях, и никто не гнал меня домой. В Колиной комнате было тепло и уютно: стены оклеены приятными бежевыми обоями, напоминавшими декоративную штукатурку «короед», на полу расстилался светлый ковер с длинным ворсом, а лучи закатного солнца падали мне прямо на лицо.
– У меня турнир через неделю, – важно заявил я. – Улетаю в Будапешт.
– Зачем тогда тебе вообще литература? – с недоумением поинтересовался Коля. – Ты же должен понимать, что она развивает твой мозг, и.
– Чтобы Инесска не орала, – перебил его я, – и чтоб отец не ругался. История мне нравится куда больше литературы. И вообще, я читаю! Просто не эту муть.
– Классика не муть! – возмутился Коля.
– Еще какая! – припечатал я, одним махом скинув фигуры с доски, а потом расставляя их по новой. – Хочешь сыграть?
– Чтобы ты опять влепил мне детский мат? Нет уж! – недовольно хмыкнул Коля. – Давай-ка лучше Пушкина выучим, тебе его сдавать.
Я недовольно застонал и откинулся на подушку. Коля же выжидающе смотрел на меня.
– Я помню чудное мгновенье[12], – пробормотал я себе под нос без выражения. – Передо мной явилась ты. Что там. Блин.
– Как мимолетное… – подсказал Коля.
– Как мимолетное… – повторил я, поморщившись, – виденье!
– Как гений чистой красоты, – рассмеявшись, закончил друг. – Нет, Рудь, так дело не пойдет. И вообще, если ты стихотворение выучить не можешь, как запоминаешь такие сложные шахматные комбинации?
– Это другое. Шахматы, они. Там тактика есть, а не просто рифмы. Тактика! Представь, Коль, что ты полководец, и тебе нужно каждый шаг продумать и взвесить. Надо думать на три хода вперед противника.
– Я понял, понял, – отмахнулся Коля, зевнув.
Он пытался не смотреть на мое лицо и поэтому старательно отводил глаза. Увидев меня впервые сегодняшним вечером, друг ахнул от ужаса, но по моему взгляду понял, что комментариев я слышать не хочу. И он молчал, пока наш разговор окончательно не зашел в тупик. Я вновь расставил фигуры на шахматной доске, влепив сам себе мат за черных.
На улице практически стемнело, и я написал отцовскому водителю с просьбой меня забрать.
«Как раз я успею доиграть партию к тому моменту, как он приедет», – решил я.
– Давай я поговорю с отцом, – внезапно предложил Коля. – Он должен послушать и поговорить с твоим папой… Рудь, у тебя все лицо в синяках. Это ненормально.
– Не надо! – воскликнул я, подскочив на кровати так, что фигуры повалились и раскатились в разные стороны. – Ты не посмеешь. Не лезь.
– Ты так сильно боишься.
– Не боюсь! Просто правда может стать хуже. Он решит, что я жалуюсь. – Я шмыгнул носом. – А я не жаловался! И да, я вчера его разговор слышал. С какой-то женщиной. Он говорил, что виноват.
– Это не отменяет отвратительности его поступка, – жестко сказал Коля. – Не в первый раз ведь происходит. Рудольф, может, все-таки через отца.
– Не лезь! – рявкнул я и резко стукнул кулаком по шахматной доске. – Ты плохо слышишь? Это сделает хуже!
Коля вздрогнул.
– Не кипятись. – Он изумленно вскинул брови. – Как хочешь, Рудь, только успокойся, пожалуйста.
Он положил ладонь мне на плечо, чуть сжав, но я ее сбросил и быстро начал собирать рассыпавшиеся фигуры. Наспех скинув их внутрь доски и защелкнув ее, я схватил телефон.
– Чего ты так разнервничался? – удивился Коля. – Извини.
– Мне пора.
Я спрыгнул с кровати и написал сообщение водителю. Коля поднялся за мной, отложив учебник по литературе в сторону.
– Давай я хотя бы попробую узнать, с кем он разговаривал?
Коля так расстроенно прислонился к косяку, что мне даже стало его жаль. Поэтому я резко кивнул, сунув шахматную доску в рюкзак, и зашагал к двери. Мне становилось страшно: если в голову Коли сейчас закрались такие мысли, то он наверняка может самовольно решить мне помочь.
Я не нуждался в его помощи. Я вообще ни в чьей помощи не нуждался.
– Пока, – бросил я, второпях натягивая утепленные ботинки. В первых числах ноября стояла слякоть, пачкавшая обувь, и промозглая прохлада вынуждала посильнее кутаться носом в кашемировый шарф.
Дверь за моей спиной захлопнулась, а ответа от Коли так и не последовало. Сердце неприятно заныло от обиды, но ведь я сам был виноват, что его оттолкнул, накричал, отказался от помощи. Машинально я прикоснулся к синяку на скуле кончиками пальцев, скользнул до разбитой губы, а потом спиной прижался к отделанной керамогранитом стене парадной.
Водитель наверняка уже приехал, но я медлил: еле переставлял ноги по ступенькам, а дверь, ведущая из парадной, оказалась до того тяжелой, что пришлось навалиться на нее всем телом.
Подняв голову, я заметил, что Коля наблюдал за мной из окна. Вряд ли с пятого этажа он мог заметить мое виноватое выражение лица, но я все равно скорчил гримасу и помахал ему рукой. И Коля все-таки помахал мне на прощание тоже.
* * *Александр Иваныч курил в форточку, сидя на пластиковом подоконнике, и его сигарета тлела быстро. О том, что он здесь курит, никому нельзя было рассказывать, но я никогда не подставлял близких, а тренер стал мне почти вторым отцом. Дым не мешал – он тонкой струйкой вылетал из форточки, а запах рассеялся по комнате и был еле заметен.
Близилась поездка в Будапешт. Александр Иваныч стал не только моим тренером, но и сопровождающим, и представителем – отец уже оформил все бумаги. Он никогда не летал со мной на турниры, и это радовало. Я никак не мог сосредоточиться на игре, если отец сверлил мою спину требовательным, хищным взглядом.
– В первом туре буду играть защиту Каро – Канн[13], – решительно сказал я.
– Не лучшая идея, – нахмурился тренер, затушив сигарету о подоконник. – Если ошибешься, то не разовьешь слонов. Потом увязнешь в миттельшпиле. Рискованно. Как насчет славянской защиты?[14]
Александр Иваныч обошел мой стол с шахматной доской и сел напротив. Он выставил в изначальную позицию все фигуры – и черные, и белые. Я поглядывал на него из-под отросшей русой челки и обкусывал кожицу возле ногтя на большом пальце. Сам ноготь я сгрыз почти до мяса.
– Смотри, даже если ты будешь играть черными… – Он быстро передвинул белую пешку на d5, а черную на с6. – Сможешь потом развить фигуры и занять центр. Славянская защита будет надежнее.
Он разыграл первый вариант развития партий – за ним я еще следил, а за вторым наблюдал так, из-под полуприкрытых глаз.
– Ты слушаешь?
– Я буду играть защиту Каро – Канн, – отмахнулся я небрежно.
Александр Иваныч свел брови к переносице и устало потер глаза.
– Хорошо, не хочешь славянскую защиту, как насчет сицилианской?[15] Это позволит тебе быстрее развить коня и завладеть центром, в отличие от…
– Каро – Канн поможет мне развить и коня, и слона! – перебил я. – Хочу играть этот дебют!
– Да что ж ты такой упрямый! – всплеснул руками Александр Иваныч. – Ты же понимаешь, что Каро – Канн твоя не самая сильная сторона! Если проиграешь первый тур, то вылетишь из международного турнира быстрее, чем я успею сказать «шах и мат»!
Тренер распалился до горячки. Он рукой случайно задел коня, и тот, звякнув, покатился по столу. Я успел его схватить прежде, чем тот грохнулся на пол. Жалко было бы разбить такую фигуру – из дорогого дерева, с красным фетровым основанием.
– Ладно, – согласился я. – Давайте так. Мы играем партию сейчас, и если я хорошо сыграю этот дебют, то мы оставим его. А если нет, то, так уж и быть, возьмем на вооружение «сицилианку».
Александр Иваныч фыркнул и сделал первый ход белой пешкой на е4, а я ответил ему черной на с6. Я раскачивался на деревянном стуле на хлипких ножках, отталкиваясь от пола и иногда придерживаясь пальцами за кромку стола.
– Сосредоточься! – рыкнул тренер, и я покорно сел ровно.
На пятом ходу я уже вывел двух коней, а Александр Иваныч развил обоих слонов. Под моим контролем находился центр, и я почувствовал, как у меня взмокла спина. Рубашка неприятно прилипла к тощим лопаткам, но это не помешало сосредоточиться: я уверенными движениями переставлял фигуры и с азартом хлопал по шахматным часам.
В миттельшпиле я занял свободные вертикали ладьями, сохранил слонов и шагнул конем на поле с3, одновременно напав на ладью и поставив королю шах.
Александр Иваныч вздохнул.
– Ладно, играй свою Каро – Канн.
Я расплылся в довольной улыбке.
– Еще партию?
* * *Меня разбудили в шесть утра наглым постукиванием по деревянной двери моей комнаты. Я с трудом продрал глаза, закутавшись по самый нос в одеяло. За окном еще не рассвело, и в комнате повисла темень. На ощупь я стукнул по кнопке ночной лампы, и пространство озарил слабый свет.
– С днем рождения, – улыбнулась Ира, заглянув в комнату.
Она держала в руках маленький шоколадный торт, на котором стояли крупные свечи в виде цифры пятнадцать. Они быстро плавились, их позолота скатывалась, оставляя после себя обычный светло-молочный воск.
Ира шла по комнате медленно, чтобы огоньки не погасли, и, казалось, даже задержала дыхание. Я потянулся было к торту, чтобы задуть свечи, но Ира предупредительно покачала головой.
– А желание ты загадал?
Опомнившись, я выпустил набранный в легкие воздух в другую сторону. Свечи продолжали плавиться, и пара капель воска уже попала на шоколадную глазурь.
«Хочу стать гроссмейстером», – загадал я. Но решил, что это желание сбудется еще очень нескоро.
«Хочу выиграть турнир».
И опять передумал. Я знал, что у меня большие шансы победить, несмотря на то что это мой первый международный турнир.