
Полная версия
Танцовщица
Мой отъезд особенной тревоги у Элизы не вызвал, в искренности моих чувств она абсолютно не сомневалась.
Предстояло не столь уж далекое путешествие по железной дороге, поэтому особых сборов не требовалось. Я уложил в чемоданчик взятую напрокат черную пару, словари и свежий номер «Альманаха Гота»[13]. Принимая во внимание положение Элизы, я опасался, что мой отъезд может отразиться на ее здоровье, и позаботился о том, чтобы заблаговременно отправить ее с матерью погостить к знакомым. Сам же запер квартиру и оставил ключ у сапожника в нашем подъезде.
Что рассказать о поездке в Россию? В роли переводчика я как бы оторвался вдруг от грешной земли и вознесся к облакам. В свите министра я прибыл в Петербург и окунулся в водоворот событий. Ослепительное убранство дворца являло собой парижскую роскошь, перенесенную в царство льдов и снегов. Отсвет бесчисленных свечей играл на эполетах и орденских звездах. Придворные дамы, расположившись возле затейливых каминов, обмахивались веерами, словно мороза не было и в помине. В свите министра я оказался наиболее сведущим во французском языке, поэтому мне пришлось основательно крутиться, чтобы обеспечить взаимное понимание хозяев и гостей.
Элизу я не забывал. Да если бы и захотел забыть, все равно не мог бы – письма от нее приходили каждый день! Она писала, как в день моего отъезда до поздней ночи сидела у знакомых, лишь бы избавиться от одиночества и тоски, а когда вернулась домой, в изнеможении повалилась в постель и сразу заснула. Пробудившись утром, она подумала, что страхи преследовали ее во сне, но стоило подняться на ноги – и на нее навалилась такая тоска, такое отчаяние, что не хотелось жить. Таково было в общих чертах ее первое письмо. И все последующие письма звучали как сигналы бедствия, все они начинались с одного и того же – «Ах!».
«Ах, лишь теперь я почувствовала всю глубину моей привязанности к тебе! Ты говорил, что на родине у тебя близкой родни не осталось, почему бы в таком случае не поселиться навсегда у нас, со временем можно будет все устроить получше. Я постаралась бы окружить тебя такой любовью и заботой, чтобы ты чувствовал себя здесь, как дома. Если же тебе все-таки придется возвращаться на родину, я вместе с матерью поеду за тобой. Только где взять деньги на дорогу? Раньше я думала остаться здесь и ждать, пока ты преуспеешь в служебных делах. Но нынешняя разлука всего на двадцать дней показала, что жизнь без тебя для меня невыносима.
Мое положение уже заметно для окружающих, и оставаться одной мне теперь никак нельзя. С матушкой мы часто ссоримся, но, столкнувшись с моей укрепившейся твердостью, она отступает. Когда мы поедем с тобой на Восток, она намерена перебраться к дальним родственникам в деревню под Штеттин. В последнем письме ты пишешь, что занят важными поручениями министра, не поможет ли это нам собрать денег на дорогу? Жду не дождусь твоего возвращения в Берлин».
Это письмо заставило меня впервые серьезно задуматься о сложившемся положении. Мое прежнее легкомыслие не заслуживает ни малейшего снисхождения.
И я твердо решил: отныне все свои проблемы буду решать сам, не допуская вмешательства посторонних. Когда речь шла о вопросах второстепенных, принятие самостоятельного решения не составляло труда. Что же касается моих взаимоотношений с Элизой, то вся моя решимость куда-то исчезала.
Между тем министр стал проявлять ко мне все больше и больше внимания. Я же по своей недальновидности дальше сиюминутных дел не заглядывал. Как каждый конкретный момент скажется на моем будущем, ведомо одному богу, мне же остается лишь подчиниться его воле. Может быть, охладели мои чувства к Элизе?
Когда я был впервые представлен министру, мне подумалось, что завоевать его доверие трудно. Со временем, однако, я, кажется, этого достиг. Несколько раз Аидзава обронил фразу, звучавшую примерно так: «По возвращении в Японию мы будем работать вместе». Было ли это намеком на планы, которые строил министр, я не знал. Связанный служебной этикой, Аидзава при всей нашей дружбе не мог сказать мне об этом прямо. Размышляя на этот счет, я задавался вопросом: сказал ли Аидзава министру о моем опрометчивом обещании порвать с Элизой?
Вначале, когда я только приехал в Германию, мне мерещилось какое-то пробуждение собственной личности. Во всяком случае, тогда я дал себе клятву никогда не оказаться игрушкой в чужих руках. Но, видно, это была лишь самонадеянность птички, которой позволили похлопать крылышками, в то время как ноги оставались связанными. И мне не виделось надежды избавиться от этих пут. Прежде я был марионеткой в руках начальника департамента, а теперь – в руках министра.
Наша миссия вернулась в Берлин накануне Нового года.
Распрощавшись на вокзале со спутниками, я сел в коляску и поехал домой. В новогоднюю ночь берлинцы обычно не спят, сон добирают следующим утром. На улицах царила тишина, стоял сильный мороз, ослепительно сверкал утрамбованный снег. Свернув на Клостерштрассе, коляска остановилась у подъезда. Я слышал, как отворилось окно, но из экипажа его не было видно. Извозчик взял мой саквояж и пошел к подъезду. В этот момент навстречу выбежала Элиза. Она радостно вскрикнула и на глазах изумленного кучера бросилась мне на шею. Тот что-то пробормотал себе в бороду, но я не расслышал.
– Ах, наконец-то! Я умерла бы, если бы ты не вернулся!
До этой минуты я все еще колебался. Временами Япония, жажда успеха брали верх над любовью. Но сейчас в ее объятиях я отбросил прочь все сомнения. Положив голову мне на плечо, она плакала счастливыми слезами.
– На какой этаж? – спросил кучер, поднимаясь по лестнице.
У дверей нас встретила ее мать, я вручил ей серебряные монетки, чтобы расплатиться с кучером. Элиза за руку привела меня в комнату. Мне бросилась в глаза груда белой материи на столе. С улыбкой указывая на нее, Элиза сказала:
– Смотри, как мы готовимся!..
Когда она взяла в руки кусок ткани, я понял, что это пеленки.
– Ах, ты не представляешь, как я счастлива! У нашего ребеночка будут твои черные глазки. Я мечтаю, чтобы у него были глаза, как у тебя. Давай назовем его твоим именем! Конечно, тебе это может показаться смешным, но я не могу дождаться счастливого момента, когда мы вместе пойдем в церковь. – Она подняла на меня глаза, полные слез.
Несколько дней я не навещал графа, полагая, что он отдыхает с дороги. Я находился безвыходно дома, пока однажды мне не принесли от него записку с приглашением. Я был встречен весьма радушно и удостоился благодарности за работу, проделанную в России. Потом он вдруг спросил, не желаю ли я вместе с ним вернуться в Японию. Похвалил мою образованность, сказал, что знание языков ему представляется чрезвычайно ценным. Зная, что я уже давно нахожусь в Германии, он-де опасался, что у меня здесь могут быть определенные обязательства, но с удовлетворением узнал от Аидзавы, что подобного препятствия не существует.
Я был не в силах идти наперекор сложившимся у него планам. Меня бросило в дрожь, но опровергнуть сказанное Аидзавой я не посмел. Упустить подобный шанс для меня означало навсегда лишиться родины, равно как и последней возможности вернуть себе доброе имя. Я представил себе на минуту, что умру здесь, затерявшись в людском водовороте огромной западной столицы. От такой перспективы у меня защемило сердце и улетучились всякие соображения морального свойства. Я произнес «согласен».
Конечно, это было непорядочно с моей стороны. Что я скажу, вернувшись домой, Элизе? Я вышел из отеля в крайнем душевном смятении. Поглощенный своими думами, я брел, как во сне, не разбирая дороги, чудом не угодив под колеса экипажа – извозчик успел вовремя крикнуть. Я не помню, как очутился в Тиргартене, как, ощутив невероятную слабость и головную боль, взмокший от пота, опустился на скамейку и уснул. Я проснулся от жуткого холода. Было совсем темно, на пальто и шляпе лежал слой снега толщиной в вершок.
Часы показывали двенадцатый час. Колею конки на улице Карлштрассе в районе Моабит замело снегом. Тускло светили газовые фонари у Бранденбургских ворот. Я попытался встать, однако ноги не слушались. Пришлось основательно растереть их руками.
Не помню, как я добрался до Клостерштрассе; видимо, уже миновала полночь. На Унтер-ден-Линден, наверное, еще были открыты кафе и рестораны, но я ничего не замечал. Сознание содеянного предательства затмило от меня весь мир.
Элиза, похоже, еще не спала. Яркая лампочка на четвертом этаже под крышей сияла на фоне ночного неба, как звезда. Хлопья снега кружились на ветру, напоминая игрушечных белых цапель. Я чуть ли не ползком поднялся по лестнице – ноги ломило в суставах, – прошел через кухню и распахнул дверь в комнату. Элиза была занята шитьем детских вещей. При моем появлении она вскрикнула:
– Что случилось? На тебе нет лица!
И в самом деле, было от чего прийти в ужас! По дороге домой я без конца спотыкался и падал, так что одежда моя была насквозь пропитана грязью. Шляпу я потерял, и волосы у меня на голове стояли дыбом.
Помню, я пытался что-то объяснить Элизе. Я с трудом держался на ногах, в какой-то момент попытался ухватиться за стол, но не сумел и повалился на пол.
Несколько недель мне пришлось провести в постели. Я метался в бреду, и Элиза находилась при мне неотлучно.
В один из дней, когда я начал уже выздоравливать, явился Аидзава и собственными глазами увидел то, что я от него старательно скрывал. Однако министру он сообщил лишь о моей болезни.
Когда я впервые осознанно взглянул на Элизу, меня поразила происшедшая в ней перемена. За время моей болезни она страшно осунулась, глаза были красные от долгой бессонницы, в лице – ни кровинки. В деньгах на повседневные расходы она не нуждалась благодаря Аидзаве, но принимать его помощь ей было мучительно.
Как он рассказал мне позднее, он поставил ее в известность о моем решении и о том, что в тот роковой вечер я принял предложение министра. Когда он сказал ей об этом, она сделалась мертвенно-бледной, вскочила со стула и с отчаянным криком: «Мой Тоётаро, как мог ты меня предать!» – упала без чувств. Аидзаве пришлось позвать ее матушку, вместе они уложили Элизу на кровать. Через некоторое время она очнулась, но глаза ее, устремленные куда-то вдаль, уже никого не узнавали. Она лишь выкрикивала мое имя и всевозможные проклятия, рвала на себе волосы, кусала одеяло. Временами словно бы приходила в себя и начинала что-то искать. Она ничего не принимала из рук матери. Лишь любовно разглядывала пеленки и плакала, прижимая их к лицу.
Буйное состояние Элизы постепенно прошло, но одновременно исчезли и редкие проблески сознания, по разуму она сравнялась с грудным младенцем. Осмотревший ее доктор не оставил никакой надежды на выздоровление, болезнь он назвал паранойей, спровоцированной внезапным потрясением. Доктор рекомендовал определить ее в психиатрическую больницу Дальдорфа, но она отчаянно противилась этому и находила умиротворение, лишь нежно разглаживая руками и прижимая к груди пеленки. Пока я болел, она от меня не отходила, но действия ее, кажется, были не вполне осознанными. Временами она вдруг спохватывалась и начинала бормотать: «Лекарство, лекарство…»
Вскоре я окончательно оправился от болезни. Я неутешно рыдал, обнимая женщину, от которой отлетела душа. Перед тем как вместе с министром уехать в Японию, я, по совету Аидзавы, оставил ее матери некоторую сумму на повседневные расходы и отдельно на ребенка, которому предстояло родиться у несчастной безумной.
Да, Аидзава Кэнкити – редкостный друг, но я и по сию пору испытываю к нему неприязнь.
1890Рассказы
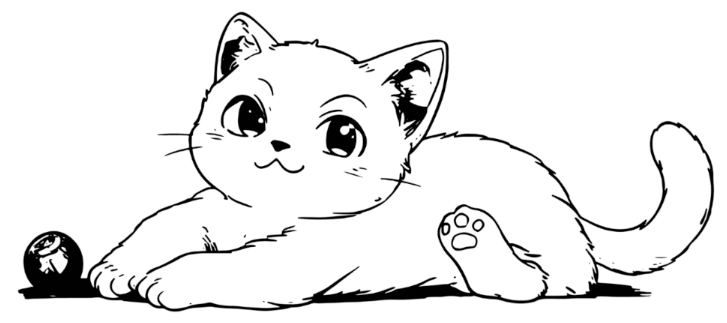
Ханако[14]

Просторная студия Огюста Родена в «Отеле Бирон»[15] залита утренним солнцем. Построенный в свое время неким богачом, «Отель Бирон» являл собою роскошное здание. Но позже оно было приспособлено под женский монастырь ордена Сакре-Кёр, где жили девочки из Фобур Сен-Жермен, которых монашки «Святого сердца» обучали пению псалмов. Можно себе представить этих певиц, разевавших розовые рты на манер птенцов, с вожделением ждущих принесенных родителями лакомств.
Ныне здесь звонких голосов не слышно. Здесь царит иная, тихая жизнь. Да, тихая, но вместе с тем исполненная напряженного, страстного и даже яростного творчества.
На бесчисленных подиумах громоздится множество гипсовых заготовок, а также мраморные глыбы. Одновременно в работе находится несколько вещей. Роден занимается то одной, то другой – в зависимости от настроения. Одна скульптура оставлена неоконченной, зато другая быстро обретает зримые формы и как бы сама собой оживает под руками мастера. Его способность концентрировать волю необычайна. У него не бывает разминок, он с ходу включается в творческий процесс, словно бы и не прерывался ни на минуту.
Роден окидывает любовным взглядом творения своих рук. Широкое лицо, нос с горбинкой, густая окладистая белая борода.
Слышится осторожный стук в дверь.
– Entrez![16] – его сочный, отнюдь не старческий голос эхом отзывается в просторном помещении.
На пороге – щуплый, еврейского типа мужчина лет тридцати с густой темной шевелюрой. Он сообщает, что, как и обещал, привел мадемуазель Ханако.
Роден выслушивает это сообщение довольно равнодушно.
Когда-то обосновавшийся в Париже правитель Камбоджи представил ему танцовщицу, которая вызвала в нем профессиональный интерес. Изящные движения ее рук и ног производили колдовское впечатление. Тогда он набросал наскоро рисунок, который у него хранится до сих пор. Любой расе присущи свои эталоны красоты. По убеждению Родена, красота эта проявляется в той степени, в какой она доступна пониманию ее созерцателя. Теперь вот до него дошел слух, что в варьете выступает японка по имени Ханако, и он изъявил желание видеть ее у себя в студии.
И вот сейчас явился как раз ее антрепренер, или импресарио.
– Пожалуйста, пригласите ее сюда, – сказал Роден своему визитеру. Садиться он обычно не предлагал, – и не только потому, что дорожил своим временем.
– С ней переводчик, – вкрадчиво сказал гость.
– Кто такой? Француз?
– Нет, японец. Студент, работает в Институте Пастера. Услышав, что Ханако приглашена к вам в студию, он охотно взял на себя роль переводчика.
– Ладно, пусть тоже войдет.
Антрепренер вышел.
Вскоре перед Роденом предстали японец и японка, оба на редкость миниатюрные. Они едва достигали ушей стоявшего рядом отнюдь не высокого антрепренера.
Когда Роден на чем-то сосредоточивался, у него на лбу залегала глубокая складка. Именно так было и сейчас. Он разглядывал Ханако.
Студент поклонился, пожал протянутую Роденом шершавую натруженную руку. Ту самую руку, которая ваяла «Данаиду», «Поцелуй», «Мыслителя». Затем протянул Родену свою визитную карточку, на которой значилось: «Кубота, кандидат медицины».
Роден взглянул мельком и спросил:
– Работаете в Институте Пастера?
– Да.
– И давно?
– Уже три месяца.
– Avez vous bien travaillé?[17]
Студент поразился. Он и раньше слышал, что Роден любит задавать этот вопрос. Но сейчас эти простые слова были обращены лично к нему.
– Oui, beaucoup, Monsieur![18] – При этом у Куботы было такое чувство, будто он приносил клятву богу неустанно трудиться до конца дней.
Кубота представил Родену Ханако. Роден одним взглядом охватил всю ее крохотную сжавшуюся фигурку – от небрежно уложенной прически «симада»[19] до кончиков ног, обутых в сандалии «тиёда» и белые таби[20]. Пожал ее маленькую крепкую руку.
Кубота испытывал при этом смущение и даже стыд. Если уж Родену понадобилась японка, можно было бы найти женщину попривлекательней. В какой-то степени Кубота был прав. При всем желании красавицей Ханако не назовешь. Она выступала в различных городах Европы и слыла известной японской актрисой. В Японии же никто о ней и не слыхал, равно как и Кубота. Да, красавицей она не была, ее скорее можно было уподобить невзрачной кухарке. Впрочем, ухоженные руки и ноги свидетельствовали о том, что черной работы она не касалась. Тогда, может быть, ей подошла бы служба горничной. Тоже вряд ли. Пожалуй, больше всего она похожа на «няньку».
Роден же, казалось, был, как ни странно, вполне удовлетворен. В Ханако угадывались крепкое здоровье и чуждость сибаритским наклонностям. Под тонкой кожей лица, шеи, рук четко проступали эластичные, тренированные мышцы. И никакого, даже тончайшего, слоя жира. Именно это и нравилось Родену. Он протянул Ханако руку, и она пожала ее с приветливой улыбкой – видно, уже поднаторела в европейских манерах.
Роден пригласил их сесть, антрепренера же попросил подождать в приемной. Угостил Куботу сигарой и поинтересовался у Ханако, из каких она мест – из горных или с морского побережья?
Гастролируя по разным городам, Ханако приходилось часто давать интервью, и в конечном итоге у нее сложился стереотипный рассказ о себе. Как у Золя в «Лурде», девушка, чудом исцелившая себе ногу, привычно рассказывает об этом пассажирам битком набитого поезда. От многократного повторения рассказ обрел вполне законченную и убедительную форму. К счастью, в данном случае конкретный вопрос предполагал конкретный ответ.
– Горы от нас далеко, а море рядом.
Ответ понравился Родену.
– На лодке приходилось плавать?
– Приходилось.
– И веслами гребли?
– Я была тогда еще маленькая, так что на веслах сидел отец.
Видимо, Роден живо представил себе эту картину. Он помолчал. Он вообще был немногословен. Потом без всякой видимой связи обратился к Куботе:
– Мадемуазель, по-видимому, известна моя профессия? Могла бы она снять с себя кимоно?
Кубота задумался. Вообще-то, его соотечественницы обнажаться перед чужими людьми не привыкли. Но Роден… это ведь совсем особенный случай. Как отнесется к этому Ханако?
– Я попробую ей объяснить.
– Пожалуйста.
И Кубота сказал следующее:
– Мастер – непревзойденный в мире скульптор. Вероятно, ты знаешь, он ваяет человеческое тело. Так вот, ему нужно взглянуть на тебя без одежды. Как видишь, мастер в почтенном возрасте, ему уже под семьдесят; человек он весьма серьезный. – Кубота смотрел на нее, стараясь угадать, какая последует реакция – сконфузится она, возмутится или начнет ломаться. Но она ответила просто:
– Я согласна.
– Она согласна, – перевел Кубота.
Роден был явно обрадован и сразу принялся готовить бумагу и пастель.
– Вы останетесь здесь? – спросил он Куботу.
– С подобной необходимостью я иногда сталкиваюсь по роду профессии, но мадемуазель, наверное, будет стесняться.
– В таком случае пройдите в библиотеку, минут за пятнадцать-двадцать я управлюсь. А вы пока выкурите сигару.
Кубота объяснил Ханако, что позировать ей придется не более двадцати минут, зажег сигару и вышел в соседнюю комнату.
Библиотека представляла собой небольшую комнату с двумя дверями и окном. Вплотную к окну был придвинут простой стол, стены уставлены стеллажами с книгами. Кубота поинтересовался библиотекой мастера и заключил, что она сложилась из книг, случайно попадавших в руки Родена, начиная с той далекой поры, когда он бедным подростком бродил по улицам Брюсселя. Некоторые из книг имели весьма потрепанный вид, наверно, были дороги ему как память.
Кубота подошел к столу стряхнуть пепел с сигары. Среди лежавших на столе книг Кубота обратил внимание на изящную книжицу с золотым обрезом, которую он поначалу принял за Библию; при ближайшем рассмотрении это оказалось карманное издание «Божественной комедии». А рядом с ней – томик из полного собрания сочинений Бодлера. Кубота раскрыл книгу и на первой странице увидел заглавие «Метафизика игрушки». «Это еще что такое?» – подумал он и стал читать. Оказалось, в детстве Бодлера водили в гости к какой-то девочке. У той было много игрушек, и он вспоминает, как ему было интересно в них играть. Как бы ребенок ни любил игрушку, у него обычно возникает желание ее сломать, потому что хочется узнать, что у нее внутри. Особенно если игрушка заводная; тогда тем более интересно – что приводит ее в движение. Таким образом, ребенок от физики переходит к метафизике.
Кубота так увлекся, что прочел от начала до конца весь этот небольшой трактат.
Тем временем Роден успел сделать набросок и пришел за Куботой.
– Ну как, вы, наверное, тут скучаете?
– Нет, я читал Бодлера, – ответил Кубота.
Ханако была уже одета, на столе лежали два эскиза.
– И что же вы прочитали из Бодлера? – продолжал Роден.
– «Метафизику игрушки».
– Да, вот так же и человеческое тело, оно интересно не внешней своей оболочкой, а душой, которая в ней заключена. Самое ценное в человеке – пламя души, которое прорывается наружу сквозь телесную оболочку.
Кубота робко взглянул на эскизы, а Роден заметил:
– Это очень приблизительный набросок, так что здесь что-нибудь понять трудно. – И добавил: – У мадемуазель поистине прекрасное тело, полное отсутствие жировой прослойки, четко выражена каждая мышца. Как у фокстерьера. Кроме того, она идеально сложена. И к тому же очень вынослива – может долго стоять на одной ноге, вытянув другую под прямым углом. Как дерево, пустившее в землю глубокие корни. Совершенно удивительный тип телосложения, в корне отличающийся от средиземноморского или североевропейского типа телосложения. Для первого характерны широкие бедра и плечи, для второго – широкие бедра и узкие плечи. Красота Ханако – это красота силы.
1910В процессе реконструкции[21]

До театра Кабуки советник Ватанабэ доехал на трамвае. Недавно прошел дождь, и местами еще стояли лужи. Старательно их обходя, он направился в сторону Департамента связи, смутно припоминая, что ресторан должен быть где-то совсем рядом, за углом.
Улица была совершенно пуста. На всем пути от трамвайной остановки до ресторана ему повстречалась лишь компания оживленно беседовавших мужчин в европейских костюмах – судя по всему, они возвращались со службы, – да яркая девица, по-видимому, служанка из ближайшего кафе, посланная куда-то с поручением. Проехала мимо коляска рикши с задернутыми шторками.
Еще издали видна вывеска «Европа-палас». Вдоль улицы, ограниченной с противоположной стороны каналом, тянется дощатая изгородь, а за ней – здание, обращенное фасадом в тихий переулок. Два косых лестничных марша по фасаду образуют нечто вроде усеченного треугольника, на месте усечения – две двери. Ватанабэ поднимается наверх и останавливается перед дверьми, не зная, в которую войти. Потом замечает слева табличку «вход» и, аккуратно вытерев ноги, переступает порог ресторана.
Перед ним простирается широкий коридор с ковриком у входа. Ватанабэ еще раз вытирает ноги, смущенный тем, что вынужден идти во внутренние помещения в уличной обуви[22]. Не видно ни одной живой души, лишь откуда-то из глубины здания доносится стук молотков. Вспомнив дощатую изгородь, Ватанабэ сообразил: идет реконструкция. Так никого и не дождавшись, он прошел в конец коридора и снова остановился в раздумье.
Спустя некоторое время появился меланхоличный официант.
– Вчера я сделал заказ по телефону.
– Вы имеете в виду ужин на две персоны? – уточнил официант. – Пожалуйте на второй этаж, – и жестом указал дорогу.
Официант шел сзади[23], поэтому, чтобы понять, куда следует идти, Ватанабэ вынужден был то и дело оборачиваться. Здесь, на втором этаже, стук молотков стал еще громче.
– Веселая музыка, – заметил Ватанабэ.
– Не извольте беспокоиться. В пять часов рабочие уйдут, и будет совсем тихо. Сюда, пожалуйста. – Он забежал вперед и распахнул двери залы, обращенной на восток. Для ужина вдвоем обстановка была слишком громоздкой: три стола, у каждого по четыре-пять стульев; возле окна – диван и декоративное карликовое растение[24].
Не успел Ватанабэ осмотреться, как официант распахнул следующую дверь:
– Сервировано будет здесь.
Эта комната выглядела поуютней: в центре – стол, на нем корзина с азалиями и два куверта – один против другого. Обстановка этой комнаты больше соответствовала случаю, и Ватанабэ успокоился. Официант, извинившись, удалился, а вскоре стих и стук молотков. Часы показывали пять, до назначенной встречи оставалось тридцать минут.
Взяв из коробки сигару, Ватанабэ обрезал кончик и закурил. Предстоящая встреча не особенно его волновала, словно бы ему было безразлично, кто будет сидеть по ту сторону цветочной корзины. Он и сам удивлялся своему спокойствию.
С сигарой во рту он опустился на диван и посмотрел за окно. На земле у забора громоздились штабеля строительных материалов. Похоже, зала помещается в торцовой части здания, потому что видна стоячая вода канала и на противоположном его берегу – особнячки, похожие на дома свиданий.







