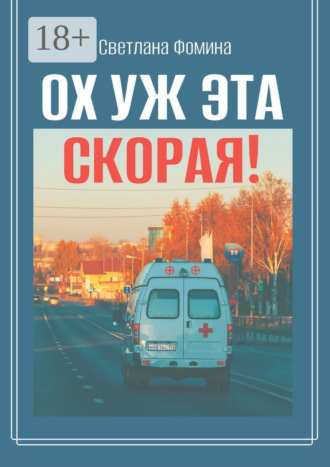
Полная версия
Ох уж эта скорая!
Во Франции экстренная служба называется SAMU (в Париже, например, SAMU 75). Ее организует и финансирует Министерство здравоохранения. В разных департаментах страны есть собственные службы скорой при госпиталях.
В небольших городах и сельской местности есть еще SOS Medicins – ассоциация частных врачебных клиник.
Обслуживание платное. Больной оплачивает чек. Отправляет его в соцстрах, а те уже возмещают расходы, перечисляя ему на личный банковский счет.
В Италии номер экстренной медицинской службы 118. Там скорые – подразделения при больницах. Они всегда транспортируют больных в стационар. Это происходит достаточно быстро. В приемном отделении каждому пациенту выдается цветовой код доступа к медицинскому осмотру: красный – требуется немедленная помощь, желтый – время ожидания осмотра до 15 минут, зеленый и белый – может подождать и дольше. В больнице оплачивается своеобразный налог (за анализы, операцию) до 50 евро.
В Израиле существует три вида бригад: реанимационные (врач парамедик, водитель), штатные (фельдшер, парамедик, водитель), волонтерские (водитель и иногда помощник). В больницу вас довезут за 10 минут.
В Китае своя собственная система. Скорая там – единая самостоятельная служба. Она подчиняется организации «Красный Крест». В каждом административном районе есть свой центр (от 1 млн. жителей), в меньших населенных пунктах – подстанции, которые обслуживают по несколько поселков.
Бригады включают врача, медсестру и водителя. Вас также обязательно отправят в больницу, причем вы можете выбрать тот стационар, какой хотите, хоть в другом конце города. Это очень затрудняет работу скорой, увеличивая время на вызов.
Служба скорой в Китае платная. Счет вы оплатите в больнице. Средний чек – около 1000 юаней (примерно 5000 р.).
У нас в России скорую медицинскую помощь оказывают станции СМП, а также отделения при больницах.
Города и районные центры с населением более 50 тыс. человек имеют станцию СМП – самостоятельное лечебное учреждение. Она уже делится по районам, в каждом, обычно, своя подстанция.
При населении меньше 50 тыс. – это отделения при городских или районных больницах.
Автопарк существенно меняется и обновляется.
Раньше мы ездили на РАФах (плохая проходимость, приходилось толкать, зимой холодная) и старых УАЗах (летом в жару просто ад, т.к. сидишь чуть ли не в обнимку с горячим двигателем).
Сейчас это разные виды ГАЗелей Соболь, Мерседес, Форд, новые УАЗы.
Основные принципы нашей службы: безотлагательность (экстренная и отсроченная или неотложная помощь), бесплатность, безотказность, социальная значимость. В виду дефицита времени (лимит доезда по скорой 20 минут, по неотложке 2 часа, лимит на вызове 45—50 минут) позиционируется принцип диагностической неопределенности, допустима гипердиагностика. Первый означает, что на догоспитальном этапе правомочен не конкретный, а более общий, как бы размытый диагноз (например, не «закрытый перелом левой лучевой кости в средней трети со смещением отломков», а «закрытый перелом предплечья в средней трети» и т.п.). Гипердиагностика также оправдана, ведь всем будет лучше, если медик, так сказать, перебдит, чем недо… Это лучше для пациента. Это хорошо для врача или фельдшера, что не проморгал более тяжелую патологию.
Вызвать скорую можно по номерам 03, 103, 112.
Бригады в основном, линейные (врач + фельдшер + водитель, врач + медсестра + водитель, фельдшер + водитель, фельдшер + фельдшер + водитель, фельдшер + медсестра + водитель). Есть реанимационные бригады (врач-реаниматолог +2 средних медработника + водитель), специализированные (педиатрическая, психиатрическая и др.).
Кроме того, существует такое подразделение экстренной службы как «Медицина катастроф». Ее работники выезжают или вылетают в районы, привозят туда специалистов узкого профиля, обслуживают ДТП на трассах, оказывают медицинскую помощь при техногенных авариях и ЧС.
Врачей в последнее время, конечно, не хватает. Со средним медперсоналом получше, но тоже ощущается дефицит кадров.
В этой главе я не буду перечислять, что плохо, что хорошо у нашей службы. Это чуть позже. Но доступность и бесплатность для населения – это, несомненно, большой плюс.
Ну а о том, какая модель экстренной медицинской службы лучше судить вам, дорогие читатели.
Глава 5
СП вчера и сегодня
Откройте, скорая.» – эти слова я произносила тысячи раз, говорю и сейчас.
Я работаю на скорой уже много-много лет. Так это звучит, что самой страшно.
Как спросил какой-то чиновник на одном мероприятии: " Разве можно столько работать на одном месте, да еще на такой работе?!»
Видимо, можно.
Так много всего поменялось с того времени, как я пришла сюда почти сразу после окончания института, вернее, после интернатуры, которую я проходила совсем не на скорой. Так раньше можно было.
Тогда на скорую брали всех: терапевтов, педиатров, военных врачей, иных специалистов. Другое дело, что устроиться было непросто, говорили: " Извините, нет свободных ставок.»
Но мне повезло. Меня, отчего-то, взяли сразу. Может, мордой лица вышла, а может красный диплом помог.
Это сейчас без сертификата никуда не сунешься. А врачебных ставок свободных у нас полно, только все равно, никто не приходит, и эти ставки переделывают под средний медперсонал.
Не было раньше ограничения по времени на вызов. Будешь на нем столько, сколько надо. Сейчас же, после 40 минут тебе уже названивает диспетчер и интересуется, когда же мы освободимся.
Не было ГЛОНАСС, никто не следил за машиной, у какого угла она остановилась. Вдруг проехала лишних 200 метров до кофейного ларька.
Лекарств было меньше, но зато не списывали некоторые виды так строго, как сейчас, с учетом сданной ампулы и нескольких росписей в карте вызова.
Помню, не было единых отпечатанных в типографии карт и направлений на госпитализацию. Писали, кто на чем: какие-то бумажки, тетрадные листы.
Данные больного были всем «до фени», ведь тогда не было страховых компаний, и отчисления в нашу организацию не зависели от правильно написанной документации. Поэтому, если забыл записать фамилию, имя, отчество, можно было их придумать.
Да, вот так было когда-то. Такой я «динозавр». Самой страшно.
Особой строгости в отношении употребления сотрудниками алкоголя на рабочем месте не было. Что греха таить, анекдот про пьяного врача, сделавшего укол в диван, придуман не на пустом месте.
Были у нас подобные личности, и немало.
Сейчас попробуй появись с запахом на вызове, тут же позвонят на центр с жалобой, и поедешь на освидетельствование, а там и до увольнения недалеко.
Да что там, даже на абсолютно трезвых сотрудников порой поступают обвинения, что они, мол, навеселе. Доказывай потом, что ты не осел. Разные люди бывают, конфликтные. Не то ответил, не так посмотрел, зашатало от усталости в 3 часа ночи, значит пьяные. И такое бывает.
Форменную одежду нам стали выдавать лишь последние лет десять: куртки, теплые комбинезоны, ботинки, резиновые сапоги. Раньше одевался, кто во что горазд. Нет, легкие зеленые или синие костюмы, конечно, были. А вот сверху напяливали разное, особенно, в мороз или дождь.
Вспоминаю один забавный случай. Была у нас на подстанции, на которой я раньше трудилась, парочка пожилых тетенек. Одна врач, низенькая, сухонькая. И другая, не менее сухонькая и такая же невысокая, фельдшер. Они часто работали в паре. Надевали какие-то куцые, неказистые пальтишки, мальчиковые шапочки, теплые платки. Что одна, что другая. Как две ходячих капусты.
Поступает как-то зимой вызов к ребенку. Заходят эти тетеньки в дом, звонят в квартиру. А с другой стороны двери кто-то смотрит в глазок и говорит: " Идите отсюда, побирушки!».
Сейчас это воспринимается как анекдот. Но и такие казусы бывают. Уж очень они на скоропомощников были не похожи.
Автомобили сейчас современные, теплые, приходят с новым оборудованием. А когда-то мы ездили на таких тарантайках!
Были в основном, УАЗы старого образца и РАФы. Причем, первые имели неплохую проходимость по всяким нашим холмам снежной зимой, но летом в кабине был просто какой-то ад бок о бок с пышущей жаром печью. А РАФы постоянно везде застревали, приходилось их толкать или ждать старшего водителя на вездеходе с тросом. К тому же они были холодные, и мы в них нещадно мерзли.
Постоянно закрепленных за бригадой машин не было. И у нас в начале смены выстраивалась очередь у диспетчерской. Каждый просил, чтобы ему поставили именно УАЗ (зимой) и РАФ (летом). А получали, естественно, что достанется.
Вызовов столько, сколько сейчас раньше не было. Вернее, в некоторые весенне-осенние месяцы была страда, когда грипп и вспышки сезонных ОРВИ. А так было спокойнее, особенно, летом.
Еще в былые времена как-то веселее работалось.
Не спорю, мы были молодыми. Но не только это.
Не было такого прессинга по времени, заполнению документации. Все были свободнее, что ли.
Устраивали праздники, вечеринки, ночные посиделки с шашлыками во дворе подстанции, Новогодние утренники для детей сотрудников, какие-то вылазки.
Конечно, и сейчас мы отмечаем Новый год, день медика. Но все равно, все как-то слишком серьезно, кругом одна работа, работа и еще раз работа.
Есть и общее.
Очень интересно реагируют люди на скорую и тогда и сейчас. Особенно, когда внезапно сталкиваются с нами в подъезде.
Кто-то от неожиданности здоровается. Кто-то шарахается. Кто-то начинает допрашивать, в какую мы квартиру приехали и обижаются, когда мы не говорим. Хотя есть такое понятие как «врачебная тайна». И сам же спрашивающий вряд ли был бы рад, если бы мы рассказали всем соседям о том, что он вызвал скорую помощь и по какой именно причине.
Еще очень раздражает как себя ведут некоторые, вроде нормальные на вид, люди. Как увидят автомобиль с красным крестом и бригаду медиков, начинают или глупо хихикать, или консультироваться тут же по всем медицинским вопросам сразу, либо просить какую-нибудь таблетку.
Кто-то, вообще, ведет себя как совершеннейший дурачок, особенно, в компании себе подобных: ржет как конь, заигрывает, даже если перед ним вполне себе возрастная тетенька-доктор. Еще глупым подросткам или детям это где-то и простительно. Но для взрослых людей, как минимум, странно.
Но главное, о чем я хотела написать – это, конечно, люди.
Сколько воды утекло за эти годы! Сколько народу сменилось! Одних только главных врачей – аж 5 человек, заведующих подстанцией 6.
Многие ушли, очень многие пришли, подавляющее большинство – фельдшера и медсестры.
Очень много людей получили неплохой старт на скорой помощи! Есть научные работники, главные врачи, замы, ассистенты и доктора наук, начинавшие у нас. Есть умные ребята, работающие врачами-специалистами в разных областях в Москве, Санкт-Петербурге, за границей. И все они тепло вспоминают нашу службу, говоря, что скорая дала им многое.
А скольких уже нет в живых! С одной нашей подстанции ушли из жизни в разное время 5 врачей, 4 фельдшера. И ведь они не были глубоко пожилыми, а некоторые не дожили и до 35 лет.
Одну нашу 40-летнюю диспетчера парализовало после COVID-19. Теперь лежит, инвалид, а дочка еще в школе учится, даже не в старшем классе. Трое ушли на инвалидность с онкозаболеваниями.
Что сделаешь, медики тоже – обычные люди, так же болеют, да еще и, как правило, как-то запутанно, клиника их заболеваний, зачастую, почему то, далека от классики.
Вот так начнешь вспоминать. И перед глазами мелькают лица, лица. Люди, судьбы.
Время – жестокая штука.
Остается костяк врачей, работающих много лет. Но он все меньше и меньше.
Скоро на скорой медицинской помощи останется только средний медперсонал, как за границей парамедики. И наверно, это правильно.
Не должны врачи, на обучение которых государство тратит такие большие средства, увещевать скучающих бабулек, поднимать алкашей после их неумеренных возлияний и делать другую чепуху.
А пока мы, «последние из Могикан» дорабатываем на этой передовой, нелегкой, интересной работе.
И завтра на очередном дежурстве я снова много раз скажу: «Откройте! Скорая!»
Часть II
Вам, дорогие наши пациенты!
Глава 1
Ода пациентам
Эту часть своего повествования мне хотелось бы посвятить вам, дорогие наши пациенты.
Хоть часто бывает, что медики и больные весьма нелестно отзываются друг о друге. Но это все от усталости, непонимания, условий, в которые поставили и нас и вас.
На самом деле, вы – наше всё. Если не будет вас, кому и зачем тогда будем нужны мы?
Мы и пошли в эту профессию, чтобы спасать и лечить вас, золотые наша человеки.
Каждый из нас искренне рад, если удаётся правильно и, что еще немаловажно, вовремя поставить диагноз. И просто счастлив, когда назначенное лечение приносит положительный результат.
Лучшей наградой для нас, работников скорой, является ощущение, что ты справился, был нужен, вовремя успел, откачал умирающего, довез его живым до больницы, облегчил боль и страдания, купировал отек легких или приступ аритмии и судорог, облегчили дыхание астматику. Когда удачно прошли внезапные роды, а от твоего укола, наконец, открыл глаза и заговорил больной, лежавший в гипогликемической коме.
Даже эффектное оживление наркомана, бывшего в передозе, вызывает приятное чувство нужности в сердце.
И я уже не говорю про мокрые от слез, счастливые глаза родных, их молчаливую благодарность.
Не верьте, когда вам рассказывают, что врачам, мол, все равно, они привыкли к смертям и мукам пациентов. Да, мы не плачем, или плачем, но не при вас. Но кусочек сердца оставляем у постели каждого тяжелого больного, которого пытались, но не смогли спасти.
И от всей души говорю вам от всех медиков: «Будьте здоровы! Если захворали, то болейте легко, недолго и полностью выздоравливайте!»
Глава 2
«Медицина – наука, вторая по точности после Богословия»
Мой, ныне покойный, муж, опытный и грамотный врач частенько повторял эту фразу. И он понимал, о чем говорил.
Людям, не имеющим отношение к медицине, бывает очень сложно объяснить, что эта наука – не математика. Она не оперирует точными формулами, за редким исключением.
Здоровье человека не укладывается в раз и навсегда начерченные схемы. Вот почему всегда трудно составить стандарты лечения, ведь то, что помогает одному человеку, может совершенно не подойти другому. А иногда даже становится причиной смерти, например, при тяжелой аллергической реакции на лекарство, которую предвидеть почти невозможно.
Да, с развитием современной диагностики, компьютерных технологий и высокоточной аппаратуры поставить правильный диагноз становится намного проще и быстрее.
Но и здесь требуется живой профессионал, врач, способный проанализировать все данные и через свои знания, опыт и личное чутье определить конечный результат.
Лечение – это творчество, которое требует от врача не только грамотности, опыта и «чуйки», но и определенной доли риска. Никогда нельзя предсказать наверняка, как будет протекать процесс именно у этого больного.
А у хирургов, не сложно себе представить, тройной риск. И он постоянный, ежедневный.
Чтобы спасти больного, иногда приходится идти на нарушение всяких стандартов в нетипичной ситуации.
С другой стороны, бывают такие случаи, когда педантичное соблюдение стандартов и предписаний вышестоящих органов может, наоборот, нанести вред данному больному, если учитывать некоторые особенности и обстоятельства.
Сейчас, с развитием юридической составляющей нашей жизни, врачу приходится намного тяжелее, чем в прошлые времена. Он поставлен в такие условия, что рисковать ради спасения больного становится опасно.
Может быть там, на западе, это организовано по-другому и впереди врача или клиники всегда идут адвокаты и страховщики. У нас же все не так радужно.
Зачастую защитить врача – очень сложная, никому не нужная задача. И если какие-то подобия стандартов уже вводятся, то юридическая сторона еще очень и очень хромает.
Можно попасть под такую раздачу, что никогда не отмоешься. Поэтому врачи не хотят рисковать. В данных условиях они не только не станут отступать от написанной буквы, но и глаз не оторвут от бумажки, чтобы, наконец, внимательно взглянуть на больного.
На самом деле, об этом очень грустно писать. Но это наши реалии.
Если в былые времена на врача молились за то, что он спас одного среди десятков и сотен погибших, то сегодня его могут «предать анафеме» за одного скончавшегося среди сотен спасенных.
Молодежь все больше выбирает диагностику, особенно, на новомодной аппаратуре в частных клиниках, а от лечения больных бежит как черт от ладана. Еще бы! Там цена ошибки совсем другая.
Популярными стали сейчас всякие косметологии, диетологии, психотерапии и другие направления, где риск минимален. Хотя и там он, конечно, есть.
Стало модным понятие «врачебная ошибка». Его вставляют то туда, то сюда, к месту и не к месту.
Что такое – врачебная ошибка?
Юристы спешат объединить под этим термином кучу всякого: это и неоказание помощи (ст. 124 УК РФ), и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, и причинение смерти по неосторожности (ст. 109 и 118 УК РФ), и ненадлежащее поведение медработников. Была бы воля, они бы всех врачей засадили в тюрьму за одни только диагностические промахи и нарушение оформления документации.
В мире нет общепризнанного определения врачебной ошибки.
Но считается, что это незлоумышленное заблуждение медика в его профессиональной деятельности при отсутствии халатности, невежества и небрежности. И она не наказуема юридически, является не уголовно-правовой, а медицинской проблемой.
Ни один врач не застрахован от этого. Если, конечно, он практикует.
О врачебных промахах в свое время писали еще такие выдающиеся ученые как Гиппократ, Н. И. Пирогов, Т. Бильрот, Н. М. Амосов, И. А. Кассирский, В. В. Вересаев. Они сами совершали ошибки (как же без них!) в своей практике и считали их неизбежными.
«Если общество возложит всю полноту ответственности на врача, то кто же будет лечить больных? Какой хирург отважится оперировать без стопроцентной гарантии успеха, если за спиной у него будет стоять судья?» – писал О. Е. Бобров.
Причины таких ошибок:
• добросовестное заблуждение;
• недостаточная квалификация и опыт врача;
• изменение взглядов на лечение определенного заболевания;
• атипичное проявление болезни;
• отсутствие или неисправность диагностического оборудования;
• ошибочное мышление при интерпретации данных;
• предвзятость и др.;
Врачебная ошибка в корне отличается, по сути, от халатности (ст. 293 УК РФ)
Халатность – это преступное неисполнение должностным лицом своих обязанностей из-за небрежного или недобросовестного отношения к службе, которое повлекло причинение ущерба здоровью человека или его смерти.
Поэтому все грести под одну гребенку не следует.
Да, случаи откровенного вымогательства, отказа от помощи, незаконные операции и аборты, невыполнение своих прямых обязанностей в корыстных или других целях должны подлежать наказанию.
Но бездумное или огульное обвинение всех медиков в том, что они не всемогущие Боги, может привести общество к тому, что больных лечить будет попросту некому.
На своем веку работы в медицине лично я не видела рядом с собой ни одного врача-убийцу, как любят называть медиков многие представители желтой прессы, который бы сознательно хотел навредить больному или свести его в могилу. Медицина – особенная наука. Далеко не все зависит от врача, его опыта и знаний.
Вот почему вполне можно сравнить медицину с Богословием, где также невозможно все пощупать и просчитать, применить готовые формулы и схемы, которые всегда и везде работают.
И это надо обязательно учитывать.
Глава 3
Насколько зависит жизнь больного от действия врачей?
Работая на скорой, я заметила одну весьма интересную особенность.
Думаю, что это отмечают многие медики в процессе своей трудовой деятельности.
Казалось бы, вполне себе здоровый человек, относительно молодой, без видимых хронических заболеваний, которому еще жить да жить, вдруг внезапно начинает скоропостижно умирать, и спасти его не удаётся, несмотря на героические усилия медицинских работников.
А какая-нибудь древняя бабушка с тысячей и одной болячкой в анамнезе, которая, казалось бы, почти на ладан дышит, живёт себе после 3-х инфарктов и помирать не спешит.
Мало того, иногда, если начинаешь реанимировать эту старушку «божий одуванчик», она после небольших усилий врачей чудесным образом оживает и потом живет дальше какое-то время.
Навсегда запомнила я одного мужчину лет 50—55. Было это лет 15 назад. Приехали мы к нему под вечер. Повод к вызову был «плохо».
Очень приятный человек, не алкоголик, не невротик, почувствовал себя неважно. Особых хронических болезней у него не было. Так, когда-то давление поднимется, голова заболит. В общем, как у большинства людей в этом возрасте.
И что именно его беспокоит, он точно сказать не мог. Как-то тяжеловато дышать, как-то тревожно, какая-то небольшая слабость.
Обследовали его со всех сторон: ЭКГ (в пределах нормы), глюкоза крови нормальная (глюкометр был у его мамы, у нас тогда его не было в укладке), давление чуть выше на 20 единиц. Пульсоксиметров тоже ещё не было. Все, вроде бы, нормально.
Но, видно, что-то мне в нём не понравилось.
Бывает у медиков такое чутье, которое сидит где-то внутри, свербит и заставляет, как говорится, перебдеть. Скоропомощники в этом случае говорят: «Задним местом чую». И пусть лучше в приемном отделении стационара решат, что ты дурак, и там ничего нет, чем будешь потом мучиться, что не отвез в больницу. Да и прокурор – человек серьезный.
Предложила я мужчине госпитализацию, сказала, что нужно поехать на обследование и наблюдение в многопрофильную больницу. Он сначала отказывался, правда, как-то неуверенно. Но мы его уговорили.
А у него дома по всей комнате были разложены симпатичные мягкие игрушки, которые выигрывают в автоматах. Он этим делом увлекался. И наш пациент подарил мне и моей помощнице по одной. Ей, не помню что. А мне – миленькую забавную яркую уточку, очень приятную на ощупь веселой расцветки.
Поблагодарив за подарки, мы с медсестрой предложили найти носильщиков, которые снесут больного до автомобиля скорой. Но мужчина наотрез отказался, сказав, что дойдёт сам.
Так как давление позволяло, а на кардиограмме было всё нормально, мы согласились.
Спустился он быстро, сел в машину.
А через 2 минуты у него развился молниеносный отёк лёгких. И что бы ни делали мы и приехавшая на помощь бригада реанимации, спасти его не удалось…
Эта красно-жёлтая уточка так и стоит у меня на полке в дачном доме. При взгляде на неё я вспоминаю добрые глаза того интеллигентного мужчины, момент дарения игрушки от всей его щедрой души и сожалею, что он ушёл так рано, а мы не смогли этому помешать.
И подобные случаи может вспомнить любой сотрудник скорой помощи.
Однажды дали нам вызов «без сознания», бабушка 80 лет.
Поднялись на 4 этаж. Там возле приоткрытой квартиры на лестнице полусидит старушка.
Никаких признаков жизни. Нет сознания, дыхания, нет пульса на сонной артерии, нет роговичных рефлексов. Бледная.
Рядом стоящие родственники пояснили, что больная страдает бронхиальной астмой, ей стало плохо, она попыталась добраться до сына, живущего этажом ниже, и не дошла.
Мы сначала подумали, что уже всё, бабушку призвали в лучший мир. Но тут вдруг старушка делает один агональный вдох и опять не дышит. И мы приступаем к работе.
В ход идут ИВЛ мешком Амбу, непрямой массаж сердца, катетеризация вены, адреналин, кислород, дефибриллятор.
Не проходит и 5 минут, как наша пожилая пациентка начинает, хоть и плохо, но самостоятельно дышать, появляется слабое сердцебиение.
Носилки. Капельница. Звонок в приёмное больницы скорой помощи.
Водитель доставил нас в стационар за 7 минут.
Сдали мы бабульку врачам-реаниматологам живую, в состоянии «после клинической смерти», хоть и с неизвестной причиной внезапной катастрофы.
Удивились врачи больницы, удивились родственники, удивились мы с моим помощником.
Казалось бы, на том свете уже прогулы записывали «божьему одуванчику». Ан нет! Воля бабушки к жизни оказалась сильнее.



