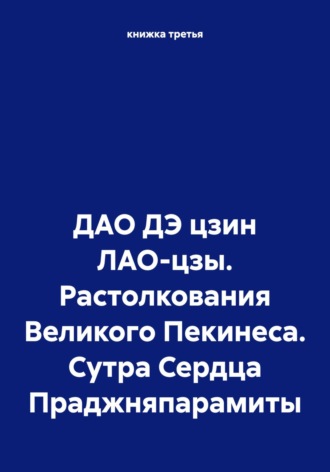
Полная версия
ДАО ДЭ цзин ЛАО-цзы Растолкования Великого Пекинеса Сутра Сердца Праджняпарамиты
В итоге, эта удручающая череда событий завершается чисто внешним церемониальным одеревенением, зачастую лишенным всякого смысла и эмоционального трепета. Закостеневшая «праведность» истончает как искренность тех, кто танцует под ее фарисейскую дудку, так и доверие к ней со стороны здравомыслящих граждан. Вдобавок «правильность» неизбежно располагается во главе любой смуты и беспорядка просто уж потому, что они являются обязательной противоположностью ее собственного присутствия под голубыми Небесами.
(12). Стандартный текст: «前цянь 識ши 者чжэ 道дао 之чжи 華хуа 而эр 愚юй 之чжи 始ши». В мавантуйских версиях уже «前цянь 識ши 者чжэ 道дао 之чжи 華хуа 也е 而эр 愚юй 之чжи 首шоу 也е», где частицы «е» придают строке ярко выраженный характер определения. Соответственно, «前цянь 識ши 者чжэ» равняется как «道дао 之чжи 華хуа», так и «愚юй 之чжи 首шоу» или «愚юй 之чжи 始ши» в стандартном варианте. Начнем, как водится, с самого конца. «Юй чжи ши» и «юй чжи шоу» – это начало или голова глупости. «Хуа» – это цветок, украшение, орнамент и даже султан на древке императорского знамени из перьев зимородка (цуй хуа). Тогда «дао чжи хуа» – это цветок или украшение Дао – нечто красивое, но лишнее и никому не нужное. В главе 19 уже встречалось «украшение Дао» в виде знака «文вэнь» (культура, образование, обряд), в данном контексте вполне созвучного иероглифу «華хуа». Наконец, «前цянь 識ши 者чжэ» – тот, кто делает «цянь ши». Иероглиф «цянь» – впереди, заранее, предшествовать, продвигаться вперед; знак «ши» – знание, знать, стремиться к знаниям. Артур Уэйли считает, что «Foreknowledge may be the «flower of doctrine», but it is the beginning of folly» (Предвидение может быть «цветком учения», но это начало глупости). Роберт Хенрикс придерживается аналогичных воззрений: «And foreknoweledge is but flower of the Way, and the beginning of stupidity» (Предвидение– это всего лишь цветок Пути и начало глупости). Очаровательно, но «цянь ши» помимо «предвидения» или «знания заранее» может означать «to go forward in knowledge» или умножение своих познаний посредством накопления условных представлений. Кроме прочего, иероглиф «ши» означает «запоминать» и «записывать», а любимым занятием ученых и чиновников древнего Китая было заучивание иероглифов во все возрастающем количестве. Вполне вероятно, трудолюбие именно в этом направлении Лао-цзы и почитал за начало беспробудной глупости. Хотя, если возвратиться к строке (11), где несгибаемая «правильность» возвышается во главе смуты и беспорядка, то нетрудно заметить, что именно она всегда знает наперед, «что такое хорошо, а что такое плохо». Однако «Homo proponit, sed Deus disponit» – хомоособи, как ни предполагают, да все равно не располагают. Поэтому с важным видом знать заранее, куда повернется квантовая неопределенность божественного провидения – это … Ох-ох.
Из соображений поэтических и вольнозадумчивых мы, с Мудропушистым, в строках (12) и (14) с радостью во взоре поспешим заменить «цветок» Дао его неплодоносящим «пустоцветом».
(13). (14). (15). В этих строчках великомудрый китайский Муж (大да 丈чжан 夫фу), не желая растрачивать свое драгоценное здоровье на всякий сивокуриный вздор, предпочитает всей душой погрузиться в «厚хоу» (толстый, сильный, значительный), избегая ощущать себя в «薄бао (бо)» (тонкий, ограниченный, незначительный и слабый). Он выбирает сочный плод (實ши), не отвлекаясь на ароматные, но невкусные цветы (華хуа). Мавантуйские копии текста вместо «薄бао» предлагают его омоним «泊бо» (неподвижный, останавливаться, вставать на якорь), уже встречавшийся в главе 20 (я, один, будто бы встал на якорь…). Мы, с Великим Пекинесом, смиренно полагаем, что здесь он оказался из-за ошибки переписчика, впопыхах попутавшего одинаково звучащие иероглифы. Почему? Потому, что в главе 20 знак «泊бо» выступает в качестве уникальной и однозначно положительной характеристики мудрокитайского волшебника. Здесь же мудромуж откровенно этот «бо» недолюбливает, стараясь держаться от него на расстоянии. Вот и Роберт Хенрикс (мавантуйский текст «В»), не зная, куда приклеить мавантуйский «泊бо», решает заменить его иероглифом «薄бао» из стандартного текста в виде английского «thin»: «Therefore the Great Man dwells in the thick and doesn´t dwell in the thin. Dwells in the fruit and doesn´t dwell in the flower. Therefore, he rejects that and takes this» (Потому Великий Муж пребывает в толстом и не пребывает в тонком. Пребывает во фрукто-плоде и не пребывает в цветке. Потому он отвергает то, и берет это). Перевод Ян Хин-шуна на этот раз откровенно хорош: «Поэтому великий человек берет существенное и оставляет ничтожное. Он берет плод и отбрасывает его цветок. Он предпочитает первое и отказывается от второго». Однако максимальный восторг можно испытать лишь окунувшись во творение знаменитого китаеведа современности Малявина В.В.: «Вот почему великий муж находит приют в глубоком и не живет в мелком, Он находит приют в корне и не живет цветочками. Он не принимает второе и берет первое». Потрясающе! Неразумный с вислоухим кроликом Пи-Пу, втайне мечтая прожить свои вегетарианские жизни с фруктами и овощами, а не с тюльпанами и розочками, сразу возжелали воскурить в направлении этого «правильного» профессора свою последнюю благовонную палочку. Но Великий Пекинес, встав в позу огнедышащего дракона, вдруг объявил, что на три дня откажется от сухого корма из-за спонтанно нахлынувших на него протестных настроений. Обескураженный Неразумный прервал обряд воскурения, обнажил свое правое плечо и покаянно упал в картофельные грядки, умоляя Излучающего Счастье прояснить причины столь экстренного протеста. Великий Пекинес, сострадательно наставляя, молвил следующее: «О любимый двуногий, сознание мудровеликого Мужа – это беспредельно расширяющееся сознание, бесстрашно преодолевающее все, что его ограничивает. Разве можно сравнить его с худосочным мышлением нервного обывателя, скованного однобокой правильностью, лицемерной моралью и корпоративными интересами. Что же касается глубин сознания, то постоянное в них пребывание весьма затруднительно. В тех квантовых широтах обитает лишь Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов, одним фактом своего существования насмехающийся как над наукой, так и всеми профессорами, вместе взятыми. Любителям медитативных заплывов редко выпадает счастье занырнуть в такие глубины. Диковинные же «камешки» и «ракушки», что им иногда удается поднять на «поверхность» их сознания, как раз и ведут к его расширению. Чем глубже нырнешь, тем шире сознание. Шире сознание – больше Света. Ныряйте, да откроется вам! Аминь».
39.
(1) [Вот кто] обрел Одно-единое в древности:
(昔 си 之 чжи 得 дэ 一 и 者 чжэ)
(2) Небо Одно-единое обрело – из-за этого ясное;
(天 тянь 得 дэ 一 и 以 и 清 цин)
(3) Земля Одно-единое обрела – из-за этого неподвижна;
(地 ди 得 дэ 一 и 以 и 寧 нин)
(4) Боги Одно-единое обрели – из-за этого и божественны;
(神 шэнь 得 дэ 一 и 以 и 靈 лин)
(5) Долины Одно-единое обрели – из-за этого и наполнились;
(谷 гу 得 дэ 一 и 以 и 盈 ин)
(6) Десять тысяч вещей Одно-единое обрели – оттого-то и народились;
(萬 вань 物 у 得 дэ 一 и 以 и 生 шэн)
(7) Знать и цари Одно-единое обрели – потому и установили порядок под Небесами.
(侯 хоу 王 ван 得 дэ 一 и 以 и 為 вэй 天 тянь 下 ся 正 чжэн)
(8) Это тому и было причиной.
(亓 ци 致 чжи 之 чжи 也 е)
(9) [Если] не оттого Небо ясное, [ох], боюсь, [как бы ни] раскололось.
(天 тянь 無 у 以 и 清 цин 將 цзян 恐 кун 裂 ле)
(10) [Если] не оттого Земля неподвижна, [ох], боюсь, [как бы ни] расшаталась.
(地 ди 無 у 以 и 寧 нин 將 цзян 恐 кун 發 фа)
(11) [Если] не оттого божественны Боги, [ох], боюсь, [как бы ни] обессилили.
(神 шэнь 無 у 以 и 靈 лин 將 цзян 恐 кун 歇 се)
(12) [Если] не потому долины наполнены, [ох], боюсь, [как бы ни] пересохли.
(谷 гу 無 у 以 и 盈 ин 將 цзян 恐 кун 竭 цзе)
(13) [Если] не потому десять тысяч вещей народились,
[Ох], боюсь, [как бы ни] вымерли.
(萬 вань 物 у 無 у 以 и 生 шэн 將 цзян 恐 кун 滅 ме)
(14) [Если] знать и цари не потому благородны и чтимы,
[Ох], боюсь, [не были бы] низвергнуты.
(侯 хоу 王 ван 無 у 以 и 貴 гуй 高 гао 將 цзян 恐 кун 蹶 цзюе)
(15) Поэтому, непременно, благородству унижение служит корнем.
(故 гу 必 би 貴 гуй 以 и 賤 цзянь 為 вэй 本 бэй)
(16) Непременно, низкое служит высокому основанием.
(必 би 高 гао 以 и下 ся 為 вэй 基 цзи)
(17) Вот потому знать и цари сами себя называют
«Недостойными», «сирыми», «обделенными».
(是 ши 以 и 侯 хоу 王 ван 自 цзы 謂 вэй 孤 гу 寡 гуа 不 бу 穀 гу)
(18) Это ль ни применение униженности как корня? Разве не так?
(此 цы 非 фэй 以 и 賤 цзянь 為 вэй 本 бэй 耶 е 非 фэй 乎 ху)
(19) Поэтому, получив много колесниц, не имей колесниц.
(故 гу 致 чжи 數 шу 輿 юй 無 у 輿 юй)
(20) Не желай сверкать и блестеть как яшма.
(是 ши 故 гу 不 бу 欲 юй 琭 лу 琭 лу 如 жу 玉 юй)
(21) [Оставайся] простым как камень.
(珞 ло 珞 ло 如 жу 石 ши)
«And the world is like an apple
Whirling silently in space»
«Windmills of your mind», Alan and Marilyn Bergman, Michel Legrand, 1968
Живописать языком неуклюжей двойственности, каким парадоксальным образом дискретные составляющие Дао-единства, им же наполняясь, приобретают полноту своих свойств, затруднительно даже мудрым древнекитайцам. Однако Лао-цзы преодолевает сию проблему легко и виртуозно, чем и провоцирует нас, с Великим Пекинесом, на восторженные повизгивания и высокочастотные повиливания хвостиком.
Эта баллада являет собой прекрасный экземпляр глубокомысленной поэзии и даже более того. На наш вегетарианский нюх, чтобы ее сочинить, надо было всерьез, а не понаслышке «занырнуть» в Великое Тождество. Разглядеть изнутри обывательской скуки, что каждая вещь, насквозь пропитавшись Одно-единым, становится именно такой, как она есть, почти невозможно. Причем, не стоит с насупленным пристрастием взирать на причинно-следственную зависимость воспеваемых здесь спонтанно-мистических процессов. В те нафталиновые времена китайские мудротоварищи еще не исповедовали чань-буддизм, и хлопки одной лапой были не в ходу. Конечно, вместо первых четырнадцати строк можно было бы с важным видом объявить, что Дао не отлично от десяти тысяч вещей, но… поэзия. Ах-ах.
Отпраздновав равномерное распределение Дао-субстанции в многообразии явленного Сущего, Мудропушистый и его неразлучный друг, вислоухий кролик Пи-Пу, озабоченно устремились в джунгли черной смородины на поиски надысь утерянного там плюшевого поросенка. Неразумный, оставшись в заброшенном одиночестве, не стал печалиться и жалобно скулить. Его пустопорожнее сознание вдруг озадачилось в высшей степени насущным вопросом. «Ах, почему Неразумный не вислоухий кролик?» – вопросил он сам себя строго и с пристрастием. Нет, кроме шуток! Для разнообразия и во имя общего развития в одной из следующих жизней непременно следует вылупиться вислоухим кроликом. Ведь Чжуан-цзы с откровенной лучезарностью во взгляде утверждает, что «Нет границы между Дао и вещью, но каждая вещь имеет предел – это, так называемая, граница вещи. Предел же безграничного – это беспредельность ограниченного» (Гл.22). Ух-ух! А раз так, то вместив в своем сердце Великое Одно и пустившись в плавание «по бескрайней Пустоте, где появляется Великое Знание», разве трудно будет вынырнуть на «поверхности» сермяжной Реальности (гл.1) в виде иллюзорной рупа-формы под названием «вислоухий кролик»? Ведь все субстанциональные конфигурации в силу их изначальной беспредельности ничем Дао-реальностью не ограничены, и лишь квантовая неопределенность беспощадно определяет, быть ли им вислоухим кроликом или принцессой Турандот. Вот интересно, что бы вымолвил на этот счет Великий Чжуан-цзы?
В мавантуйских вариантах текста строки (6) и (13) отсутствуют. Строки (9), (10), (11), (12) и (14) в тексте «А» начинаются с иероглифа «胃вэй» (говорить, называть, полагать, иметь в виду). В версии «В» знак «вэй» есть только в начале строки (9). Кроме того, даже за французскую шоколадку «Cote d’Or» с белым слоном на красной коробочке мы не захотим пройти мимо знака «恐кун» (бояться-опасаться, тревожиться и горевать), приютившегося на предпоследних позициях в строчках (9)-(14) и придающего описываемым в них космологическим процессам мощную эмоциональную окраску (в нашем исполнении – «ох, боюсь!»). Странно, но в переводах он почти не встречается, выветриваясь в неизвестном направлении по никому неведомым причинам.
В отличие от остальных текстов на мавантуйских шелковых свитках в строках (15) и (16) заметно присутствие иероглифов «必би» (конечно, непременно, обязательно) и «而эр» (и; но; еще и). Роберт Хенрикс отмечает, что «The particle «erh» («and yet») in the middle of lines 13 and 14 in Text A (but only in line 14 in B) suggests a possible reading of «Therefore, it must be the case that even though they are noble, nonetheless, they take the base as their root. And it must be the case that even though they are high, nonetheless, they have the low for their foundation» (Частица «эр» в середине срок 13 и 14 (у нас (15) и (16)) текста «А» (в тексте «В» только в строке 14) предполагает следующее прочтение: «Поэтому, хотя они и благородны, тем не менее, они берут низких в качестве своего корня. Хотя они и высоки, тем не менее, они имеют низкое в своем основании). Мы, следуя в переводе за стандартным вариантом текста, да не убоимся во имя торжества древнекитайского благозвучия привлечь иероглиф «必би» из мавантуйских свитков. Признаться, строчки (15)-(18) никаких затруднений при честном переводе не представляют, и, оставив «хоу» и «ванов» с их симуляцией душевной близости обездоленным массам рабочих и крестьян, мы поспешим погрузиться в заключительный фрагмент этой главы – один из самых загадочных в бессмертной книге под названием «Дао Дэ цзин».
Последние три строки в том виде, как они записаны, истолковать однозначно не представляется возможным. Поэтому без гадательных процедур и всплесков буйной фантазии тут не обойтись.
Во всех рассматриваемых вариантах текста строка (19) выглядит как «故гу 致чжи 數шу 輿юй 無у 輿юй», где первый иероглиф «гу» (поэтому, по причине) извещает о логической связи предшествующих ему сентенций с тем, что за ним следует. «Чжи» – достигать-получать, осуществлять-реализовывать. «Шу» – число, количество, несколько, много, нумеровать. «Юй» – повозка, колесница. «У» – не иметь, нет. «Юй» – снова повозка, телега или колесница.
Мудрофилософы планеты за две с лишним тысячи лет к миролюбивому консенсусу в отношении этих шести иероглифов так и не пришли. Одни полагают, что Лао-цзы призывает здесь сосчитать все детали колесницы, дабы удостовериться, что каждая в отдельности ею не является. Например, Wing-tsit Chan: «Therefore enumerate all the parts of a chariot as you may, and you still have no chariot» (Поэтому, пронумеруй, как только сможешь, все части колесницы, а все равно колесницы не имеешь). К сожалению, в тексте нет даже намека на запчасти к гужевому транспорту, а знак «致чжи» при таком развитии событий откровенно оказывается не у дел. Да, что там «чжи»: вся строка выбивается из контекста, невзирая на иероглиф «故гу», обещающий строгие оргвыводы из всего преждесказанного. Иные мыслители убеждены, что речь в строке (19) идет о военной мощи хитромудрого вождя, прекрасно осведомленного о количестве своей боевой техники, но предпочитающего стыдливо имитировать этой осведомленности отсутствие. Роберт Хенрикс: «Therefore, they regard their large numbers of carriages as having no carriage» (Поэтому они считают большое число своих колесниц как отсутствие колесниц). Хорошо, но снова нервирует знак «чжи», не имеющий никакого отношения к глаголу «to regard» (думать, считать, рассматривать). Третья категория ученых мужей видит в иероглифе «輿юй» (колесница) схожий с ним «譽юй», означающий «репутация, хвала и слава». Роджер Эймс и Дэвид Холл: «Hence the highest renown is to be without renown» (Поэтому высшая слава – это быть без славы). Lau Din-cheuk: «Hence the highest renown is without renown». Откуда произрастают такие настроения? Да у Чжуан-цзы встречается нечто похожее: «Но существует ли на самом деле счастье? Я считаю настоящим счастьем недеяние (У-вэй), а толпа считает это великим мучением. Поэтому и говориться: «Высшее счастье в отсутствии счастья, высшая слава в отсутствии славы» (Чжуан-цзы, Гл.18, Позднеева Л.Д. 2006). Наконец, Рихард Вильгельм в 1910 году предпринял еще одну смелую попытку придать строке вразумительное звучание: «For: without its individual parts there is no carriage» (Потому: без отдельных частей нет колесницы). К сожалению, в тексте слишком многого не хватает для перевода «чжи шу юй у юй» таким восхитительным образом.
Мы, с Великим Пекинесом, честно оставляем строку в ее древнекитайском покое и максимальном приближении к оригиналу: «Поэтому (故гу), получив (致чжи) много (數шу) колесниц (輿юй), не имей (無у) колесниц (輿юй)». Почему? Because, древнекитайский президент, торжественно усаживаясь лицом к теплому Югу, получал в свое распоряжение не только сундуки с золотом и яшмой, но и вооруженные силы своего султаната. В те времена кавалерия была в зачаточной стадии становления, а железо только начинало вытеснять медь в процессе производства холодного оружия. Вполне возможно, несколько десятков боевых колесниц уже дозволяли заносчивому ван-султану вести себя хамским образом по отношению к своих миролюбивым соседям. Собственно, иероглиф «шу» означает скорее «несколько», нежели «много». Так для мудромыслящего вана-правителя великодержавно задиристое поведение было неприемлимо. Поэтому в контексте того, что заявлено в строках (15)-(18), он, имея под ружьем тяжелую кавалерию, не впускал ее в свою пушистую голову, предпочитая направлять развитие конфликтных ситуаций в сторону наименьшего кровопролития и мирнолюбивого прогресса.
(20). (21). В текстах Ван Би, Хэшан-гуна и Фу И строка (20) записана как «不бу 欲юй 琭лу 琭лу 如жу 玉юй», где «бу юй» – не желать; «лу» – нефрит, «жу» – быть похожим; «юй» – яшма, нефрит, драгоценность (твердый, совершенный и безупречный как нефрит). Строка (21) выглядит как «珞ло 珞ло 如жу 石ши», где «ло» – ожерелье из нефрита и жемчуга; «жу» – быть похожим; «ши» – камень, булыжник (твердо-прочный как камень). У Фу И вместо знака «жу» присутствует иероглиф «若жо», означающий то же самое, что и «жу». В мавантуйском варианте «В» (в тексте «А» недостает четырех иероглифов) строка (20) – «是ши 故гу 不бу 欲юй 祿лу 祿лу 若жо 玉юй», где «ши гу» – таким образом, по причине, в результате; «бу юй» – не желать; «лу» – счастье, карьера, служебное благополучие, жалование, доход; «жо» – быть похожим; «юй» – яшма, нефрит, драгоценность. Строка (21) также выглядит иначе – «硌гэ 硌гэ 若жо 石ши», где «гэ» – камень, валун; «жо» – быть похожим; «ши» – камень, булыжник. Учитывая, что в мавантуйских текстах эти строки начинаются с сочетания «是ши 故гу» (таким образом, потому), мы, с Великим Пекинесом, от этого «ши гу» поспешим плавно уклониться. В строке (19) уже имеется иероглиф «故гу» (поэтому), и лишний раз резюмировать одно и то же…. Очевидно, по этой причине «ши гу» и исчезает из более поздних текстов, что в данном случае, несомненно, пошло им на пользу.
Из этого нагромождения иероглифов, вырисовывается следующая китайская мудрость: «Не желай «лу-лу» как яшма, «ло-ло» (гэ-гэ) как камень». Вот и все. Остается разузнать, что такое «лу-лу» и «ло-ло». Подобные биномы-идиомы по своему смыслу часто отличаются от значений иероглифов, их составляющих. В стандартном тексте «琭лу 琭лу» – это редкий и необычный, rare, scarce, сверкать и блестеть, to glitter, to dazzle; «珞ло 珞ло» – твердый, обычный, простой или нечто, лежащее кучей в неисчислимом количестве, например, насыпь из щебня или гальки, common, ordinary. Во втором мавантуйском тексте «祿лу 祿лу» – обычный и заурядный, а «硌гэ 硌гэ» – куча из камней.
Строго взвизгнуть, строки должны читаться, как «не желай быть ни редко-блестящим как яшма, ни твердо-простым как камень». Но тогда они преображаются в совершенно самостоятельное явление, никак не связанное с заявлением строки (16) «низкое служит высокому основанием». Например, Lau Din-cheuk: «Not wishing to be one among many like jade nor to be aloof like stone». Малявин В.В.: «Не желай ни блестеть, словно прекрасная яшма, ни быть твердым, словно простой булыжник». Возможно, умудренным китайцам было тепло и уютно ощущать себя где-то между престижной яшмой и никому не нужным булыжником, но возникает вопрос, в каком конкретно месте и, собственно, во имя чего? Не найдя на него благоразумного ответа, мы, с Великим Пекинесом, наивно полагаем, что максимально пронзительный смысл сей фрагмент приобретает лишь в том случае, когда яшма и придорожный камень, следуя постулатам строк (15) и (16), выступают в непримиримой противофазе. Возомнить себя драгоценной яшмой, высокомерно искрясь и царственно поблескивая, все одно, что сворачивать с ровного Дао-пути на узкие горные тропы (гл.53) или принимать гостей угощением из объедков (гл.24). Для людей такое поведение – причина для недовольного фыркания и не только.
Быть ближе к народу как бесхитростный булыжник или необработанная древесина (пу) из главы 19 вовсе не означает культивацию доморощенного идиотизма, свойственную вечно встающим с колен агрессивным козлобаранам. Отнюдь…. Яшма – тот же камень. Лишь сознание, пребывающее в тумане сансарического неведения, наделяет ее дорогостоящими свойствами. Так либо эти строки являют собой инородное вкрапление, не имеющее никакого отношения к описываемым в этой главе происшествиям, либо в последней строке утрачены несколько иероглифов, необходимых для благополучного противопоставления «сермяжного» камня «привилегированной» яшме.
Во имя пущей важности и торжества мудрокитайской справедливости мы, с Великим Пекинесом, осмелимся озвучить разнообразные переводы этих загадочных строк. Роберт Хенрикс (мавантуйский текст «В»): «And because of this, they desire not to dazzle and glitter like jade, But to remain firm and strong like stone». Рихард Вильгельм: «Do not desire the glitter of jewel but the raw roughness of the stone». Артур Уэйли: «They did not want themselves to tinkle like jade-bells, while others resounded like stone chimes». Ян Дюйвендак: «Its desire is not to be finely carved like jade, but to be scattered like gravel». Роджер Эймс и Дэвид Холл: «They do not want to be precious like jade, But common like stone». Ян Хин-шун: «Нельзя считать себя «драгоценным», как яшма, а нужно быть простым, как камень».
40.
(1) «Отступление» – [так] движется Дао.
(反 фань 也 е 者 чжэ 道 дао 之 чжи 動 дун 也 е)
(2) «Ослабление» – [так] действует Дао.
(弱 жо 也 е 者 чжэ 道 дао 之 чжи 用 юн 也 е)
(3) Под Небесами десять тысяч вещей
Существуют [относительно того], что есть.
(天 тянь下 ся 萬 вань 物 у 生 шэн 於 юй 有 ю).
(4) То, что есть, существует [по отношению к тому], чего нет.
(有 ю 生 шэн 於 юй 無 у)
«As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain;
and as far as they are certain, they do not refer to reality»
Albert Einstein
«Цзи Вэнь-цзы обдумывал каждое дело три раза, а потом уже действовал.
Учитель, узнав об этом, сказал: «Достаточно обдумывать два раза»
«ЛУНЬ ЮЙ», Древнекитайская Философия, перевод Кривцова В.А., том 1, 1972
Andante Maestoso
«Страдал Гаврила энтропией…»
Известно каждому Гавриле,
Что Ньютон, Максвелл и Эйнштейн,
Свои законы сочиняя,
Забыли в них предусмотреть
Одно невинное условие.
Пустяк! Их хоть какую связь
С движением времени неспешным.
Сюда, из глубины веков,
К нам – их потомкам безутешным.
Без разницы законам этим
Течение времени вперед,
И их счастливое забвение
Сбивало с толку всякий раз
Всех, кто пытался безуспешно,
Штурмуя тайны Бытия,
Причину временного направления
В пространстве отыскать без промедления.
Тут мудрый Больцман к нам на помощь
Спешит, и жизни не щадя,
Божественною энтропией связует времени поток.
Термодинамики законом строжайше запрещая всем,
Увеличению энтропии препятствовать.
И по Вселенной всей Указ сей оглашен немедля,
И исполнению подлежит с начала Времени течения.
(1). (2). Если весело покаяться, то мы, с Великим Пекинесом, не ожидали столь напряженной задумчивости от этой миниатюрной главы. Соседские куры относят ее к средней категории сложности, но схимники-огородники не разделяют их легкомысленного кудахтания. Что до мудрокота Кости, то по всем вопросам он предпочитает занимать хитропозицию обделенного сметаной философа-недотроги. Вот и сейчас, молниеносно умяв заветную порцию этого кисломолочного продукта, он бессовестно ослаб, уронив себя в беспробудное «Самадхи» до самого ужина. Не дождавшись его принципиального мнения, пушистые схимники в сотый раз приняли сердитую декларацию об ущемлении прав и свобод всех ненасытных котов в пределах юрисдикции их вольного огорода.
В мавантуйском тексте «А» первые три иероглифа строки (1) не сохранились, но в версиях Хэшан-гуна, Фу И, Ван Би и в мавантуйском тексте «В» строка начинается знаком «反фань», символизирующим реверсивное движение и обладающим следующими восхитительными значениями: возвращаться, отступать, пятиться назад, опрокидываться, уходить в себя и выворачиваться наизнанку. На годянских дощечках знак «返фань» выглядит чуть иначе, откровенно тяготея к значению «возвращаться», но годянский бамбук, как говорят соседские пеструшки, погоду на деревне не делает.

