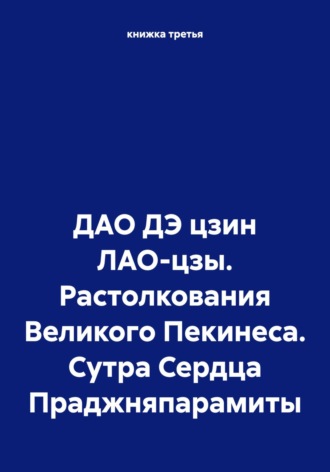
Полная версия
ДАО ДЭ цзин ЛАО-цзы Растолкования Великого Пекинеса Сутра Сердца Праджняпарамиты

книжка третья
ДАО ДЭ цзин ЛАО-цзы Растолкования Великого Пекинеса Сутра Сердца Праджняпарамиты
老子
道德經
Л А О – Ц З Ы
ДАО ДЭ ЦЗИН
ВЕЛИКИЙ ПЕКИНЕС
PRINCIPIA REALITATIS ABSOLUTAE
КНИЖКА ТРЕТИЯ
Т О Л К О В А Н И Я
ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК
Благие повизгивания антинаучного содержания
(ГЛАВЫ 38 – 48, 51, 67, 71, 79 – 81)
Десерт:
Сутра Сердца Праджняпарамиты;
Сутра Помоста Шестого Патриарха
(Главы 1, 2....)
Посвящается
Великим Пекинесам Ян Чжу-цзы и Чун Чун-цзы,
истинным друзьям и наставникам.
Записано со слов Великого Пекинеса Ян Чжу-цзы с безразлично-молчаливого благословения Великого Пекинеса Чун Чун-цзы в год плодовитой свиньи – 2007 от рождения Иисуса Христа
(16. 02. 2007 – ……… )
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Схимники-огородники:
ЯН ЧЖУ-цзы,
Великий Пекинес, живое воплощение льва Бодхисаттвы Манджушри. Древнекитайцы вывели эту бесстрашную собачку, скрестив маленькую обезьянку с могучим «царем зверей». Великий Будда, созерцая сей смелый эксперимент, несомненно, возрадовался его результату. Прикоснувшись ко лбу новорожденного «львенка», Победитель Смерти оставил на нем темное пятнышко (палец Будды), из века в век украшающее всех его мудропушистых потомков.
КОСТЯ,
вольнопасущийся мудрокот, хитрый, но белоснежный, Рыцарь сонного царства, Мастер Дхьяны.
ПИ-ПУ,
вислоухий кролик, мудронаивный, но беспредельно отважный, Рыцарь морковки и капустного листа, Мастер Дхьяны.
НЕРАЗУМНЫЙ,
слуга Великого Пекинеса, его послушный ученик и благоговейный почитатель.
Соседские КУРЫ,
террористически мыслящие птицы, дерзко и сквозь дырку в заборе совершающие набеги на суверенные грядки схимников-огородников.
Вальяжные УТКИ с другого конца деревни.
ДОМОХОЗЯЙКИ всех мастей, конфессий и кулинарных склонностей.
Место действия: огород схимников.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
Благороднейшей целью настоящего повествования Великий Пекинес полагает ее полное отсутствие. Наиглавнейшей же задачей Мудропушистый считает выражение глубочайшего уважения всем, кто стучался в Небесные Двери, а особенно тем, кому они с радостью приоткрылись.
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Вдумчивым домохозяйкам уж точно известно, что фундаментальную Реальность нельзя зафиксировать ни мыслью, ни словом, ни печатью в паспорте. Знание о Дао в любом случае иллюзия. И хотя знание об этом есть иллюзия еще большая, потомкам Адама и Евы, в чьих сердцах пылает божественное пламя Истины, не остается ничего иного, как снова и опять идти в этом знании до его обманчивого предела. Вот и Лао-цзы, беззаботно нарушая собственную заповедь (Кто понимает это, не говорит об этом (гл.56)), оставляет хранителю пограничного перевала книгу в пять тысяч иероглифов про безымянное Дао. Вот и Будда Шакьямуни щедро одаривает человечество тремя корзинами текстов, посвященных недуальной Дхарме, которую никакое знание отразить, в принципе, не способно. Очевидно, вопрос всех вопросов не в том, что Дао нельзя «ухватить» условными представлениями, а в том, как близко можно «подобраться» к нему с их помощью. Ведь эго-мышление вполне в состоянии вплотную подойти к своим собственным границам, а при избытке в сердце-уме отваги и искренности, перешагнуть их, пустившись в плавание по бескрайнему океану Великой Пустоты. Обретя в этом странствии опыт отсутствия опыта, сие «отсутствие» всегда найдет способ собственного выражения, и тот, кто сподобился «претерпеть» в своем организме столь восхитительную трансформацию, имеет полное право оставить свои «пять тысяч иероглифов» на пограничном перевале между жизнью и смертью.
Философствовать о Дао – занятие благородное, но прямое Видение (с большой буквы) Дао-реальности в сравнении с любой философией, что свежая осетрина по отношению ко всем остальным ее несъедобным состояниям. Козьма Прутков, весело заявив, что «никто не обнимет необъятного», был совершенно прав – двойственному сознанию осмыслить Дао-тождество, что шоколадному зайцу вырастить на своей пушистой голове ветвистые оленьи рога (Сутра Помоста). Тем не менее, нерушимый принцип божественной Неопределенности никогда не затворяет Небесную Дверь в «райские кущи». Спонтанный фазовый переход сознания двуногих зверюшек от эгоистической обособленности к светоносному Дао-единству возможен в любую погоду. Будда Шакьямуни, Лао-цзы, Иисус Христос, Бодхидхарма и тысячи других неизвестных, но не менее самоотверженных искателей Истины на собственном примере убедительно продемонстрировали реализацию этой восхитительной возможности.
Впервые иероглиф «дао» встречается в «Шу цзин» – «Каноне документов», посвященном событиям третьего-второго тысячелетия до нашей эры, где с его помощью повествуется о направлении реки в нужное русло при строительстве канала. Также считается, что изначально этот иероглиф использовался древними астрономами и астрологами для описания движения звезд в небесных сферах. Однако звезды никуда не ходят. Их путь по просторам космоса – воображаемая траектория, существующая лишь в фантазиях замечтавшегося наблюдателя. Поэтому от греха подальше лучше оставить иероглиф «дао» без перевода. Пусть те, кто найдут в себе силы дочитать все до конца, наполнят его собственным пониманием, а самые отважные – поскорее это «понимание» утратят.
Книга "ДЭ"
38.
(1) Высшее Дэ не совершенствуется, поэтому совершенством и обладает.
(上 шан 德 дэ 不 бу 德 дэ 是 ши 以 и 有 ю 德 дэ)
(2) Низшее Дэ не теряет Дэ, поэтому совершенством не обладает.
(下 ся 德 дэ 不 бу 失 ши 德 дэ 是 ши 以 и 無 у 德 дэ)
(3) Высшее Дэ не действует, и действовать не имеет причины.
(上 шан 德 дэ 無 у 為 вэй 而 эр 無 у 以 и 為 вэй)
(4) Высшее человеколюбие действует, и действовать не имеет причины.
(上 шан 仁 жэнь 為 вэй 之 чжи 而 эр 無 у 以 и 為 вэй)
(5) Высшая справедливость действует, и имеет причину действовать.
(上 шан 義 и 為 вэй 之 чжи 而 эр 有 ю 以 и 為 вэй)
(6) Высшая правильность действует, но, [если] никто ей не соответствует,
(上 шан 禮 ли 為 вэй 之 чжи 而 эр 莫 мо 之 чжи 應 ин)
То, закатав рукава, [соответствовать] заставляет.
(則 цзэ 攘 жан 臂 би 而 эр 扔 жэн 之 чжи)
(7) Поэтому за утратой Дао следует Дэ-совершенство.
(故 гу 失 ши 道 дао 而 эр 後 хоу 德 дэ)
(8) За утратой Дэ-совершенства следует человеколюбие.
(失 ши 德 дэ 而 эр 後 хоу 仁 жэнь)
(9) За утратой человеколюбия следует справедливость.
(失 ши 仁 жэнь 而 эр 後 хоу 義 и)
(10) Утеряна справедливость – за ней следует правильность.
(失 ши 義 и 而 эр 後 хоу 禮 ли)
(11) Именно правильность истончает преданность и доверие,
(夫 фу 禮 ли 者 чжэ 忠 чжун 信 синь 之 чжи 薄 бао)
И [стоит] во главе [всякого] беспорядка.
(而 эр 亂 луань 之 чжи 首 шоу)
(12) Знать заранее – пустоцвет Дао и начало глупости.
(前 цянь 識 ши 者 чжэ 道 дао 之 чжи 華 хуа 也 е 而 эр 愚 юй 之 чжи 首 шоу 也 е)
(13) Поэтому Великий Муж пребывает в великом. [Он] не живет в ничтожном.
(是 ши 以 и 大 да 丈 чжан 夫 фу 處 чу 其 ци 厚 хоу 而 эр 不 бу 居 цюй 其 ци 薄 бао)
(14) [Он] там, где плод, а не где пустоцвет.
(處 чу 其 ци 實 ши 而 эр 不 бу 居 цзюй 其 ци 華 хуа)
(15) Поэтому оставляет то и берет [себе] это.
(故 гу 去 цюй 彼 би 取 цюй 此 цы)
«Созерцание.
Умой руки, но не приступай к жертвоприношению.
Обладая правдой, будь нелицеприятен и строг»
ЧЖОУ И (И-цзин), перевод Шуцкого Юлиана Константиновича, гексаграмма 20
Adagio.
Высшее совершенство не нуждается в совершенстве
И про совершенство даже и знать не хочет.
Ущербное совершенство не оставляет усилий,
Как бы сделать себя получше,
И глаз с себя не спускает,
Будто бы измеряя, чего же оно, наконец, достигло.
Высшая человечность всем всегда помогает:
Каждой собаке и кошке, бедным, больным и сирым,
Страдания их облегчая и милосердие изливая
На всех, невзирая на лица.
Потому и подобна она великому Солнцу,
Свет и тепло дарующему всем без разбора.
Высшая справедливость будто бы человечность,
Которую где-то забыли:
Привкус остался, но вспомнить она не может
От чего он был изначально.
И чтобы вовсе его не утратить,
Справедливость пишет скорей законы.
Но закон, всем известно, что дышло.
Правильность похожа на штангенциркуль,
Собой измеряющий все без всяких сомнений.
Если правильность хоть малейшую власть имеет,
То, засучив рукава, выправить мир стремится –
Обстругать его по правильной своей мерке.
В лучшем случае искренне веря,
Что счастье и благо это всем принесет непременно.
Знать наперед, что завтра случится –
Ну глупее уж не найти гадания,
И не счесть пословиц и поговорок,
Что русский народ на сей счет придумал.
Вот Ванька-дурак всегда лишь под ноги себе смотрит.
Разве он озабочен прибылью на конец квартала?
(1). (2). (7). Едва ли для задумчивых домохозяек является китайским секретом тот выпуклый факт, что высшее совершенство потому и высшее, что совершенствоваться ему дальше некуда. Поэтому мы, с Великим Пекинесом, не усматриваем препятствий к тому, чтобы читать четвертый иероглиф первой строки как глагол от слова «совершенство» («上шан 德дэ 不бу 德дэ 是ши 以и 有ю 德дэ» (Высший; Дэ; Нет; Дэ; Поэтому; Иметь; Дэ) – Высшее Дэ не совершенствуется, поэтому обладает Дэ). Впрочем, и здесь мы не первые. Роджер Эймс и Дэвид Холл: «It is because the most excellent (de) don’t strive to excel (de)…» (Именно потому, что наивысшее совершенство не прилагает усилий, чтобы превзойти себя…)
Строка (2) «下ся 德дэ 不бу 失ши 德дэ» утверждает, что «Низший; Дэ; Нет; Терять; Дэ». Ой! Дэ-совершенство не бывает ниже и жиже. Оно как булгаковская осетрина всегда наивысшего качества. Вот и лучезарный даос Лю И-мин (1737-?) в переводе Томаса Клири замечает: «The Tao is unique, without duality – why do deluded people divide it into high and low?» (Awakening to the Tao, Liu I-ming, Shambhala, 2006). Возможно, под «下ся 德дэ» подразумевается неугасимая страсть двуногих зверюшек к духовному прогрессу в виде морально-нравственной самокультивации. Однако эта забава бесконечно далека от Дэ-совершенства. Ведь увлеченная «самошлифованием» домохозяйка неизбежно ограничена иллюзорными плодами своих стараний и опасениями их утратить, а уж искоренение условных грехов на фоне не менее условной праведности и вовсе не способствует преодолению ею дуалистического восприятия Реальности, без чего мечтать о Дэ-совершенстве не только грустно, но и не смешно.
О доверчивые домохозяйки, дабы излучать вокруг себя совершенство спонтанной непривязанности, ваше сознание просто обязано пребывать в Колее Дао и беспрепятственно течь в неукротимом потоке фундаментальной Реальности, которая, если честно, никуда не течет. Дао – это нечто OmniPresent или божественная субстанция, а Дэ – это нечто OmniPotent или ее любимая функция, которая отдельно от Дао в дикой природе не случается. По-простому, Дэ – это манифестация Дао в иллюзорном мире десяти тысяч вещей и наполненных ими мимолетных событий. Так гражданке, отведавшей Эликсира Бессмертия, уж не удастся присутствовать под Небесами в образе бездарно угрюмой особи. Она будет действовать так же, как «действует» Дао, в волшебном стиле «У-вэй» (Не Действие), и все, что сквозь ее бесстрашное сердце будет перетекать из «глубин» постоянного Дао (гл.1) во «внешнюю сферу» обусловленных лингвистическими конвенциями быстротечных феноменов, как раз и будет называться изначальным Дэ-совершенством. Остальное добротоделание можно именовать как угодно, но только не божественным ДЭ.
Пребывая в беззаботном удивлении по поводу наличия в атмосфере древнего Китая «низкосортного» Дэ, мы поспешим весело наябедничать, что строка (7) тоже радует аномальным сообщением: «Поэтому, когда утеряно Дао, за ним следует Дэ» (故гу 失ши 道дао 而эр 後хоу 德дэ). В «Дао Дэ цзин» нет ничего более экзотического, чем Дао-субстанция, оторванная от своей Дэ-функции. Созерцая столь тревожные тезисы, легко согласиться с Lau Din-cheuk в том, что «Дао Дэ цзин» есть коллективное творчество древнекитайских товарищей, сильно различавшихся по интенсивности своей мудропушистости. Эта глава продолжает антиконфуцианскую полемику, начатую в главах 18 и 19, однако глава 18 отчетливо заявляет, что «когда отброшено Великое Дао», взамен впечатлительные граждане получают в лучшем случае человеколюбие и справедливость, а вовсе не Дэ-совершенство. Поэтому резонно взвизгнуть, что обнюхиваемая поэма представляет собой философский «винегрет», изготовленный совсем не тем мудрокитайским поваром, который сочинил главу 18. Why? Да из-за принципиально разного понимания одних и тех же универсальных процессов.
В нашем вольнолюбивом переводе мы отчасти следуем за мавантуйским текстом «В». На годянском бамбуке этой главы нет, а шелковый свиток «А» растерял в ней почти треть своих иероглифов. Что до стандартного ее варианта, а также версий Хэшан-гуна и Фу И, то в них после строки (3) присутствует еще один неуместный тезис: «Низшее Дэ действует и для действия имеет причины» (下ся 德дэ 為вэй 之чжи 而эр 有ю 以и 為вэй). По всем приметам, строка была добавлена в текст из добрых побуждений уравновесить строки (3) и (4) со строками (1) и (2), где высшее Дэ сравнивается с низшим. В этом странном случае «высшая справедливость» и «низшее Дэ» действуют одинаково, что лишь умножает сомнения в принадлежности главы 38 кисти Великого Лао-цзы.
(3). (4). Дао-реальность абсолютно совершенна, а все абсолютно совершенное абсолютно совершенно именно потому, что не обусловлено никакими причинами, следствиями и даже их благополучным отсутствием. Раз Дао и Дэ недвойственны в своей недуальности («О недвойственный в недуальности» – хвалебное кудахтание влюбленных в вислоухого мудрокролика соседских кур при его приближении к дырке в заборе), то и не «загрязняют» себя пребыванием в четырехмерном причинно-следственном континууме (пространство плюс время), категорически не участвуя в таких развлечениях, как «действие» и «движение». Опять, почему? Да действовать, передвигаться из точки А в точку В или самозабвенно дремать на диване, являя собой образец безмятежного покоя, дозволено лишь представителям двойственного мира субъектов и объектов. Дао и Дэ, не являясь ни тем, ни другим, действовать и перемещаться во времени сквозь пространство просто не приспособлены. Соответственно, мудрые китайцы хором и поют, что Дао в отсутствие себе противоположности действует «Не Действием» или «У-ВЭЙ» («У-вэй» – это не ленивое «недеяние» с его уголовно-процессуальным привкусом, а, в принципе, иное «хореографическое искусство», не имеющее аналогов в мире иллюзорного восприятия Реальности). Так если в строке (3) Высшее Дэ не действует (上шан 德дэ 無у 為вэй), пребывая вне юрисдикции закона кармической обусловленности («而эр 無у 以и 為вэй» – и не имеет причины действовать), то в строке (4) человеколюбие очень даже действует, что молниеносно указывает на присутствие внутри этого события субъекта действия. Эго-субъект, если он не буйный алкоголик и не страдает иными видами психического несварения, действует всюду и везде строго по повелению тех или иных причин или сообразно их последствиям. Поэтому заявление строки (4) про то, что человеколюбие действует (上шан 仁жэнь 為вэй 之чжи), но, как и Дэ не имеет для этого никакой причины (而эр 無у 以и 為вэй), только добавляет «огуречной ботвы» к вышеупомянутому «винегрету».
(5). (6). Усматривать антиконфуцианские настроения в этих строчках вовсе не обязательно. Человеколюбие (仁жэнь) и справедливость (義и) при любой погоде являют собой глобальные нравственные категории, ясные и понятные даже эскимосам преклонных годов. Но вот иероглиф «禮ли» (ритуал, этикет, внешние приличия, правильность, propriety) уже требует к себе особого внимания. Дело в том, что в основании всех честных правил и кодексов приличного поведения всегда лежат представления эго-субъектов о том, что такое хорошо и что такое плохо. При этом любые ментальные конструкции на эту тему относительны и нестабильны именно потому, что, как говорит вольный хитрокот Костя, мышкам нравится одно, а котам совсем другое. Тупо и везде соблюдать однобокую праведность все одно, что взращивать в своем сердце-уме нечто похожее на колючий «штангенциркуль», беспощадно измеряющий уровень этой однобокости во всех встречных, поперечных и наискосок идущих. Дорвавшаяся до власти «правильная правильность» во все века ведет себя одинаково: тех, кто не вписывается в ее жесткие параметры, она, засучив рукава, принуждает к их соблюдению вплоть до рабского послушания или тотального истребления. Наведение единственно правильного порядка традиционно сопровождается громким пением агитпсалмов о благе народа и угрозе со стороны вероломных соседей, внимая которым нестабильные члены популяции утрачивают ориентацию в общественно-политическом пространстве, превращаясь в послушное стадо унылых, но агрессивных козлобаранов. В силу причин туманных и загадочных маловдумчивые граждане, чем интенсивнее угнетаются и обворовываются своим главным «циркулем» и его ненасытной свитой, тем крепче убеждены, что именно так они и приподнимаются со стертых коленок, обретая долгожданное, но былое величие. Чтобы наблюдать эту удручающую возню во всей ее «правильной» красе, не нужно ехать в древний Китай. Достаточно выйти за ворота или выглянуть в окно, что категорически не советует делать Лао-цзы в изумительной главе 47. Поэтому мы, с Великим Пекинесом, да и не мы одни, при всем уважении к господину Конфуцию, предпочитаем читать знак «禮ли» как «правильность» в самом общем смысле этого слова, а не как ритуальные церемонии или правила благопристойной вежливости.
(8). В главе 18 мы уже обнюхивали таинственный процесс «охлаждения» Святого Духа, беспечно выскользнувшего из потока Дао-реальности в неприличное «болото» сансарического дуализма. Обычно, Дух, подцепивший вирус двойственности, растрачивает свою божественную Свободу стремительно и без сожалений, в лучшем случае полагая заменить ее универсальной любовью в виде гуманного человеколюбия и человеколюбивого гуманизма. Вот не пойду один в Нирвану, пока все кошки, мошки и двуногие лемуры не высадятся на «другом берегу» вдали от страданий и неприятностей. Ох-ох.
Всяка любовь хоть и не «струйка дыма», но все одно, как проявление привязанности, удовольствие сугубо сансарическое. Возьмем для остроты ощущений вторую заповедь Спасителя «возлюби ближнего твоего как самого себя» (от Матфея, гл.22-39), которую коленопреклоненные домохозяйки два тысячелетия повторяют с елейным придыханием, трепетно закатывая глазки. Если не впадать в заунывное благоутробие, а окунуться в нее на трезвую голову, то легко обнаружить, что, чем больше любишь самого себя, тем жарче обязан возлюбить и окружающую тебя публику. Обожать себя – это махровый эгоизм, а безответно любить всех ближних, дальних и вовсе незнакомых – это его самоотверженное отсутствие. Настойчивые позывы уместить в сердце-уме взаимоисключающие крайности – хрестоматийные симптомы нервной лихорадки, нередко приводящей к трагическим мышечным сокращениям задних лапок.
Так обнюхав в блаженном уединении главу 22, можно сразу уяснить, что китайский мудрорыцарь не страдал незапланированными подергиваниями от переизбытка в его организме деятельного человеколюбия. Он почему-то не спешил поделить легкомысленных сограждан на горькие плевелы и сладкую пшеницу. Созерцая из глубины своего просветленно-замутненного сердца (гл.49) их всевозможные выходки, он видел в них не злостных грешников, подлежащих испепелению на праведном костре, а своих горячо обожаемых, но непослушных деток. Сие, несомненно, шло им на пользу, без лишних нравоучений ориентируя их мировосприятие в сторону теплого уважения ко всем существам вне зависимости от их вероисповедания и цвета шерсти. С добрыми зверюшками я добрый, и с недобрыми зверюшками я тоже добрый. С честными зверюшками я честен и с коварными лицемерами я тоже честен (гл.49). Мудрое сердце постоянно в любых обстоятельствах, а его изначальная ИСКРЕННОСТЬ – это и есть Дэ-совершенство, берущее свое начало в божественной Колее Дао-реальности. Шестой Патриарх скромно заявляет, что Дао-ум подобен пространству, которому откровенно почихать на то, что такое хорошо и еще лучше (Сутра Помоста, гл.2). Великий Будда в четвертой главе Махапаринирвана-сутры тоже не стесняется выражать родственные чувства ко всем подряд без редких исключений. Даже в направлении злобных иччхантиков, опрометчиво фыркающих на истинную Дхарму, Победитель Смерти испытывал точно такие же «любящие мысли», как к своему сыну Рахуле. При этом любовь Будды Шакьямуни к самому себе была равна круглому нулю, и отнюдь не потому, что он отрицал присутствие назойливого «эго-атмана» в древнеиндийской атмосфере. Он этого «атмана», вообще, не отрицал, если уж быть пунктуальным в этом вопросе. Просто его Дао-ум пребывал вне любых противоположностей, будь то любовь, ненависть, атман, не атман, плохой иччхантик или добрый буддист. Такая недуальная жизненная позиция как раз и позволяла Благодатному излучать вокруг себя теплый божественный свет (в нашем древнекитайском случае Дэ-совершенство) на радость как важным слонам, тиграм и медведям, так и незначительным на первый взгляд лягушкам и черепашкам. Как называется зеленоватая смесь одновременной любви к окружающим и самому себе можно легко узнать из главы 24. Причем, если Дао-ум никогда не изнашивается (гл.15), то первый признак двойственного сознания – это его утомляемость. Откровение Иисуса Христа в главе 26 от Матфея об том, что, куда ни повернись, везде убогие и просто дураки, а Он, единственный и уникальный, не всегда будет радовать вялых апостолов своим чудотворным присутствием, тут же сигнализирует об усталости Спасителя безостановочно обслуживать всех инвалидов и слабоумных, попадающихся ему на глаза.
(9). (10). (11). К безжалостному прискорбию, все двойственные дхармы, повинуясь второму закону термодинамики, неизбежно деградируют в нечто совсем на них непохожее. Энтропия эго-сознания всегда неумолимо растет и в какой-то момент «двери» человеколюбия тихо закрываются. Следующая остановка – «справедливость» или перламутровая мечта юриспруденции, еще не знакомой со своей коррупционной составляющей. Нелицеприятная богиня Юстиция с обнаженной грудью и предварительно завязанными глазами. Равнодушные весы и обоюдоострый кинжал на службе справедливости и поголовного равенства. «Все свиньи равны!» – похрюкивает один из вождей свинореволюции на страницах «Animal Farm» Джорджа Оруэлла. – «Да здравствует, братство всех розовых поросят и их равенство перед честным законом. Ух-ух!» Весь мир насилия мы разрушим! А, что потом? А потом – бульон с котом от Швондера с Шариковым. Короче, вся эта свиновозня, как обычно, заканчивается маленькой, но фатальной коррекцией баннера, причем, в исполнении все того же свиногероя: «Все свино-животные равны, но некоторые свино-животные более равны, чем другие» («All animals are equal, but some animals are more equal than others», Animal Farm: A Fairy Story, George Orwell). Воистину, «a fairy story» – ложь, да добрым домохозяйкам не счесть в ней правдивых намеков.
В отличие от активного гуманизма, равномерно обращенного своим светлым ликом ко всем прослойкам духовно-пассивного общества, строгая справедливость уже разделяет его гордых членов на хороших и плохих, законопушистых и не очень. Откуда же берется тот правильный закон, что позволяет безошибочно отделять грешные сорняки от сочных фруктов? Ну, конечно, каменные плиты с Небес строго Моисею в густом дыму под грохот молний (Исход, гл.19-20): не разворовывай бюджет, не сотвори себе кумира и не лги по телевизору. Наконец, не убивай своих братьев, тебе же сильно подобных! Ах, как утонченно и заботливо! Однако слабодоходчиво. Толпы полудиких, но уже начинающих вставать с коленок древнеиудеев, едва получив от Всевышнего морально-нравственные нормы и правила, тут же наплевали на них со всех подветренных сторон. Избрав себе кумиром «золотого теленка», они учинили вокруг него вольную и, вполне возможно, непристойную пирушку: «… и сел народ есть и пить, а после встал играть». Вдоволь наигравшись, но, похоже, не до конца протрезвев, богоизбранная популяция продолжила несанкционированные Вседержителем народные гулянья, неожиданно закончив их зверской и беспощадной резней. По наущению все того же «правильного» Моисея сыны Израилевы, в очередной раз проигнорировав дарованные им заповеди, хладнокровно изрубили в мелкое рагу несколько тысяч своих инакомыслящих собратьев: «И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек» (Исход, гл.31). Скорбно взирая на это «высокодуховное побоище», невзначай получается, что ущемление свободы Духа было инициировано прямиком изнутри божественного эшелона власти. Правила честного поведения, выданные жестоковыйным гражданам «гуманным» Моисеем – это прямое продолжение богопротивных деяний хитрого змея в яблочном саду эдемского заповедника. Ведь если «вирус» сансарической двойственности проник в желудки первопредков вместе с яблочным соком, то свой юридический статус он обрел именно на горе Синай.

