
Полная версия
Земляника для сына по Млечному пути
Сейчас я понимаю, почему это случилось. Во мне жил страх. Я боялась этого рябого Витька, которому ничего не стоило переломать, изнасиловать и убить. Я и сейчас боюсь его, даже мертвого. Я запомнила его с детских лет, когда гостила в деревне у бабы Азы. Как-то он преградил мне дорогу, когда я шла домой с речки, больно схватил за руку. Это было дико и страшно, потому что уже тогда его молочные глаза были мертвы. Изо рта разило сивухой и луком, он ощерился и смачно харкнул мне под ноги. На мое счастье, кто-то из его дружков свистнул на мосту, и он отвлекся. Я выдернула руку и пустилась бежать, а вслед слышала его рык и мат.
Я боялась его трясущуюся мать, которая тогда по статусу была выше, чем мы. Она считалась местной, «своей», а мы кто? Беженцы, черные, понаехавшие. Нам и шею свернуть недолго, кто пожалеет?
Когда живое существо много боится, страх перерастает в ненависть, а ненависть в гнев, а гнев – в бунт. И в тот день, когда мама протянула эту тетрадь, я уже дошла до стадии бунта.
Понять и принять историю первой главы я смогла лишь спустя долгие годы.
Та героиня, страдающая мать из рукописной книги, открылась для меня другой, и это случилось в день отпевания моей бабушки.
Валя, вымытая, причесанная, с покрытой черным платком головой, стояла на пороге нашего дома и смотрела вверх, куда-то выше козырька крыши. Я тоже туда посмотрела, но ничего не увидела. Она хихикнула и, не поздоровавшись, обогнула меня, застывшую на ее пути, и проскочила в дом. Я еще постояла в недоумении, но после решила: ну что тут поделаешь, горе ведь у меня, а ей, видимо, выпить хочется, да закусить, пусть уж проходит, заведено тут так. В такие дни двери дома не закрывают.
Я поняла, как ошиблась, когда зашла в горницу, где стоял гроб. Валя стояла в изголовье, держала в трясущихся руках староверческий молитвослов, прикрыв глазенки, быстро читала стих: «Тебе, Господи, единому, благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, тебе припадаю вопия, недостойный: согреших, Господи, согреших и несмь возрети на высоту небесную от множества неправд моих…»
Все сидевшие вокруг гроба молчали с тихим благоговением. Валя читала Псалтырь.
Глава 2. Люблю до бесконечности
Им, захлебнувшимся в любви,
Поставим в изголовье свечи
переиначенные строки В. Высоцкого«Но многих захлебнувшихся любовью,
Не докричишься, сколько не зови…
Им счет ведут молва и пустословье,
Но этот счет замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибшим от невиданной любви…»
– Какие у тебя красивые дети, Маня. Про парней уж не говорю, а дочери – чудо, как хороши, особенно Аннушка. Она уж в возрасте, а такая милая, привлекательная. Я всегда ею любуюсь, – говорила соседка Мане.
– Да, Аннушка хорошая, а вот Бог не дал счастья. Петр уж сильно пьет. Готов день и ночь алкать[4]. Побиват ее частенько. Стыд-то какой ходить на работу с синяками… Несчастливая она, – вздохнула Маня, – как я.
Она замолчала, и молчала соседка.
– Я чо, жила, чо ли? Маялась со свои извергом, бил, гонял из дома почем зря. А ревновал, ну прям страсть. Всех мужиков для меня собирал, от председателя до скотников. «Все твои, со всеми шарахаешься», – вот как говорил.
– Однажды сидим, смотрим телевизор. Я у печки, он на диване лежит. Вот так… – она показала, раскинув руки в стороны. – Тогда, знаешь, «Штрилиц» шел.
– Да, «Семнадцать мгновений весны», – уточнила соседка.
– Ну, да «Штирлиц». Помнишь, идет он по длинному колидору, вот и вычеканиват, так вычеканиват, любо-дорого глядеть, какой мужик. Я возьми да скажи, что вот уж мужик – так мужик, какой баской.
Мой-то встал с дивана, шатается, уж пьянехонек, тыр – телевизор выключил, да хвать меня за ворот, рванул к дверям, дотащил и пинком выкинул с крыльца: «Ты вот со Штирлицем шарахаешься, вот он тебе и баской. Пошла на х…. Спи в бане!» – и закрыл дверь. А утром, гад, смеется: «Ну что, налюбовалась со Штирлецем?» Чо к чему.
У нас тогда председателем был Рыбаков, лет тридцати. Порядочный мужик. Его Женька возил на газике. Едет Рыбаков на выпаса[5], а мой на телеге на встречу. Мой возьми, да и поставь телегу посредь дороги, Рыбаков подъезжает, выходит, а Ефим-то слезает с телеги и говорит:
– Ты шо, мою Маруську шваркаешь, а? Других баб нет, што ли?
Рыбаков крепкий мужик, как двинет моего по уху, тот и свалился назад в телегу. Рыбаков приехал на выпаса, со всеми поздоровался, а мимо меня прошел, как слепой. Раньше всегда остановится, поговорит, спросит про детей. Тут Женька рассказал, что произошло, уматывается со смеху. Доярки хохочут, а мне стыдоба великая. Што к чему? Так и жила…
До чего же женщины терпеливы. Сначала переживают из-за неурядиц в семье, их бросает в дрожь при мысли о побоях. Со временем они тупо переносят несправедливость и издевательства или ублажают своего варвара бутылкой и вкусным обедом. А если нет бутылки, ведь дорого стоит, вот и бежит по соседям, занимает или деньги, или саму бутылку водки. Бывает, что не поленится и к маме в соседнее село за два километра сбегает. Та пожалеет дочь, не откажет. Частенько такие встречи заканчиваются руганью в адрес непутевого зятя.
– Вот нехристь, вот навязался. Да сколько ты будешь терпеть? Говорила тебе, Аннушка, брось ты его, пока не поздно. Ну как бес наплевал тебе в очи, навел туману, как холод на озеро. Ну прямо ослепил. Ну что молчишь?
Аннушка, прикрыв глаза пушистыми ресницами, чтоб мать не заметила их выражения, отвечала: «А что говорить? Уж говорено столько, что не знаю, что ещо говорить. Люблю я его, люблю, мама, тебе не понять».
Ошарашенная Маня смотрела на красавицу дочь. Веснушки на лице становились ярче, нижняя губа тряслась от возмущения.
– Люблю! – передразнила она ее. – Сколько же ты будешь любить? Тебе уж полсотни скоро стукнет, уж бабка, а ты все любишь, едрить твою. Уж надо ненавидеть за все побои, за горе, что ты несешь на своем горбу, а ты любишь… Фу ты, люблю!
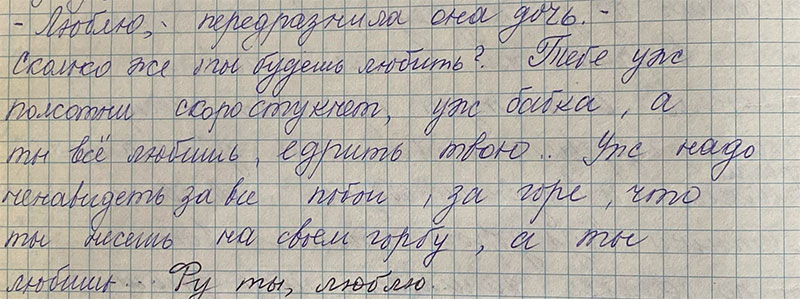
Забрав бутылку водки, Аннушка спешила домой. Ночью она долго не спала. Каждый раз после разговора с матерью она задумывалась над ее словами. Ей было горько. Только месяц любил ее Петр. Жаркими ночами, прячась от всех, бежала она за околицу, к реке, где особенно сладко пели птицы и пахло ночной фиалкой, где сжигающими всякий девичий стыд, были ласки Петра. Какими же короткими казались ей эти ночи, наполненные печалью и радостью одновременно. Она любила и была любима. Щеки ее пылали жаром от поцелуев Петра. Выгнав корову на пастбище, она делала по дому все машинально, ждала с нетерпением назначенного часа, чтоб бежать за околицу к зароду. Там и ждала его.
Он уставал, приходил в мазуте, пыльный. Его губы пахли зерном и солнцем. Он целовал ее пушистые ресницы, щеки, шею, и Аннушка млела от его ласки, подчинялась каждому движению его сильных рук. Красота ее расцвела. Как говорят, в судьбе людей физически или духовно совершенных есть что-то роковое. Это роковое было и в фигуре, и в лице этой красавицы.
Потом, о ужас, она поняла, что понесла. Петр онемел от новости. Какая-то струна оборвалась в его сердце.
– Ты чо, не помнишь. Как он не хотел Вову. Если б не родня, не женился бы он. Ему в армию идти, а тут на тебе, – говорила Маня в очередной раз пришедшей Аннушке, – нежеланный ребенок – несчастное дитятко. Вот и Володька. Много ли его привечал Петр?
Аннушка молчала. Ей всегда горько было от мысли, что Вова не в радость отцу. Петр, она это хорошо помнила, быстро охладел к ней. Родившаяся через три года Танюшка тоже его не обрадовала. Петр стал пить еще больше, когда вернулся из армии, часто пропадал ночами. Аннушка несла свое горе молча. Время не изменило ее, кажется, она стала еще лучше, побледнела, какая-то тихая, глубокая печаль сквозила в ее глазах. Сердце ныло и плакало. Ей стыдно было от людей, ни один мужик не заглядывался на нее, как будто Петр привязал к себе навеки.
Соседки шептались, на работе на нее смотрели с сочувствием. Беда была в том, что она полюбила только раз в жизни и продолжала любить только его. Иногда, уйдя к заветному месту, где сосед по-прежнему ставил зарод, она вспоминала свое короткое счастье. Однажды она услышала жаркий шепот. Так мог шептать только он, Петр. Сколько лет прошло, а он такой же жаркий. В легком женском смехе она узнала Любу, которая была намного моложе Петра и ее, Аннушки. И она поспешила уйти, щеки ее горели от стыда, словно ее поймали на чем-то нехорошем. Петр сошелся с Любой, и потекли дни и недели в одиночестве и в думах о жизни.
Пришло время идти Вове в армию. Многочисленная родня едва уместилась за столами в новом доме, который Аннушка получила от сельсовета. Петр пришел на проводы сына не один, с Любой. Время не пощадило ее. Ранние морщины на лице делали ее старше Аннушки. То же время благосклонно относилось к самой Аннушке, она сохранила свою красоту. Из задумчивости ее вывел голос сына:
– Мама, вот моя невеста, после армии мы поженимся. А сейчас она будет жить у нас, и у тебя скоро будет внук.
Аннушка посмотрела на белокожую девушку с нежным румянцем и с чудными серо-голубыми глазами.
– Какая красавица! – подумала про себя Аннушка. – Вот новость так новость!
Ходили по деревне слухи, что Володька ездит в районный центр к девушке, но Аннушка, занятая своими мыслями, никак не находила времени поговорить с ним.
– Идите к бабушке, расскажите ей, порадуйте! – с улыбкой благословила Аннушка.
– Анна! – Петр подошел к ней со злым выражением лица. – Ты знаешь, чья это девка? Она дочка той шлюхи, что в больнице в столовой работает. Девка эта тоже шлюшка. Вот Вовка вляпался. Куда ты смотрела? – и он ударил Аннушку по спине.
В два прыжка сын очутился рядом и что есть силы он отшвырнул отца и стал бить. Вся боль и ненависть, обида, копившиеся так долго в сердце, хлынули из груди нечеловеческим хрипом и рычанием.
– Старый пес, ублюдок, убью! Измучил мать, изнахратил[6] всем жизнь!
Сын бил его ногами, не давая подняться. Всем телом упала Аннушка на сына:
– Не бей! Оставь его! Он же твой отец!
Долго плакал Володя, уткнувшись в грудь Людочки: «Ты будешь меня ждать? Дождись. Я так люблю тебя, до бесконечности люблю!»
Андрейка родился вскоре, как Вова ушел в армию. Людочка скучала по дому, часто уезжала, оставив сына на бабушку Анну. И поползли слухи, что появился у нее ухажер, «новый русский», имеет свои магазины, купил Людочке квартиру. Но уж больно ревнивый, уже бил ее несколько раз.
– Людка она такая, на кого глаз положит, тот уже не может уйти от нее, привязывается сразу. Как колдунья, красивая колдунья…
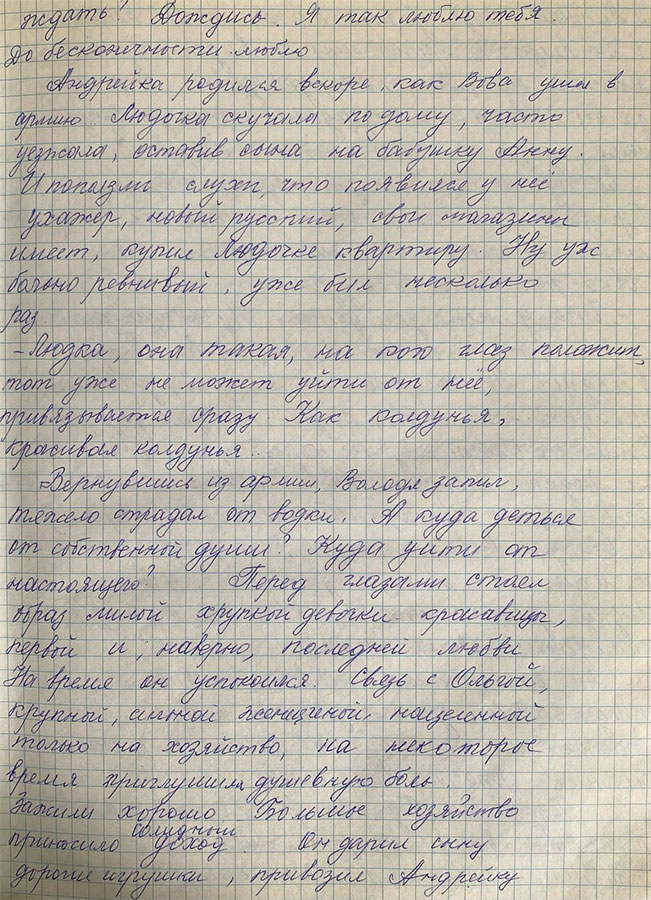
Вернувшись из армии, Володя запил. Тяжело он страдал от водки. А куда деться от собственной души? Куда уйти от настоящего? Перед глазами стоял образ милой хрупкой девочки-красавицы, первой и, наверное, последней любви. На время он успокоился. Связь с Ольгой, крупной, сильной женщиной, нацеленной только на хозяйство, на некоторое время приглушили душевную боль. Зажили хорошо. Большое хозяйство приносило солидный доход. Он дарил сыну дорогие игрушки, привозил Андрейку к Аннушке, подолгу играл с ним, молча смотрел в его лицо. В чертах сына он видел черты любимой женщины, которую давно простил за все. Аннушка страдала теперь за Владимира, из-за его горькой любви к Людмиле.
Её пугал его отсутствующий взгляд, безразличие ко всему, что не касалось любви к жене, его молчаливость. Явно это была боль души.
– Что у меня за дети? – жаловалась соседке Маруся. – Ну, Аннушка ладно, уж прожила жизнь, а все Петр в сердце. Но Володька-то молодой, думала, пройдет эта любовь. Когда найдет другую… Сошелся с Ольгой, ну, не красавица, ясно, не Людка, которая с иконы. Ольга здоровущая телка, работает за четверых, и все для Вовки: и еда, и одежда, и машина. А он, видите, любит Людку до бесконечности. Как это понять?
– Да, есть такая любовь, ей нет предела. Твои дети – однолюбы. Это счастье для тех, кого они любят, и несчастье для них. Это на всю жизнь.
Под Новый год Вова пришел к матери поздравить с праздником. Что-то необъяснимо печальное было в лице сына, что-то неотвратимое, прямо неземное. Он легко зашел, легко двигался по комнате. У Аннушки сжалось сердце.
– Вова, съездим завтра к Андрейке, отвезем подарки, – обратилась она к сыну.
– Да, да, я все приготовил. И Людочке тоже.
Аннушка изумленно посмотрела на него.
– Да, мама, милая моя мама. Я люблю ее все сильнее. Такой уж я. Простите меня за это.
– А чо купил? – поинтересовалась бабушка.
– Андрейке машинку, конфеты, а Люде – книгу… О любви.
– Хм, а чо ей книга? – Маня пожалела, что выпалила это. – Поймет ли?
– Поймет. Нельзя не понять. Есть на свете такая любовь, которая, – он не находил слова, – как болезнь. Точит, точит изнутри, бросает в жар, и летишь в кипящий омут с головой, и сердце бьется так быстро, что трудно дышать, бабушка. Да разве это объяснишь словами… Эта боль вот здесь, – и он показал на грудь.
– Ты ишо молодой, баской[7], подожди, потерпи, встретишь ищо настоящую любовь… – сказала Маня.
– А Люда? Разве это не настоящая любовь? Только солдат меня поймет, что я пережил в армии, когда мне Валюша написал о ней. Я врагу не желаю такое пережить… Как гвоздь, что-то вошло под сердце и осталось там, но болит, болит. Вы меня сосватали с Ольгой. Но ведь это не любовь. Мы с ней рабочие скоты, все вкалываем ради чего? И нет мне радости ни от денег, ни от дома.
Однажды я упаду и все. Как-то я говорю, что почти два года растим свинью, а за это по время уж по избе бегали бы малец или дочка. И знаешь, что она ответила:
– А зачем? Какой доход?
– Разве от детей должен быть доход? И какой? Да, от любви рождаются дети и для любви. А разве это жизнь?
Аннушка слушала эти удивительные слова от своего когда-то бесшабашного Володи и думала: как верно, как светло он говорит. Володя ушел незаметно, как растаял.
– Мама, что-то надо делать? Вова заболел. Может, к психологу поехать? – Аннушка смотрела на мать со страхом.
– Ты пережила такое. Я тоже пережила. И он переживет, – ответила Маня. – Нужно время. А кто этот… как ты его назвала? Я не знаю такого… Где он живет? А вот бабка одна есть в Турушево…
Вдруг Маня резко засобиралась: «Отвезите меня домой, хочу домой».
Дома, лежа на диване, она думала о своем девичестве, о жизни, о детях. Любила ли она, так сильно, так мучительно, как ее дети? Не до любви было, когда ушла от Степана с двумя девочками в чем, как говорится, мать родила. Приживалась в чужой деревне трудно. Жила в развалюхе. Спасибо председателю, дал работу на ферме. А сколько горя хлебнула с детушками, да с новым мужем Ефимом. Родила от него двух мальчишек. Росли статные, красивые, работящие. Ефим пил да бил ее. Еще средний Валера неспокойный был. Да и с женой ему не повезло. Одно ее богатство – красота. Выпить, да погулять не дурочка. Ей вечно нужны были компании. Придет парень домой, пообедать бы, кругом все настежь, парничок один ползает по избе, весь уревелся. А она с городскими на машине раскатывает. Бросят где-нибудь в овраге. Валера притащит домой. Вымоет, накормит… Натка ничего не ценила. И запил Валера, задурил. У, как она, мать, страдала, увещевала разойтись с ней.
– Нет, люблю – и все, не могу ее потерять, не вынесу. – И не вынес, сердешный, в петле успокоился. Да что это такое? Уж не один год прошел. Наташке я простила… а ему не прощу. Никогда. Кого страдать оставил? Меня, мать, – она горько вздохнула и повернулась на другой бок.
Ефим уж помер к этому времени, допился. С кем делила она свои горести и редкие радости? «Вот с ним, – и она ласково посмотрела на портрет красивого мужественного офицера в черном мундире. Только с ним вела разговоры о своей жизни, несправедливости мужа, о вечных унижениях, о своей любви.
Сначала прятала фотографию под кружевную салфетку на комоде. Однажды после задушевной беседы с ним она вдруг поняла, как обрести свободу. Через несколько дней хоронили Ефима. Пьяный, он выпил какую-то ядовитую жидкость перепутав бутылки. Придя с похорон, она впервые свободно беседовала с человеком на портрете. Она призналась. Как полюбила его глаза, строгий взгляд, чеканную походку. Красивый, мужественный человек смотрел на нее строго из-под козырька черной фуражки. Она попросила сделать портрет в районном фотоателье, и повесила на самое видное место.
Перед Пасхой, Рождеством, вытерев пыль, она украшала портрет сухими гроздьями рябины и еловыми веточками. Маня опять вздохнула. Бывало, смотрит, смотрит, не моргая, на это любимое лицо и кажется, что офицер отвечает ей строгим, но и ласковым взглядом… Но об этой любви никто никогда не узнает. Маня забывается сном. Видится ей дорога после дождя, стоит жаркое лето. К её дому идут двое: один в черном мундире офицера, стройный, крепкий, любимый. Другой в белой рубашке, которая красиво оттеняет загорелое лицо и его серо-голубые глаза. Это ее Валера, сын. Она смотрит на них.
– Мама! Мама! – кричит он. – Смотри, с кем я пришел. Маня резко просыпается. Кто-то стучит в окно. – Иду, иду! – говорит Маня, но подняться не может.
– Мама! Вставай! – кричат в форточку. – Вова-то наш! Повесился!
Ценою беспредельной любви стали три могилы на сельском кладбище: Вовы, Валеры, Людочки. Да, Людочки. В роковую Новогоднюю ночь ее зарезал человек, который тоже «бесконечно» любил и страдал от ее неверности.
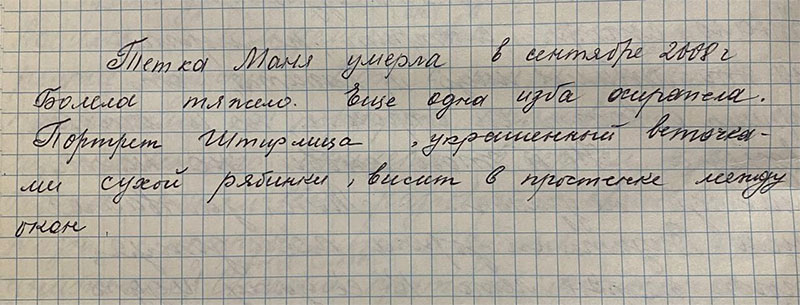
Тетка Маня умерла в сентябре 2008 года. Болела тяжело. Еще одна изба осиротела. Портрет Штирлица, украшенный веточками сухой рябины, так и висит в простенке между окон.
Заметка ко 2 главе
Этот рассказ был вторым и последним, который я прочла еще при жизни мамы. Прочла и отложила, скупо ответив, что она, как всегда, все приукрасила в своем тексте и что в сельском быту я не видела тонкости любовной линии и трепетности чувств. Своей жесткой рецензией я ее обидела, и она больше не протягивала мне свою тетрадь, да я и не хотела ничего читать больше.
Сейчас я понимаю это и каюсь за свой гонор и резкость. Не написав тогда ни одной строчки, я не понимала, как больно могут ранить слова первого, кто прочтет твое произведение. Ведь для писателя отзыв первого человека, к тому же еще и дочери, важен намного больше, чем рецензия маститого редактора.
Признаюсь, тогда я малодушно сводила счеты с когда-то сильной и доминирующей мамой, я окрепла и показывала свое мнение и даже осмелела для критики. Тогда я еще не научилась принимать другое мнение, отличное от моего.
Мне важно сейчас рассказать об этой истории так, как я видела ее.
Тетка Маня на меня производила впечатление угрюмой и неуживчивой бабки. Она гордо несла свое грузное тело по колдобинам улицы, ее лицо было заковано в маску озлобленной скорби. Уголки рта опустились так глубоко, что линия губ напоминала горбатый мостик через речушку. На мир она смотрела сквозь узкие щели глаз, смотрела не по-доброму. Ее внутренняя сила была очевидна всем, даже агрессивному дураку Роме, которому в пьяном бреду ничего не стоило повалить соседские ворота и отколошматить старух, когда он искал, чем ему опохмелиться. Встретившись с Маней на улице, он тут же трезвел и отскакивал в сторону, суетливо перебирая ножонками по сколькой колее. Он боялся ее, махал рукой, матюгался, отскакивал еще дальше и улепетывал что есть духу.
Маня обладала несгибаемой силой воли. Говорили, что у нее есть и невероятное умение отрезвлять пьяных. К ней водили проданных коров, когда новым хозяевам требовалась, чтобы купленная ими скотина возвращалась в новый дом, а не по привычке в старый. Маня не боялась и скотины, она смело подходила к корове и нашептывала несколько слов.
На следующий вечер, после выпаса, поговорка «как бабка отшептала» являлась в действии. Каждая корова шла туда, куда ей приказала накануне Маня.
Да, у Мани были дочь и двое сыновей. Имя дочери здесь другое, да и в жизни она другая, как я бы сказала – не с такой тонкой душевной организацией. Ничего пронзительного, чувственного я в ней не прослеживала.
Да и Вова был другим, не таким, как показала мама. Он был сильным, нахрапистым и малоуправляемым. Мы с ним ровесники и Вову я знала с детства. Он первый, кто проявил ко мне симпатию, и первый, кто назвал меня так просто и по-деревенски – Анютка. О, как я летала от счастья.
Вова женился рано, почти в семнадцать, его избранница уже была на сносях. В деревнях рано рожают и рано умирают. Я хорошо помню ту свадьбу, которую играли по сельской традиции зимой, когда можно резать поросенка. Молодожены приехали к Мане, а ее дом стоял напротив нашего. Громко играла гармонь, голосили во все лады дружки жениха. Я с завистью смотрела на это действо и думала о том, какие счастливые они и какая несчастная я. Ведь мне тоже семнадцать, а замуж так никто и не позвал, даже Вова. Сейчас смешно читать, а тогда я страдала очень сильно. Страдала и от того, что рядом с ним была красивая и дерзкая молодая деваха, с глазами пронзительной синевы. Черты лица, улыбка и задорный смех не оставляли шанса никакой другой в его жизни, как и в жизни другого, кому бы выпала удача быть с ней. Потрясающий женский магнетизм и смелость чувствовались на расстоянии. Одно слово – Кармен, только сельского разлива.
Долго их брак не продлился, развод последовал почти сразу после рождения сына. Вова любил приложиться к бутылке, а потом привычно гонял свою жену за то, что хвостом вертит направо и налево. Но она ему не подчинилась, забрала ребенка, сложила вещи в цветастый пакет и быстренько переехала к матери в райцентр.
Он пытался ее вернуть, но не успел. Возле Кармен уже появился поклонник посильнее Вовы. Пересчитав бывшему мужу ребра и выбив несколько зубов, он на правах нового хозяина забрал ее в свою жизнь.
Вова пригодился в другой семье, где заправляла сильная, мощная молодуха, с копной рыжих волос и множеством веснушек на лице, она была по тяговой силе намного мощнее, чем Вова, и он оказался в ее крепком кулаке без маникюра.
Первым не стало Вовы. Нелепо и непонятно. Хотя… Жена его подалась в гости на несколько дней, а он остался на хозяйстве. Пил, слонялся по дому. После позвонил ей, затребовал домой. Она, видимо, задвинула на его место, куда сама ранее и усадила. Он пошел в сарай и повесился. Сразу, без сомнений размышлений.
На следующий год, жарким летом то же самое повторил и его дядька, голубоглазый весельчак Валера. Повесился в доме своей сожительницы, испугавшись глупого навета.
Вот тогда я впервые услышала, как Маня говорит. Она зашла в наш дом и произнесла: «Пожалуйте к нам, горе у нас, поминки справляем».
Ворота ее дома были открыты, на улице стояли свежесколоченные столы, накрытые клеенками. Лавки устланы пестрыми половиками. Одним словом – поминки. Маня сидела во главе стола. Заходили соседи, родственники, протискивались между столами и лавками, рассаживались. Лавки стояли на неровной земле, и норовили опрокинуть поминающих. Но деревенские жители ловкие, держали баланс и не переставали есть кутью, блины и гуляш с желтым пюре. Мужики, выпив, смолили возле бани.
Тут остановилась машина, из которой выпрыгнула бывшая жена Вовы. Водитель, он же ее новый муж, что-то буркнул, она лишь отмахнулась и влетела во двор. И снова она осветила все вокруг своей радостью к жизни. Тетки шептались, кто-то укоризненно смотрел на нее, мужики перестали вообще что-то говорить, а просто вперились в это невероятное явление. Она лихо выпила рюмку и защебетала с бывшей свекровью. Даже Маня была согрета ее смелостью, уголки вечно сжатого рта немного поднялись, и горбатый мостик губ изогнулся в улыбку.
Настоящая Кармен пожаловала!
Жизнь ее закончилась в этом же году в канун Нового года. Ее новый муж купил контейнер на рынке, напичкал его вьетнамским ширпотребом, а ее поставил продавать. Но она не думала подчиняться ни ему, ни кому другому. Часто контейнер закрывался, а она исчезала надолго с территории слякотного рынка.
Он понял, что она нашла другого, и, возможно, не одного. Отчета она ему не давала, он бил ее, а она огрызалась, царапалась и слала ко всем чертям. Затем он понимал, что она сейчас уйдет, падал в ноги, полз за нею по сеням, совал смятые купюры в лиф ее платья. Это задерживало ее, но ненадолго.
В тот день она почему-то никуда не ушла и бойко торговала. Он влетел с рыком и стал наносить удары ножом, которым недавно резал свинью к праздничному столу. Она кричала так громко, что было слышно на соседней улице. Но никто так и не вмешался. Он отпихнул ее тело вглубь контейнера, вытер нож о висящие пестрые платья и пошел прочь.
Я еще больше возненавидела деревню во всех ее проявлениях. Почему-то тогда в моей душе не осталось ни одной крохи воспоминаний, которыми я жила ранее: исчез березовый лес, поскотина, речушка за селом, туманные рассветы и оранжевые закаты. Многие годы я помнила только эту безысходность. Смелые тела, недавно наполненные жизнью, закапывались в глубокие могилы с полатями, а после – поминки: водка, кутья, блины, гуляш с пюре.

