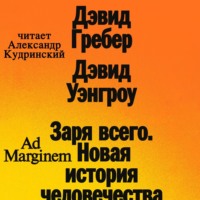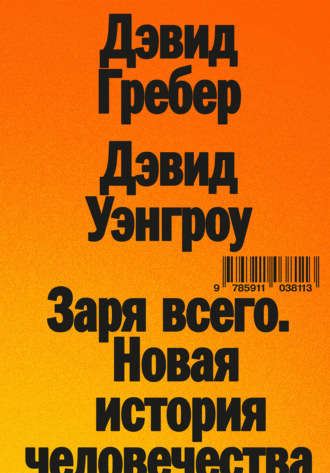
Полная версия
Заря всего. Новая история человечества
Некоторые, подобно иезуитам, прямо осудили принцип свободы. Другие: поселенцы, интеллектуалы и европейская читающая публика – увидели в нем вызывающее и привлекательное социальное предложение. (При этом их мнение по данному вопросу не имело особенного отношения к тому, как они воспринимали самих коренных жителей, истребление которых зачастую приветствовали, – хотя, справедливости ради, нужно отметить, что по обе стороны интеллектуального раскола встречались люди, которые решительно выступали против агрессии в отношении чужеземных народов.) На самом деле, критика европейских институтов со стороны коренного населения считалась настолько мощным оружием, что к нему прибегали почти все, кто выступали против существующего интеллектуального и социального порядка: как мы узнали, в эту игру играл чуть ли не каждый великий философ эпохи Просвещения.
В процессе – и мы видели, как это происходило уже с Лаонтаном и Кондиаронком, – спор о свободе также всё больше превращался в спор о равенстве. Однако обращение к мудрости «дикарей» прежде всего оставалось способом бросить вызов самонадеянности существующих авторитетов, средневековой уверенности, что суждения церкви и властных институтов, которые она поддерживала, воплощали собой истинную версию христианства и как следствие стояли выше суждений всех остальных людей.
Случай Тюрго показывает, что такие понятия, как цивилизация, эволюция и прогресс – которые мы считаем ключевыми для мысли Просвещения, – на самом деле являются довольно поздним дополнением к этой критической традиции. Самое главное, что данный случай показывает, – разработка этих концепций стала непосредственной реакцией на вызов, брошенный индигенной критикой. Потребовались огромные усилия для спасения того самого чувства европейского превосходства, которое мыслители эпохи Просвещения стремились расшатать, опрокинуть, лишить центрального значения. Конечно, в течение следующего столетия и позднее такие идеи стали удивительно успешной стратегией для достижения этой цели. Но они также породили множество противоречий: например, тот удивительный факт, что европейские колониальные империи, в отличие от почти всех остальных существовавших когда-либо империй, были вынуждены подчеркивать свою собственную эфемерность, утверждая, что они лишь выполняют временную роль, ускоряя движение своих подданных к цивилизации – по крайней мере тех подданных, кого в отличие от вендат они еще не успели стереть с лица земли.
Сделав полный круг, мы возвращаемся к Руссо.
Как Жан-Жак Руссо, выиграв один престижный конкурс сочинений, затем проиграл другой (превысив допустимый лимит слов), но в итоге покорил всю человеческую историюДиалог между мадам де Графиньи и Тюрго дает нам представление об интеллектуальных дискуссиях во Франции в начале 1750-х годов; по крайней мере, если говорить о салонных кругах, с которыми был хорошо знаком Руссо. Свобода и равенство – это универсальные ценности? Или же они – по крайней мере, в своем чистом виде – несовместимы с системой, основанной на частной собственности? Способствует ли прогресс в области искусства и науки более глубокому пониманию мира и, следовательно, также прогрессу в области морали? Или же критика коренного населения верна и богатство и могущество Франции – лишь порочный побочный эффект неестественного, даже патологического общественного устройства? В то время эти вопросы были на устах у всех спорщиков и полемистов.
Если мы что-то и знаем об этих дискуссиях сейчас, то в основном благодаря тому влиянию, которое они оказали на эссе, которое написал Руссо. «Рассуждение о происхождении неравенства» с тех пор было изучено, обсуждено и разобрано в тысячах аудиторий, что весьма странно, учитывая, что это крайне эксцентричное сочинение даже по меркам своего времени.
В ранние годы Руссо знали в основном как начинающего композитора. Известным социальным мыслителем он стал позднее. Всё началось в 1750 году, когда Руссо принял участие в конкурсе сочинений, организованном тем же научным обществом, Дижонской академией. Тема звучала следующим образом: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?»[99] Руссо получил первый приз и прославился на всю страну, написав эссе, в котором он увлеченно доказывал, что это не так. Он утверждал, что наши элементарные моральные интуиции в основе своей достойны и разумны; цивилизация лишь развращает нас, побуждая ценить форму больше содержания. Почти все примеры в «Рассуждении о науках и искусствах» взяты из классических греческих и римских текстов, но в сносках Руссо намекает и на другие источники вдохновения:
Я не осмеливаюсь говорить здесь о счастливых народах, не ведающих даже названий тех пороков, с которыми нам так трудно справляться, об этих дикарях Америки, чей простой и естественный уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона, но и всему тому, еще более совершенному, что философия когда-либо сможет изобрести для управления народами. Он приводит тому множество ярчайших примеров – для тех, кто способен их оценить. Да что там, говорит он, они не носят коротких штанов![100]
Победа Руссо спровоцировала скандал. Казалось по меньшей мере странным, что академия, занимающаяся развитием искусств и наук, удостоила высшей награды эссе, в котором утверждалось, что искусства и науки вредны. Что касается Руссо, то на протяжении следующих нескольких лет он в основном публиковал популярные ответы критикам своего эссе (а также воспользовался новообретенной славой, чтобы поставить комедийную оперу «Деревенский колдун», ставшую популярной при французском дворе). Когда в 1754 году Дижонская академия объявила новый конкурс, посвященный вопросу происхождения социального неравенства, это явно было сделано с целью поставить выскочку на место.
Руссо клюнул на приманку. Он представил еще более замысловатый трактат, явно рассчитывая на то, что его содержание шокирует читателей и приведет их в замешательство. Он не только проиграл конкурс (приз получило очень традиционалистское эссе представителя духовенства, аббата Тальбера: тот связал современное неравенство с первородным грехом), судьи также заявили, что они даже не дочитали работу Руссо до конца, поскольку он превысил допустимый лимит слов.
Эссе Руссо, несомненно, странное. Кроме того, его содержание часто неправильно понимают. На самом деле он не утверждает, что человеческое общество начинается с состояния идиллической невинности. Первые люди были добрыми по своей природе, пишет Руссо, но тем не менее (почему-то) систематически избегали друг друга, опасаясь насилия. Как следствие, в естественном состоянии люди были одиночками. Это позволяет Руссо утверждать, что само «общество» – то есть любая форма постоянного объединения людей – неизбежно ограничивает человеческую свободу. Даже появление языка было компромиссом. Но свою действительно новаторскую идею Руссо излагает, когда пишет о «грехопадении» человечества, спровоцированном возникновением имущественных отношений.
Предложенная Руссо модель человеческого общества – которую, как он неоднократно подчеркивает, следует воспринимать не буквально, а как мысленный эксперимент – предполагает три стадии: полностью вымышленное естественное состояние, в котором индивиды живут в изоляции друг от друга; каменный век и стадия дикости, которая наступает после изобретения языка (по мнению Руссо, на этой стадии находится большинство современных жителей Северной Америки того времени и других известных ему «дикарей»); затем, наконец, стадия цивилизации, которая наступает после изобретения сельского хозяйства и металлургии. Каждая стадия знаменует собой всё больший упадок нравов. Но, как специально замечает Руссо, он написал свою притчу для того, чтобы понять, что же позволило человеческим существам принять саму идею частной собственности:
Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли – для всех, а сама она – ничья!» Но очень похоже на то, что дела пришли уже тогда в такое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо это понятие – «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в человеческом уме[101].
Здесь Руссо задается тем же вопросом, который озадачил многих коренных американцев. Как так получилось, что европейцы способны превращать богатство во власть; превращать простое неравное распределение материальных благ – которое существует, по крайней мере в некоторой степени, в любом обществе – в способность указывать другим людям, что им делать, нанимать их в качестве слуг, рабочих или солдат-гренадеров или просто чувствовать, что если другие люди умирают на улице в лихорадке, то это не наше дело?
Хотя Руссо не цитирует Лаонтана или «Реляции иезуитов» напрямую, очевидно, что он был знаком с этими работами[102], как и любой другой интеллектуал этого периода, и в его работе звучат те же критические вопросы: почему европейцы столь склонны к соперничеству? Почему они не делятся пищей? Почему они подчиняются чужим приказам? Долгий экскурс Руссо в pitié – естественное сострадание, которое, как он утверждает, дикари испытывают друг к другу и которое сдерживает худшие проявления цивилизации на втором этапе, – приобретает смысл только в контексте постоянных возмущенных возгласов коренных жителей Америки, содержащихся в этих книгах: о том, что европейцы, похоже, просто не заботятся друг о друге; что они «не щедры и не добры»[103].
Таким образом, причина поразительного успеха эссе заключается в том, что, несмотря на свой сенсационный стиль, оно представляет собой разумный компромисс между двумя или, возможно, даже тремя противоречащими друг другу позициями по самым острым социальным и нравственным вопросам Европы XVIII века. Руссо удалось совместить элементы индигенной критики, отголоски библейского сюжета о грехопадении и то, что, как минимум, очень напоминает концепцию эволюционных стадий материального развития, которую примерно в то же время только начали высказывать Тюрго и мыслители шотландского Просвещения. По сути Руссо соглашается с Кондиаронком, что цивилизованные европейцы по большей части бесчеловечны, – по всем тем же причинам, которые изложил представитель вендат. Руссо также соглашается с тем, что корень проблемы – в собственности. Одно – важное – различие между ними заключается в том, что Руссо, в отличие от Кондиаронка, не может представить общество, в основании которого лежал бы иной принцип.
При переводе индигенной критики в термины, понятные французским философам, было утрачено именно это представление о возможности чего-то иного. Для американцев, таких как Кондиаронк, не было никакого противоречия между личной свободой и коммунизмом – в том смысле, в каком мы используем слово «коммунизм» здесь, то есть как презумпцию взаимопомощи, когда от людей, которые не являются врагами, можно ожидать отклика на нужды друг друга. С точки зрения американцев, индивидуальная свобода основывалась на определенном уровне «базового коммунизма», поскольку люди, которые голодают или у которых нет одежды или убежища, чтобы переждать снежную бурю, на самом деле не свободны делать практически ничего – кроме того, что необходимо для выживания.
Европейская концепция личной свободы, напротив, была неразрывно связана с понятием частной собственности. С юридической точки зрения, эта связь восходит прежде всего к власти главы семьи в Древнем Риме, который мог делать всё что угодно со своим имуществом, включая детей и рабов[104]. С этой точки зрения, свобода всегда определялась – по крайней мере теоретически – как то, чем обладают за счет других. Более того, в древнеримском праве (и в европейском праве Нового времени) большой акцент делался на самодостаточности домохозяйства. Следовательно, истинная свобода означала автономию в самом радикальном понимании – вы не просто обладаете свободой воли, но и никак не зависите от других людей (не считая тех, кто находится под вашим непосредственным контролем). Руссо, который всегда настаивал на том, что хотел бы жить, не завися от помощи других людей (несмотря на то, что все его потребности удовлетворяли хозяйки и слуги), воспроизводил эту же логику в своей собственной жизни[105].
Когда наши предки, писал Руссо, приняли роковое решение поделить землю на участки, принадлежащие индивидам, создали правовые структуры для защиты собственности, затем – государства, которые обеспечивали бы соблюдение этих законов, они думали, что создают инструменты для сохранения своей свободы. На самом же деле они «устремились навстречу своим оковам». И это яркий образ; неясно только, как, по мнению Руссо, должна была выглядеть эта утраченная свобода; особенно если, как он настаивал, любые продолжающиеся человеческие отношения, даже те, которые основаны на взаимопомощи, сами по себе являются ограничением свободы. Неудивительно, что в итоге он изобрел сугубо воображаемую эпоху, в которую все люди одиноко бродили среди деревьев; удивительнее, пожалуй, то, что его воображаемый мир так часто определяет границы нашего собственного воображения. Как же так вышло?
Раздел, в котором мы рассматриваем взаимосвязь между индигенной критикой, мифом о прогрессе и появлением левого политического лагеряКак мы уже упоминали ранее, после Французской революции консервативные критики обвиняли Руссо практически во всех бедах. Многие возлагали на него персональную ответственность за гильотину. Мечты о восстановлении древнего царства свободы и равенства, утверждали они, привели ровно к тому, что предсказывал Тюрго: тоталитарному режиму в духе Империи инков, который можно было обеспечить только при помощи революционного террора.
Радикалы времен Американской и Французской революций действительно переняли идеи Руссо. Например, ниже мы приводим отрывок из манифеста, якобы написанного в 1776 году, где воспроизводится характерный для Руссо синтез эволюционизма и критики частной собственности, которая, как считается, непосредственно приводит к появлению государства:
По мере того как число семей росло, ресурсы начали истощаться; кочевая (или бродячая) жизнь закончилась, и возникла СОБСТВЕННОСТЬ; люди выбрали себе места обитания; земледелие заставило их смешаться друг с другом. Язык стал универсальным; живя вместе, люди начали соревноваться друг с другом в силе и слабых стали отличать от сильных. Вне всяких сомнений, это породило идею совместной обороны, когда один человек управляет объединением из нескольких семей и таким образом защищает их жизни и их поля от вторжения врага; но таким образом СВОБОДА была уничтожена, а РАВЕНСТВО кануло в Лету[106].
Как утверждается, это отрывок из манифеста тайного ордена иллюминатов, сети революционеров, организованной в рамках масонского движения баварским профессором права Адамом Вейсгауптом. Организация существовала в конце XVIII века; ее цель, по-видимому, заключалась в том, чтобы подготовить интернациональную – или даже антинациональную – просвещенную элиту, которая должна была добиться восстановления свободы и равенства.
Консерваторы почти незамедлительно осудили орден, что привело к его запрету в 1785 году – меньше чем через десять лет после основания. Однако правые конспирологи настаивали, что организация продолжила свое существование, и утверждали, что именно иллюминаты дергали за ниточки во время Французской (а позднее даже Русской) революции. Звучит глупо, но одна из причин, сделавшая возможной появление такой фантазии, заключается в том, что иллюминаты, возможно, первыми выдвинули идею, что революционный авангард, усвоивший правильную интерпретацию доктрины, сможет понять общее направление человеческой истории – и, следовательно, сможет вмешаться и ускорить ее ход[107].
Может показаться ироничным, что Руссо, в начале своей карьеры занимавший позицию, которую мы бы назвали ультраконсервативной – согласно которой то, что кажется прогрессом, ведет лишь к моральному разложению, – в конечном счете стал злейшим врагом многих консерваторов[108]. Но предательство всегда вызывает особую ярость.
Многие консервативные мыслители считают, что Руссо сделал полный круг, пройдя путь от подающего надежды мыслителя до создателя того, что мы сейчас называем левыми политическими взглядами. Эти обвинения небеспочвенны. Руссо действительно сыграл ключевую роль в оформлении левой мысли. Одна из причин, по которой интеллектуальные дебаты середины XVIII века кажутся нам сегодня такими странными, заключается именно в том, что разделение на левые и правые позиции, как мы его понимаем, еще не сформировалось. Во времена Американской революции не существовало самих понятий «правый» или «левый». Они появились уже в следующем десятилетии и изначально обозначали расположение аристократической и народной фракций Национального французского собрания в 1789 году.
Подчеркнем (удивительно, что нам приходится это делать), что Руссо со своими изречениями по поводу фундаментальной добропорядочности человеческой природы и ушедшей эпохи свободы и равенства не несет никакой персональной ответственности за Французскую революцию. Он не побуждал санкюлотов к восстанию, вложив им в головы свои идеи (как мы отмечали, на протяжении большей части европейской истории интеллектуалы были единственным классом людей, не способным вообразить возможность создания другого мира). Но мы можем утверждать, что, объединив индигенную критику и доктрину прогресса, изначально разработанную для противодействия ей, Руссо действительно создал основополагающий для левого интеллектуального проекта текст.
По той же причине правая мысль с самого начала с большим подозрением относилась не только к идее прогресса, но и ко всей интеллектуальной традиции, возникшей на основе индигенной критики. Сегодня принято считать, что критика «мифа о благородном дикаре» – это левая критика. В ее рамках подразумевается, что любое раннее европейское описание далеких народов, идеализирующее их или даже приписывающее им аргументированные суждения, – это лишь романтическая проекция европейских фантазий в отношении людей, которых авторы этих текстов никогда не могли бы понять по-настоящему. Уничижительный расизм в отношении дикарей и наивное восхваление их невинности всегда рассматриваются как две стороны одной империалистической медали[109]. Однако это открытие сделала правая критика, как утверждает Тер Эллингсон, современный антрополог, тщательнее всех изучивший эту тему. Эллингсон приходит к выводу, что мифа о «благородном дикаре» никогда не существовало; по крайней мере, в смысле стереотипа о простых обществах, которые живут в эпоху счастливой первобытной невинности. Напротив, свидетельства путешественников, как правило, рисуют более неоднозначную картину – описывают чужеземные общества как сложные, порою непоследовательные (как кажется самим европейцам) сочетания добродетелей и пороков. Вместо этого стоило бы изучить то, что лучше назвать «мифом о мифе о благородном дикаре»: почему некоторые европейцы стали приписывать другим европейцам столь наивную точку зрения? Ответ не очень приятный. Словосочетание «благородный дикарь» стало популярным примерно спустя сто лет после Руссо и употреблялось для высмеивания и оскорбления. Его активно использовала группа открытых расистов, которые в 1859 году – когда Британская империя была на пике своего могущества – возглавили Британское этнологическое общество и стали призывать к уничтожению «низших» народов[110].
Изначальные выразители этой точки зрения обвиняли во всём Руссо, но вскоре историки литературы стали прочесывать архивы, повсюду разыскивая следы «благородного дикаря». Почти все тексты, рассматриваемые нами в этой главе, оказались под пристальным вниманием; все они были отброшены как опасные, романтические фантазии. Однако поначалу эти обвинения исходили от правых политических сил. Эллингсон приводит в пример Гилберта Чинарда, опубликовавшего в 1913 году работу «Америка и экзотическая мечта во французской литературе XVII и XVIII веков». Именно благодаря Чинарду понятие «благородный дикарь» стало рассматриваться в американской науке как западный литературный троп, поскольку он, пожалуй, меньше других стеснялся своей политической позиции.
Чинард называет Лаонтана автором, который сыграл ключевую роль в оформлении этого понятия, и утверждает, что Руссо позаимствовал свои аргументы либо из «Мемуаров» Лаонтана, либо из его «Диалогов» с Кондиаронком. Он также отмечает близость этих двух авторов друг к другу:
Жан-Жак [Руссо] в большей степени, чем все остальные авторы, походит на автора «Диалогов с дикарем». При всех его недостатках и притом, что его мотивы, в сущности, были неблагородными, надо признать, что Лаонтан вложил в свой литературный стиль такую страсть, такой энтузиазм, что с ним может сравниться разве что Руссо и его «Рассуждение о неравенстве». Как и Руссо, он анархист; он также лишен нравственности, даже больше, чем Руссо; подобно Руссо, он воображает себя жертвой преследований со стороны человеческого рода, ополчившегося против него; подобно Руссо, он возмущен страданиями несчастных и призывает взяться за оружие – даже более активно, чем Руссо; и, самое главное, подобно Руссо, он приписывает все наши беды существованию собственности. В этом отношении он позволяет нам установить прямую связь между иезуитскими миссионерами и Жан-Жаком[111].
Согласно Чинарду, даже иезуиты (мнимые враги Лаонтана) в конечном счете играли в ту же игру: «контрабандой» привносили глубоко подрывные идеи. Мотивы, побуждавшие их цитировать раздраженные замечания своих собеседников, отнюдь не были невинными. Комментируя приведенный выше пассаж, Эллингсон резонно задается вопросом: что же имеет в виду Чинард? Некое анархистское движение, к которому примыкали Лаонтан, иезуиты и Руссо? Теорию заговора, объясняющую Французскую революцию? Да, заключает Эллингсон, примерно это он и имел в виду. Иезуиты, согласно Чинарду, способствовали распространению «опасных идей», создавая у нас впечатление, что «дикари» обладают положительными качествами, а «это впечатление, как представляется, противоречит интересам монархического государства и церкви». На самом деле, Чинард характеризует Руссо как «продолжателя дела иезуитских миссионеров» и возлагает на миссионеров ответственность за подъем «революционных настроений, которые могут трансформировать наше общество и, разгоревшись от чтения их реляций, вернут нас обратно к состоянию американских дикарей»[112].
Для Чинарда не имело значения, насколько точно европейские наблюдатели излагали взгляды своих собеседников, представителей коренных народов. Ведь коренные американцы были, по словам Чинарда, «расой, отличной от нашей», с которой невозможно вступить ни в какое осмысленное взаимодействие: с таким же успехом, пишет он, можно было бы документировать политические взгляды лепрекона[113]. Что действительно важно, подчеркивает Чинард, так это мотивы замешанных в этом белых людей – очевидно, что это были мятежники и смутьяны. Он обвиняет одного из ранних наблюдателей обычаев гренландских инуитов, что тот привнес в свои описания смесь социализма и «иллюминизма», – то есть в том, что он рассматривает обычаи дикарей через призму идей, которые могли быть позаимствованы у секретного ордена иллюминатов[114].
Выходя за пределы «мифа о глупом дикаре» (почему всё это имеет такое большое значение для целей данной книги)В этой работе мы не будем показывать, как правая критика превратилась в левую. Отчасти это можно списать на то, что исследователи, «выращенные» на изучении истории французской и английской литературы, поленились выяснить, что же на самом деле думали жившие в XVII веке микмаки. Сказать, что размышления микмаков не имеют никакого значения, – это расизм; однако если же мы скажем, что о них невозможно что-либо узнать, потому что все источники также были расистскими, то это освободит нас от ответственности.
В некоторой степени отказ от работы с источниками коренного населения был связан с полностью обоснованным протестом со стороны тех, кто исторически подвергался романтизации. Многие отмечали, что людей «по ту сторону» почти одинаково раздражает и когда им говорят, что они – низшая раса и, следовательно, всё сказанное ими можно игнорировать, и когда им говорят, что они – невинные дети природы и воплощение древней мудрости и, следовательно, всё сказанное ими имеет невероятно глубокий смысл. Оба подхода приводят к тому, что любой осмысленный диалог становится невозможным.
Как было сказано в первой главе, когда мы приступали к написанию книги, то надеялись, что сможем внести вклад в бурно развивающуюся область исследований о происхождении социального неравенства – только в отличие от предыдущих работ, наша будет опираться на достоверные данные. По мере продвижения мы осознали, насколько странным был вопрос: «Каково происхождение социального неравенства?» Даже без учета всего контекста, связанного с идеей первобытной невинности, такая постановка вопроса предполагает определенную диагностику того, что не так с нашим обществом и что с этим можно (или нельзя) сделать. Как мы обнаружили, зачастую это имеет мало общего с тем, как люди, живущие в так называемых «эгалитарных» обществах, видят свои отличия от других обществ.