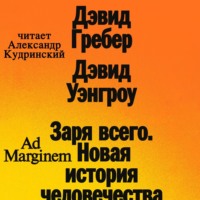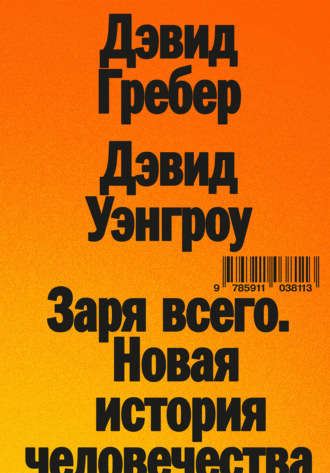
Полная версия
Заря всего. Новая история человечества
Руссо обошел этот вопрос стороной, сведя своих дикарей до уровня мысленного эксперимента. Он был чуть ли не единственным из крупных мыслителей французского Просвещения, кто не написал диалог или другой художественный текст, в котором предпринималась бы попытка посмотреть на европейское общество с чужой точки зрения. Он фактически лишил своих «дикарей» какого-либо воображения; их счастье полностью проистекает из неспособности помыслить себе иной мир и представить себя в будущем[115]. Таким образом, у них также отсутствует философское мышление. Вероятно, именно по этой причине никто из них не смог предвидеть катастрофы, когда они начали огораживать свою собственность друг от друга и создавать государства для ее защиты; к тому моменту, когда люди были в состоянии размышлять в столь долгосрочной перспективе, худшее уже произошло.
Еще в 1960-е французский антрополог Пьер Кластр[116] предположил, что дело обстоит прямо противоположным образом. Что если люди, которых мы представляем простыми и невинными, на самом деле свободны от правил, правительств, бюрократов, правящих классов и всего подобного не потому, что им не хватает воображения, а потому, что у них оно развито куда лучше, чем у нас? Нам трудно представить, как выглядит по-настоящему свободное общество; возможно, у них нет такой проблемы, когда им нужно представить себе произвольную власть и доминирование. Возможно, они могут не только представить себе эти явления, но и сознательно устроить свое общество таким образом, чтобы их избежать. Как мы увидим в следующей главе, аргументация Кластра ограниченна. Но утверждая, что люди, которых изучают антропологи, настолько же сознательны и обладают настолько же хорошо развитым воображением, как и сами антропологи, Кластр больше, чем кто-либо другой – до него или после, – способствовал устранению причиненного интеллектуального ущерба.
Руссо обвиняют во многих преступлениях. В большинстве из них он невиновен. Если в его наследии и есть токсичный элемент, то он заключается не в продвижении образа «благородного дикаря», чего он на самом деле не делал, а в продвижении того, что можно назвать «мифом о глупом дикаре» – даже если он считал эту глупость блаженством. В XIX веке империалисты охотно взяли на вооружение этот стереотип, дополнив его различными якобы научными обоснованиями – от дарвинистского эволюционизма до «научного» расизма. Они развивали идею невинной простоты, создавая таким образом предлог для того, чтобы загнать оставшиеся свободные народы мира (а свободных народов по мере продолжения европейской имперской экспансии оставалось всё меньше и меньше) в концептуальное пространство, где их суждения больше не казались опасными. Именно это мы и пытаемся исправить.
«Свобода, равенство, братство» – таким был девиз Французской революции[117]. Сейчас существуют целые дисциплины – ответвления философии, политической науки и правоведения – основным предметом которых является «равенство». Все согласны с тем, что равенство – это ценность; но нет единого мнения о том, что же означает это понятие. Равенство возможностей? Равенство условий? Формальное равенство перед законом?
Аналогичным образом общества вроде микмаков, алгонкинов и вендат XVII века постоянно называют «эгалитарными обществами», ну или «группами» или «племенными» обществами – эти определения обычно используют, чтобы сказать то же самое. Никогда не ясно до конца, что именно имеется в виду под этим понятием. Говорим ли мы об идеологии, об убеждении, что все в обществе должны находиться в одинаковом положении – очевидно, не во всех сферах жизни, но в некоторых аспектах, которые считаются особенно важными? Или же это такое общество, в котором люди действительно одинаковые? Что может любой из этих подходов означать на практике? Что у всех членов общества есть равный доступ к земле, или что они относятся друг к другу с равным уважением, или что они имеют равную возможность свободно озвучивать свою точку зрения на общественных собраниях? Или же мы говорим о некой шкале, которая может быть использована внешним наблюдателем для измерения уровня дохода, политической власти, потребления калорий, размера дома, количества и качества личного имущества?
Означает ли равенство стирание личности или ее торжество? (В конце концов, для внешнего наблюдателя общество, в котором все были бы абсолютно одинаковыми, и общество, в котором все были бы настолько разными, что это исключало бы возможность какого-либо сравнения, выглядели бы одинаково «эгалитарными».) Можно ли говорить о равенстве в обществе, где к старейшинам относятся как к богам и где они принимают все важные решения, если в этом обществе любой человек, который доживает, скажем, до пятидесяти лет, переходит в разряд старейшин? Что насчет гендерных отношений? Во многих «эгалитарных» обществах по-настоящему эгалитарными являются лишь отношения между взрослыми мужчинами. Отношения между мужчинами и женщинами там иногда оказываются отнюдь не равными. В других случаях ситуация еще более неоднозначна.
Например, бывает так, что мужчины и женщины в определенном обществе не только занимаются различными видами работы, но и придерживаются разных мнений, почему та или иная работа является важной, так что и те и другие считают, что у них более высокий статус в обществе; или же их роли настолько различны, что сравнивать их не имеет смысла. Под это описание подходят многие общества, с которыми столкнулись французы в Северной Америке. С одной точки зрения, их можно рассматривать как матриархальные, с другой – как патриархальные[118]. Можем ли мы в таких случаях говорить о гендерном равенстве? Или же гендерное равенство – это когда мужчины и женщины равны относительно некоторых минимальных внешних критериев: например, они в равной степени защищены от угрозы домашнего насилия, имеют равный доступ к ресурсам или же обладают одинаковым влиянием в процессе принятия общественных решений?
Поскольку ни на один из этих вопросов нет четкого и общепринятого ответа, использование понятия «эгалитарный» породило бесконечные споры. На самом деле абсолютно непонятно, что вообще значит слово «эгалитарный». В конечном счете мы обращаемся к этому термину не потому, что он имеет какое-либо реальное аналитическое содержание, а по той же причине, по которой теоретики естественного права в XVII веке рассуждали о равенстве в естественном состоянии: «равенство» – это понятие, используемое по умолчанию; оно описывает своего рода человеческий субстрат, который мы воображаем, когда представляем, что останется от человечества, если убрать все внешние атрибуты цивилизации. «Эгалитарные» люди – это те, у кого нет правителей, судей, надзирателей и потомственных священников, это те, кто не живет в городах, не знает письменности и, желательно, даже земледелия. Они живут в обществе равных только в том смысле, что в их обществе отсутствуют самые очевидные признаки неравенства.
Из этого следует, что любая историческая работа, которая по идее посвящена происхождению социального неравенства, на деле оказывается исследованием о происхождении цивилизации. В свою очередь, это подразумевает взгляд на историю, подобный взглядам Тюрго, где «цивилизация» понимается как сложная социальная система, которая обеспечивает более высокий уровень благосостояния для более широкого круга людей, но в то же время предполагает компромиссы в области свободы и равенства. Мы попытаемся написать другую историю, которая в свою очередь потребует иного понимания «цивилизации».
Стоит уточнить, что мы не считаем не заслуживающим внимания или незначительным тот факт, что правители, судьи, надсмотрщики и потомственные священнослужители – или, скажем, письменность, города и земледелие – появились лишь на определенном этапе истории человечества. Напротив: чтобы разобраться в том затруднительном положении, в котором мы ныне оказались как вид, очень важно понять, как возникли все эти явления. Однако мы также настаиваем, что для этого нам следует отказаться от соблазна рассматривать наших далеких предков как своего рода первозданный человеческий бульон. Данные антропологии, археологии и смежных научных областей демонстрируют, что – равно как и американские индейцы и французы XVII века – люди, жившие в доисторические времена, имели очень конкретные представления о том, что было важным в их обществах; что их представления сильно отличались; и что понятие «эгалитарные», которое мы используем для описания таких обществ, почти ничего не говорит о них самих.
До определенной степени равенство существовало в них «по умолчанию»; бытовало представление, что все люди одинаково бессильны перед лицом богов; или же уверенность, что ничья воля не должна быть постоянно подчинена воле другого. Равенство было нужно хотя бы для того, чтобы препятствовать в длительной перспективе несменяемости власти князей, судей, надсмотрщиков и возникновению жреческих династий. Но сознательно сформулированные идеи «равенства», которые выдвигают равенство в качестве явной ценности (в отличие от идеологии свободы, достоинства или равного участия всех), судя по всему, возникли в человеческой истории относительно поздно. И даже когда они появляются, то редко применяются по отношению ко всем членам общества.
Приведем один пример – античная греческая демократия. Она основывалась на политическом равенстве граждан – даже если эти граждане составляли около 10–20 % всего населения – в том смысле, что все обладали равными правами для участия в принятии общественных решений. Нас учат воспринимать эту концепцию равноправного гражданского участия как важный этап политического развития, который был возрожден и расширен спустя два тысячелетия (так получилось, что европейские политические системы XIX века, названные «демократическими», не имели почти ничего общего с античными Афинами, но речь не об этом). Важнее, что афинские интеллектуалы того времени, в основном аристократического происхождения, как правило, презрительно относились к общественному устройству Афин и в большинстве своем отдавали предпочтение политическому режиму Спарты, в управлении которой участвовала еще меньшая часть населения, жившая за счет труда крепостных.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Отсылка к строчке «Your brain seems bruised with numb surprise» из песни The Doors «Soul Kitchen» из песни The Doors «Soul Kitchen» (альбом «The Doors» 1967 года). – Здесь и далее – примеч. пер. и науч. ред.
2
Цитата из стихотворения Кристофера Фрая «Дождь».
3
Юнг К. Г. Трансцендентальная функция [1916] / пер. Е. Глушак // К. Г. Юнг. Избранное. М..: Попурри, 1998. С. 138.
4
Согласно определению автора теории родительского вклада Роберта Триверса, родительский вклад – это любые затраты (например, ресурсов, времени, энергии) на воспитание потомства, которые увеличивают шансы этого потомства на выживание или репродуктивный успех и уменьшают способность родителя вкладываться в других или будущих потомков. См., напр.: Pazhoohi F. Parental Investment Theory / ed. T. Shackelford // The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Sexual Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. P. 137–159.
5
Гребер и Уэнгроу пишут о сознательной критике социальных порядков и способов организации совместной жизни, осуществляемой коренными жителями Америк и других мест. В оригинале, говоря об этой критике, авторы используют термин indigenous, варианты перевода которого на русский как «туземный», «аборигенный», «коренной» намеренно отвергнуты переводчиком и редактором русского издания в пользу решения переводить его буквально как «индигенный», когда речь идет о социальной критике, политических правах и критическом воображении коренных сообществ, чтобы избежать лишних смысловых шлейфов таких слов, как «аборигенный» и «туземный» (во многом колониальных), и, наоборот, сохранить те политические смыслы и контексты, которые закрепились за этим понятием в антропологической теории сегодня и которые учитывают авторы, задействуя его в книге во многом как деколониальный инструмент. В этом контексте любопытно вспомнить, что одним из главных учителей Гребера был антрополог Теренс Тёрнер – исследователь Амазонии и политический активист, участник движения в защиту прав коренных сообществ этого региона. Слово «коренной» закрепляется в переводе за обозначением сообществ, проживавших в Америках до прихода европейцев: коренные сообщества осуществляют индигенную критику.
6
Приведем лишь один пример. Иэн Моррис в книге «Собиратели, земледельцы и ископаемое топливо. Как изменяются человеческие ценности» (под ред. и с введением С. Мэсидо; с коммент. Р. Сифорда, Дж. Д. Спенса, К. М. Корсгаард, М. Этвуд; пер. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017) ставит перед собой амбициозную задачу: разработать универсальную шкалу измерения неравенства, применимую ко всем периодам истории человечества. Для этого он переводит «ценности» охотников-собирателей ледникового периода и неолитических земледельцев в категории современной экономической теории и затем при их помощи рассчитывает коэффициенты Джини (то есть формальные показатели неравенства) для каждого периода. Эта достойная всяческой похвалы идея довольно быстро приводит его к очень странным выводам. Например, в статье, опубликованной в 2015 году в New York Times, Моррис сообщает, что охотники-собиратели эпохи палеолита зарабатывали 1,10 доллара в день по курсу 1990 года. Откуда взялась эта цифра? Предполагается, что она как-то связана с калорийностью их ежедневного рациона питания. Но если мы сравниваем этот показатель с современным уровнем ежедневного дохода, то необходимо также учитывать все те блага, которые доставались собирателям эпохи палеолита бесплатно и за которые нам приходится платить: безопасность, урегулирование конфликтов, начальное образование, уход за престарелыми и медицина, не говоря уже о расходах на развлечения и музыку, услуги рассказчиков историй и священнослужителей. Даже когда речь идет о еде, нам необходимо учитывать ее качество: в то время люди потребляли стопроцентно органические продукты, выращенные в естественных условиях, и мыли их в чистейшей родниковой воде. Значительная часть доходов современного человека уходит на выплаты по ипотеке или аренду жилья. Но подумайте о том, сколько стоило бы проживание в наиболее привлекательных локациях эпохи палеолита на территории современного Дордоня или в долине реки Везер? А вечерние занятия по наскальной живописи и резьбе по слоновой кости? А меховые шубы, которые люди носили в то время? Очевидно, что на всё это уходило бы гораздо больше 1,10 доллара в день. Как мы увидим в четвертой главе, антропологи неслучайно иногда называют собирателей «обществом первобытного изобилия». Сегодня такой образ жизни обошелся бы недешево. Конечно, все эти рассуждения звучат довольно нелепо, но об этом мы и говорим: если свести всю мировую историю к коэффициентам Джини, то получится нелепая картина.
7
«Man makes himself» (букв. «Мужчина создает себя»).
8
Fukuyama D. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. London: Profile, 2011. P. 43, 53–54.
9
Даймонд Дж. Мир позавчера. Чему нас могут научить люди, до сих пор живущие в каменном веке [2012] / пер. А. Александровой. М.: АСТ, 2016. С. 29.
10
Fukuyama D. Ibid. P. 48.
11
Даймонд Дж. Указ. соч. С. 24.
12
В случае с Фукуямой и Даймондом можно по крайней мере указать на то, что оба автора не имеют профессионального образования в соответствующих дисциплинах (первый является политологом, а второй защитил докторскую диссертацию по физиологии желчного пузыря). Но даже когда за создание «больших нарративов» берутся антропологи, археологи и историки, странным образом всё всегда заканчивается вариациями на тему Руссо. Например, Кент Флэннери и Джойс Маркус в книге «Создание неравенства: как наши доисторические предки заложили фундамент для монархий, рабства и империй» (2012) выдвигают интересные предположения о том, каким образом неравенство могло возникнуть в человеческих обществах, но их общая картина мировой истории повторяет схему, изложенную во втором «Размышлении» Руссо. В результате они приходят к выводу о том, что если человечество хочет в будущем построить более эгалитарное общество, то «во главе его должны стоять охотники и собиратели». (Flannery K., Marcus J. The Creation of Inequality: How our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.) Вальтер Шайдель, привлекая больший объем экономических данных, приходит в книге «Великий уравнитель: насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия» (пер. О. Перфильева. М.: АСТ, 2019) к столь же неутешительному выводу, что с неравенством ничего нельзя поделать: появление цивилизации неизбежно приводит к тому, что у власти оказывается небольшая элитная группа, которая захватывает большую часть ресурсов. Пошатнуть ее господство может только катастрофа: война, чума, всеобщий призыв в армию, массовые страдания или огромная смертность. Полумеры никогда не работают. Так что если вы не хотите вернуться к жизни в пещере или погибнуть в ядерном апокалипсисе (а тем, кому удастся выжить после катастрофы, скорее всего, в любом случае придется жить в пещерах), то вам остается лишь смириться с существованием Уоррена Баффета и Билла Гейтса.
13
Руссо Ж. -Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми [1754] / пер. А. Д. Хаютина // Ж. -Ж. Руссо. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 46. Перевод скорректирован. – Примеч. науч. ред.
14
На это указала знаменитый политический теоретик из Гарварда Джудит Шклар. См. Shklar J. Rousseau’s images of authority // The American Political Science Review. 1964. Vol. 58. No. 4. P. 919–932.
15
Руссо Ж. -Ж. Указ. соч. С. 84.
16
На самом деле Руссо, в отличие от Гоббса, не был фаталистом. Гоббс рассматривал все значительные и незначительные исторические события как следствия процессов, запущенных богом и неподвластных человеку. (См. Hunter G. 1989. The fate of Thomas Hobbes // Studia Leibnitiana. 1989. Vol. 21. No. 1. P. 5–20.) Даже шьющий одежду портной с первого сделанного им стежка оказывается вовлечен в водоворот исторических событий, с которыми он не в силах совладать и о которых он не имеет практически никакого представления; его действия являются лишь крошечными звеньями в огромной цепи причин и следствий, из которых состоит сама ткань истории человечества. Согласно этой метафизике исторических взаимосвязей, полагать, что портной мог бы поступить иначе, чем он поступил, – значит отрицать весь необратимый ход мировой истории. Руссо, напротив, считает, что всё сделанное человеком обратимо или, по крайней мере, может быть сделано по-другому. Мы можем освободиться от сковывающих нас цепей, просто это будет нелегко. (См. анализ этого аспекта рассуждений Руссо в классической работе Джудит Шклар: Shklar J. Ibid.)
17
Пинкер С. Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше / пер. Г. Бородина, С. Кузнецова. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. С. 64.
18
Если наше изложение кажется вам слишком торопливым и сбивчивым, то причина в том, что очень многим современным авторам нравится воображать себя великими социальными теоретиками эпохи Просвещения вроде Гоббса и Руссо, разыгрывая тот же эпический диалог, но с более точным с исторической точки зрения набором персонажей. Сочиняя этот диалог, они опираются на эмпирические данные социальных исследователей, в том числе таких археологов и антропологов, как мы сами. При этом уровень их эмпирических обобщений не выше, а в чем-то, возможно, даже ниже, чем у социальных исследователей. Пришло время отобрать игрушки у детей.
19
Пинкер С. Указ. соч.; Пинкер С. Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса [2018] / пер. Г. Бородина, С. Кузнецова. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
20
Пинкер С. Лучшее в нас. С. 67.
21
Tilley L. Accommodating difference in the prehistoric past: revisiting the case of Romito 2 from a bioarchaeology of care perspective // International Journal of Paleopathology. 2015. Vol. 8. P. 64–74.
22
Formicola V. From the Sungir children to the Romito dwarf: aspects of the Upper Palaeolithic funerary landscape // Current Anthropology. 2007. Vol. 48. P. 446–453.
23
Маргарет Мид однажды так и сделала, предположив, что первым признаком появления «цивилизации» следует считать не орудия труда, а скелет возрастом 15 тысяч лет со следами сросшегося перелома бедренной кости. По ее словам, восстановление после такой травмы занимает шесть недель; большинство животных со сломанными костями просто погибают, так как сородичи бросают их. Одна из особенностей нашего вида заключается в том, что мы заботимся друг о друге в подобных ситуациях.
24
Необычное написание названия племени «!кунг» не является ошибкой. В языке!кунг существуют так называемые «щелкающие согласные», которые практически не встречаются за пределами Южной Африки. Восклицательный знак указывает на такой щелчок, необходимый для произношения названия племени. Поскольку передать этот щелкающий звук в английском (как и в русском) языке невозможно, в текстах антропологов закрепился вариант «!кунг» как более близкий к самоназванию представителей племени.
25
В антропологических текстах встречаются разные названия яномами – «яномами», «яномамо» и «яномама». В русском языке принято название «яномама», например в: Биокка. Э. Яномама. М.: Мысль, 1972. Словоупотребление напрямую зависит от выбранной политики репрезентации и позиции по отношению к дискуссии вокруг работ Наполеона Шаньона, которой Гребер и Уэнгроу касаются далее. В этом издании выбран перевод с «и» на конце – «яномами», – т. к. подобное словоупотребление, как пишет об этом антрополог Роберт Борофски, устоялось в ходе дискуссии как наиболее нейтральное. Об этом см. в: Borofsky R. Yanomami: the fierce controversy and what we can learn from it. London: University of California Press, Berkley, 2005.
26
См. примечание 30 ниже. Как отмечают другие исследователи, яномами обычно спят по шесть-десять человек в одной кровати. Это требует такого взаимопонимания и уступок, на которые способен мало кто из современных социальных теоретиков. Если бы яномами действительно походили на стереотипных «свирепых дикарей», то их бы попросту не существовало, так как они давно поубивали бы друг друга за храп.
27
Наполеон Шаньон работал среди яномами в компании Тимоти Эша, режиссера этнографического кино. «Битва на топорах» («The Ax Fight») – экспериментальный фильм, созданный Эшем, в котором он пытается работать с формой этнографического фильма, совмещая «полевую» сьемку с серией слайдов и закадровыми комментариями, объясняющими контекст происходящего. О фильме и режиссерской работе Эша см. в: Утехин И. Что такое визуальная антропология: путеводитель по классике этнографического кино. СПб.: Порядок слов, 2018.
28
В действительности в 1960–1980-е годы, когда Шаньон проводил исследование среди яномами, они вовсе не были похожи на наших предков в их «естественном состоянии». На протяжении десятилетий яномами страдали от вторжений европейцев, участившихся после того, как на их землях было обнаружено золото. В это время численность яномами стремительно таяла из-за эпидемий инфекционных заболеваний, занесенных миссионерами, геологоразведчиками, антропологами и агентами европейских правительств. См. Kopenawa D., Albert В. The Falling Sky: Words of a Yanomami Shaman. London and Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2013.