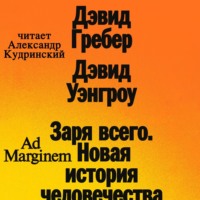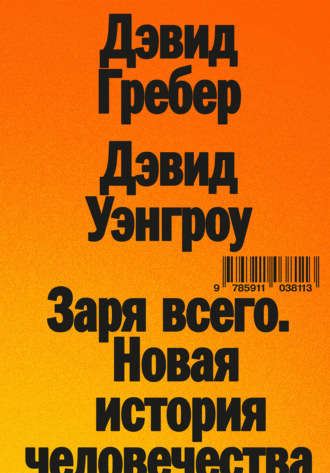
Полная версия
Заря всего. Новая история человечества
По всей видимости, ничего не менялось, спорили ли иезуиты с вендатами – которые не выглядят эгалитарными с антропологической точки зрения, поскольку у них были официальные политические должности и слой военнопленных, которых иезуиты, по крайней мере, называли «рабами», – или с микмаками или монтаньи-наскапи, которых антропологи позднее окрестят эгалитарными группами охотников-собирателей. Многочисленные американцы жаловались на дух соперничества и эгоистичность французов и, пожалуй, в еще большей степени – на их неприязнь к свободе.
То, что коренные американцы жили преимущественно в свободных обществах, а европейцы – нет, никогда не было предметом обсуждения в этих беседах: обе стороны соглашались, что это так. Они расходились лишь в том, насколько важна личная свобода.
В этом отношении рассказы ранних миссионеров или путешественников об Американском континенте представляют собой настоящий концептуальный вызов для многих современных читателей. Большинство из нас просто принимают как должное, что «западные» наблюдатели даже XVII века – это просто более ранняя версия нас самих, в отличие от коренных американцев, которые представляют собой по сути чужого, возможно, даже непознаваемого Другого. Но на самом деле во многих отношениях авторы этих текстов были совсем не похожи на нас. Когда речь идет о вопросах личной свободы, равенства мужчин и женщин, сексуальных нравах или народном суверенитете – или даже, если на то пошло, о теориях глубинной психологии[71], – взгляды коренных американцев, скорее всего, читателям гораздо ближе, чем взгляды европейцев XVII века.
Эти различия во взглядах на личную свободу особенно поразительны. Сейчас почти невозможно представить, чтобы человек, живущий в условиях либеральной демократии, выступал против свободы – по крайней мере, в абстрактном плане (на деле, конечно, наши взгляды обычно гораздо сложнее). Это часть наследия Просвещения, а также Американской и Французской революций. Как правило, мы уверены, что личная свобода – это по сути своей хорошо (даже если некоторые из нас считают, что общество, основанное на полной личной свободе – где отсутствует полиция, тюрьмы и какой-либо аппарат принуждения, – обречено на хаос и разгул жестокости). Иезуиты XVII века, конечно же, не разделяли таких взглядов. Как правило, они считали личную свободу свойственной животным. В 1642 году иезуитский миссионер Ле Жён писал о монтанье-наскапи:
Они считают, что по праву рождения должны наслаждаться свободой диких жеребцов, не оказывая никому никакого почтения, кроме как по своему желанию. Сотни раз они порицали меня за то, что мы боимся наших Капитанов, в то время как они смеются и подшучивают над своими. Вся власть их вождя – в его языке; ибо он силен настолько, насколько красноречив; и как бы он ни распинался перед ними, они не станут ему подчиняться, если он не угодит Дикарям[72].
Однако из приведенного отрывка ясно, что монтанье-наскапи считали французов, пребывающих в постоянном ужасе перед начальниками, немногим лучше рабов. Подобная критика регулярно встречается в сообщениях иезуитов; она исходит не только от тех, кто жил в кочевых группах, но и от городских жителей, таких как вендат. Более того, миссионеры были готовы признать, что эти слова не были пустословием со стороны американцев. Даже государственные мужи вендат не могли заставить соплеменников поступать вопреки их желанию. Как отмечал в 1644 году отец Лаллеман, чьи письма послужили образцом для «Реляций иезуитов»:
Я не верю, что на земле есть более свободные и менее способные подчинить свою волю чьей-либо власти люди, чем они, – вплоть до того, что Отцы здесь не имеют никакого контроля над детьми, Капитаны – над подчиненными, Законы страны – над кем-либо из них, разве что в той степени, в которой каждый пожелает им подчиняться. Виновные здесь не несут наказания, и нет преступника, который не был бы уверен, что его жизни и имуществу ничего не угрожает…[73]
Рассказ Лаллемана дает представление, насколько вызывающими с политической точки зрения должны были быть некоторые материалы, содержащиеся в «Реляциях иезуитов», для европейской аудитории того времени и почему многие находили их столь увлекательными. После размышления о том, как возмутительно, что даже убийцы у вендат остаются безнаказанными, благочестивый отец всё же признаёт, что такую систему правосудия нельзя назвать неэффективной для поддержания порядка. В действительности она работала на удивление хорошо. Вместо того чтобы наказывать виновных, вендат требовали, чтобы весь род или клан виновного выплачивал компенсацию. Таким образом, каждый был обязан держать своих сородичей под контролем. «Наказание несет не сам виновник», объясняет Лаллеман, а скорее «общество, которое должно возместить ущерб, нанесенный отдельными людьми». Если гурон убивал алгонкина или другого гурона, то весь край собирается, чтобы согласовать число даров, причитающихся скорбящим родственникам, «чтобы сдержать месть, которую они могли бы совершить».
Вендатские «капитаны», как далее описывает Лаллеман, «настоятельно призывают своих подчиненных предоставлять всё необходимое; они никого не принуждают, но желающие приносят то, чем они хотели бы поделиться; кажется, будто они соревнуются, у кого больше богатств, и что стремление к славе и желание продемонстрировать свою заботу об общем благосостоянии побуждает их так поступать, когда это требуется». Что еще более примечательно, Лаллеман признаёт: «…такая форма правосудия сдерживает эти народы и, кажется, более эффективно пресекает беспорядки, чем принятое во Франции личное наказание преступников» несмотря на то, что это «очень мягкая мера, которая оставляет людей в таком духе свободы, что они никогда не подчиняются никаким законам и не повинуются никакому другому импульсу, кроме своей собственной воли»[74].
Здесь следует отметить несколько моментов. Во-первых, становится ясно, что среди вендат были те, кто считались богатыми. В этом смысле их общество не было «экономически эгалитарным». Однако существовала разница между тем, что мы бы назвали экономическими ресурсами – такими как земля, которая принадлежала семьям, обрабатывалась женщинами и продуктами которой в основном распоряжались женские коллективы, – и «богатством», о котором здесь идет речь, таким как вампум (этим словом обозначали шнуры и пояса из бусин, сделанных из раковин лонг-айлендских моллюсков) и другими драгоценностями, которые использовались преимущественно в политических целях.
Богатые мужчины вендат копили такие драгоценности в основном для того, чтобы жертвовать их в подобных драматических ситуациях. Ни в случае с землей и продуктами земледелия, ни в случае с вампумами и аналогичными ценностями не было никакой возможности превратить доступ к материальным ресурсам во власть – по крайней мере, такую власть, которая могла бы позволить заставить других работать на вас или принудить их делать то, чего они делать не хотели. В лучшем случае накопление и умелое распределение богатств могло повысить шансы занять политический пост (стать «вождем» или «капитаном» – французские источники склонны использовать эти термины без разбора); но, как постоянно подчеркивали иезуиты, сама по себе должность не давала права отдавать приказы. Или, если быть совсем точным, человек, занимающий должность, мог отдавать любые приказы, какие ему или ей вздумается, но никто не был обязан их исполнять.
Конечно, для иезуитов всё это было возмутительно. На самом деле, отношение иезуитов к идеалам свободы коренных американцев полностью противоположно взгляду большинства современных французов и канадцев, то есть отношению к свободе как, в принципе, замечательному идеалу. Отец Лаллеман был готов признать, что на практике такая система работала довольно хорошо; она создавала «гораздо меньше беспорядка, чем во Франции» – но, как он отмечал, иезуиты были против свободы в принципе:
Это, вне всякого сомнения, совершенно противоречит духу Веры, который требует от нас подчинения не только нашей воли, но и нашего разума, наших суждений и всех чувств человека силе, неведомой нашим чувствам, закону, который не от мира сего и который полностью противоречит законам и чувствам порочной природы. Добавьте к этому, что законы страны, которые кажутся им наиболее справедливыми, всевозможными способами посягают на чистоту христианской жизни, особенно в том, что касается их браков…[75]
«Реляции иезуитов» полны подобных замечаний: шокированные миссионеры часто отмечали, что американские женщины могли сами свободно распоряжаться своими телами, и, следовательно, незамужние женщины обладали сексуальной свободой, а замужние могли разводиться по своему желанию. Для иезуитов это было возмутительно. Такое греховное поведение, по их мнению, было лишь следствием самого принципа свободы, уходящего корнями в естественные склонности человека, которые они считали пагубными по своей природе. «Порочная свобода дикарей», утверждал один из них, была самым большим препятствием для того, чтобы они «покорились бремени Закона Божьего»[76]. В языках коренных народов Америки было тяжело даже найти слова, которыми можно было бы перевести такие понятия, как «Господь», «заповедь» или «послушание»; объяснить же лежащие в их основании теологические концепции и вовсе было практически невозможно.
Как европейцы узнали от (коренных) американцев о связи между аргументированной дискуссией, личными свободами и отказом от произвольной властиПолучается, с политической точки зрения французы и американцы спорили не о равенстве, а о свободе. Во всём семидесяти одном томе «Реляций иезуитов» политическое равенство упоминается лишь однажды и совсем вскользь – в рассказе о событии 1648 года. Речь идет о поселении обращенных в христианство вендат неподалеку от города Квебека. После беспорядков, вызванных прибытием корабля с контрабандным алкоголем, губернатор убедил вождей вендат согласиться на запрет алкогольных напитков и опубликовал соответствующий указ, что важно, отмечает губернатор, – подкрепленный угрозой наказания. Отец Лаллеман записал и эту историю. Для него это было эпохальное событие:
От сотворения мира до прихода французов Дикари никогда не знали, каково это – официально запретить что-то своим людям, пригрозив наказанием, хотя и незначительным. Это свободные люди, каждый из которых считает себя столь же значимым, как и другие; и они подчиняются своим вождям лишь в той мере, в какой это им угодно[77].
Равенство здесь является прямым продолжением свободы; более того, ее выражением. Оно также не имеет почти ничего общего со знакомым нам (евразийским) понятием о «равенстве всех перед лицом закона», которое в конечном счете сводится к равенству всех перед лицом суверена – то есть, опять же, равенством в общем порабощении. Американцы, напротив, были равны в той мере, в какой они были одинаково свободны подчиняться или не подчиняться приказам по своему усмотрению. Демократическое управление у вендат и пяти племен хауденосауни, которое впоследствии так впечатлило европейских читателей, выражало тот же принцип: если в этих обществах было запрещено какое-либо принуждение, то очевидно, что существующее общественное единство должно быть создано путем аргументированных дискуссий, убедительных доводов и достижения общественного консенсуса.
Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали: европейское Просвещение как апофеоз принципа открытой и рациональной дискуссии. Мы уже упоминали, что Сегар хоть и с неохотой, но отдавал должное способности вендат к логической аргументации (эта тема проходит также и через большинство свидетельств иезуитов). Важно помнить, что иезуиты были интеллектуалами католического мира. Обученные классической риторике и технике ведения диспута, они изучали языки американцев прежде всего для того, чтобы иметь возможность дискутировать с ними, убеждать их в превосходстве христианской веры. Однако иезуитов регулярно поражал и впечатлял уровень контраргументов, с которыми им приходилось сталкиваться.
Каким образом люди, незнакомые с трудами Варрона и Квинтилиана, могли достичь такого уровня риторического мастерства? Отвечая на этот вопрос, иезуиты почти всегда отмечали ту открытость, с которой в племенах решались общественные вопросы. Так, отец Ле Жён, глава канадской иезуитской миссии в 1630-е годы, писал: «Среди них практически нет тех, кто не был бы способен вести разговор и рассуждать на очень высоком уровне, притом доброжелательно, касаясь тех вопросов, в которых они сведущи. В деревнях почти каждый день проходят советы практически по всем возможным вопросам, что повышает их разговорные навыки». А Лаллеман признавал: «Я могу честно сказать, что в том, что касается интеллекта, они ни в чем не уступают европейцам и жителям Франции. Я бы ни за что не поверил, что без обучения природа могла бы наделить людей более развитым и живым красноречием, которое меня восхищает во многих гуронах; или большей проницательностью в общественных вопросах, или большей осмотрительностью в привычных им делах»[78]. Некоторые иезуиты пошли дальше, заметив – не без тени разочарования, – что дикари Нового Света в целом кажутся им более умными, чем люди, с которыми они привыкли иметь дело дома (например, «почти все из них демонстрируют более острый ум в деловых вопросах, речах, любезностях, общении, хитростях и тонкостях, чем самые проницательные граждане и купцы во Франции»[79]).
Таким образом, иезуиты четко осознавали неразрывную связь между неприятием произвольной власти, открытой политической дискуссией и вкусом к аргументированным доводам. Это правда, что политические лидеры коренных американцев, которые в большинстве случаев не имели возможности заставить соплеменников поступать против их воли, славились риторическими способностями. Даже черствые европейские генералы, ответственные за геноцид коренных народов, часто сообщали, что красноречие американцев доводило их до слез. Однако убеждение необязательно должно принимать форму логической аргументации; с таким же успехом оно может взывать к чувствам, нагнетать страсти, использовать поэтические метафоры, обращаться к мифу или мудрости пословиц, использовать иронию и уклончивость, юмор, оскорбления, обращаться к пророчеству или откровению; выбор приемов зависит от риторической традиции, к которой принадлежит оратор, и от предполагаемых нравов его аудитории.
В основном именно носители ирокезских языков, такие как вендат или пять племен хауденосауни, проживавшие к югу от них, придавали особое значение аргументированной дискуссии, порою даже считая ее приятным развлечением. Уже один этот факт имел серьезные исторические последствия: именно такая форма дебатов – рациональная, скептическая, эмпирическая, разговорная по тону – в скором времени стала отождествляться с европейским Просвещением. Подобно иезуитам, мыслители эпохи Просвещения и демократические революционеры рассматривали ее как неразрывно связанную с неприятием произвольной власти, особенно той, которую долгое время присваивало себе духовенство.
Соберем вместе все нити наших рассуждений.
К середине XVII века правовые и политические мыслители Европы начали заигрывать с идеей эгалитарного естественного состояния; по крайней мере, в смысле первоначального состояния, в котором могли пребывать общества, где, по их мнению, отсутствовали правительство, письменность, религия, частная собственность и другие вещи, создающие различия между людьми. Такие понятия, как «равенство» и «неравенство», только входили в обиход в интеллектуальных кругах – примерно тогда же, когда первые французские миссионеры начали обращать в христианство жителей территорий, известных сейчас как Новая Шотландия и Квебек[80]. Европейская читающая публика всё больше интересовалась тем, как выглядели подобные первобытные общества. Но не была особенно предрасположена к тому, чтобы представлять себе мужчин и женщин, живущих в «естественном состоянии», как чрезвычайно «благородных» и уж тем более – как рациональных скептиков и сторонников индивидуальной свободы[81]. Это последнее представление сложилось в результате диалога, развернувшегося между европейцами и коренными американцами.
Как мы увидели, поначалу обеим сторонам – и прибывшим в Новую Францию колонистам, и их собеседникам из числа коренных жителей – нечего было сказать о «равенстве». Скорее, они дискутировали о вольности (liberty) и взаимопомощи или о том, что лучше назвать свободой (freedom) и коммунизмом. Поясним, что именно мы подразумеваем под последним термином. С начала XIX века ведутся оживленные споры о том, существовала ли когда-нибудь такая вещь, которую можно было бы с полным правом назвать «первобытным коммунизмом». В центре этих дискуссий почти неизменно оказывались общества коренных жителей Северо-Восточного Вудленда – с тех пор как Фридрих Энгельс использовал ирокезов в качестве примера первобытного коммунизма в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884). В данном контексте «коммунизм» означает наличие общественной собственности, прежде всего на средства производства. Как мы уже отмечали, в этом отношении многие американские общества находились в несколько двусмысленном положении: женщины обрабатывали землю, которая находилась в их личной собственности, но при этом совместно хранили продукты земледелия и распоряжались ими; орудия труда и оружие находились в личной собственности мужчин, но при этом они обычно делили между собой охотничью добычу и трофеи.
Однако есть и другой способ использовать слово «коммунизм»: не как режим собственности, а в первоначальном смысле – «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Во всех обществах присутствует определенный минимальный, «базовый» коммунизм; представление, что если потребности того или иного человека достаточно велики (скажем, он тонет) и вам не слишком сложно их удовлетворить (скажем, он просит кинуть веревку), то любой порядочный человек, разумеется, пойдет навстречу. Такой базовый коммунизм можно даже считать основой человеческой социальности, поскольку в подобной ситуации мы бы не стали помогать только своему злейшему врагу. Но представление о том, насколько далеко, по общему мнению, должен заходить этот базовый коммунизм, в разных обществах отличается.
Во многих обществах – и американские общества того времени, похоже, в их числе – было совершенно немыслимо отказать в просьбе о пище. Для французов XVII века в Северной Америке это было явно не так: их диапазон базового коммунизма, по-видимому, был весьма ограничен и не распространялся на еду и кров – именно это вызывало возмущение американцев. Но аналогично тому, как ранее мы наблюдали противостояние двух очень разных концепций равенства, здесь мы в конечном итоге наблюдаем столкновение очень разных концепций индивидуализма. Европейцы постоянно боролись друг с другом за преимущества; общества Северо-Восточного Вудленда, напротив, гарантировали своим членам всё необходимое для автономного существования – или, по меньшей мере, делали так, чтобы ни один мужчина или женщина не находились в чьем-либо подчинении. В той мере, в какой мы можем говорить о коммунизме, он существовал не как противоположность индивидуальной свободы, а как ее фундамент.
То же самое можно сказать и о политических системах коренных народов, с которыми европейцы столкнулись на большей части края Великих озер. Всё делалось для того, чтобы никто не должен был подчиняться чужой воле. Лишь со временем, когда американцы узнали больше о Европе, а европейцы начали задумываться о том, как можно было бы воплотить американские идеалы индивидуальной свободы в их собственных обществах, термин «равенство» начал приобретать значение в диалоге между ними.
Раздел, в котором мы представляем Кондиаронка – философа и политического лидера общества вендат – и объясняем, как его взгляды на человеческую природу и общество обрели новую жизнь в европейских салонах эпохи Просвещения (и делаем небольшое отступление, посвященное концепции «схизмогенеза»)Для того чтобы понять, как развивалась индигенная критика – последовательная моральная и интеллектуальная атака на европейское общество, которую активно озвучивали коренные американцы начиная с XVII века, – и увидеть ее полное влияние на европейское мышление, нам сначала нужно разобраться о том, какую роль играли двое мужчин: обедневший французский аристократ по имени Луи Арман де Лом д’Арс, барон де ла Онтан, и выдающийся политический деятель вендат по имени Кондиаронк.
В 1683 году Лаонтан (под этим именем он стал известен впоследствии), которому тогда было семнадцать лет, вступил во французскую армию и был командирован в Канаду. На протяжении следующего десятилетия он принял участие в ряде кампаний, исследовательских экспедиций и в итоге дослужился до звания заместителя генерал-губернатора графа де Фронтенака. За это время он научился свободно говорить на алгонкинских языках и языке вендат и – по крайней мере, по его собственным словам – подружился с несколькими политическими деятелями из числа коренного населения. Впоследствии Лаонтан утверждал, что, поскольку он довольно скептически относился к религии и был политическим противником иезуитов, собеседники готовы были поведать ему то, что они на самом деле думали о христианском учении. Одним из этих собеседников был Кондиаронк.
Главный стратег Конфедерации вендат, коалиции четырех народов, говоривших на ирокезских языках, Кондиаронк (его имя буквально переводится как «ондатр», а французы часто называли его просто Le Rat (франц. крыса) в то время был вовлечен в сложную геополитическую игру, пытаясь стравить между собой англичан, французов и пять племен хауденосауни. Изначальной целью Кондиаронка было предотвратить нападение хауденосауни на вендат, грозившее обернуться катастрофой, но в долгосрочной перспективе он стремился создать широкий альянс коренных племен, способный задержать продвижение поселенцев[82]. Каждый, кто встречался с ним, друг или враг, признавал, что он был действительно выдающейся личностью: храбрым воином, блестящим оратором и необычайно искусным политиком. Кроме того, до конца жизни Кондиаронк был ярым противником христианства[83].
Карьера Лаонтана в итоге сложилась неудачно. Несмотря на то, что ему удалось защитить Новую Шотландию от английского флота, он не поладил с губернатором провинции и был вынужден покинуть французскую территорию. Заочно осужденный за неподчинение, он прожил бо́льшую часть следующего десятилетия в изгнании, скитаясь по Европе и безуспешно пытаясь договориться о возвращении в родную Францию. К 1702 году Лаонтан жил в Амстердаме, и удача его покинула: те, кто с ним встречались, описывали его как бродягу без гроша в кармане и как наемного шпиона. Всё это вскоре изменится, когда он опубликует серию книг о своих приключениях в Канаде.
Две из них были мемуарами о его американских приключениях. Третья, озаглавленная «Любопытные диалоги с рассудительным дикарем-путешественником» (1703), включала в себя четыре беседы Лаонтана и Кондиаронка. В них вендатский мудрец делился своими мнениями, основанными на его собственных этнографических наблюдениях в Монреале, Нью-Йорке и Париже. Он предлагал чрезвычайно критический взгляд на европейские нравы и представления о религии, политике, здоровье и сексуальной жизни. Эти книги обрели широкую аудиторию, и вскоре Лаонтан стал своего рода местной знаменитостью. Он поселился при дворе в Ганновере, как и Лейбниц, который подружился с Лаонтаном и поддерживал его вплоть до 1715 года, когда тот заболел и умер.
Большинство критиков работы Лаонтана просто принимают как само собой разумеющееся, что диалоги выдуманы и взгляды, приписываемые «Адарио» (имя, данное там Кондиаронку), принадлежат самому Лаонтану[84]. В определенном смысле этот вывод неудивителен. Адарио не только утверждает, что посетил Францию, но и высказывает свое мнение по всем актуальным вопросам – от монастырской политики до юридических дел. В дебатах о религии он часто звучит как сторонник деизма, согласно которому духовную истину следует искать в разуме, а не в откровении, принимая именно тот вид рационального скептицизма, который становился популярным в более смелых интеллектуальных кругах Европы того времени. Верно и то, что стиль диалогов Лаонтана был отчасти вдохновлен древнегреческими сочинениями сатирика Луциана; а учитывая силу церковной цензуры во Франции тех лет, возможно, самым простым способом опубликовать работу, содержавшую открытый выпад против христианства, для вольнодумца было придумать диалог, в котором он якобы защищает веру от нападок воображаемого чужеземного скептика, а затем проигрывает во всех спорах.
Однако в последние десятилетия исследователи из числа коренных американцев вновь обратились к этому материалу, рассмотрели его в свете того, что нам известно о самом Кондиаронке, и пришли к совершенно иным выводам[85]. Настоящий Адарио был известен не только своим красноречием, но и тем, что участвовал с европейцами в дискуссиях – таких же, что нашли отражение в книге Лаонтана. Как отмечает Барбара Элис Манн, несмотря на почти единодушный хор европейских исследователей, утверждающих, что диалоги были выдуманы Лаонтаном, «есть веские причины считать их подлинными». Во-первых, у нас есть сведения из первых уст об ораторском мастерстве и ослепительном остроумии Кондиаронка. Отец Пьер де Шарлевуа описывал Кондиаронка как «красноречивого от природы», которого «никто, возможно, никогда не превосходил <…> в умственных способностях». Прекрасно выступая на советах, «он не менее блестяще проявлял себя в частных беседах, и [советники и участники переговоров] часто специально провоцировали его, чтобы услышать его реплики, всегда оживленные, полные остроумия и, как правило, безответные. Он был единственным человеком в Канаде, способным сравниться с [губернатором] графом де Фонтенаком, который часто приглашал его к себе за стол, чтобы доставить удовольствие своим офицерам»[86].