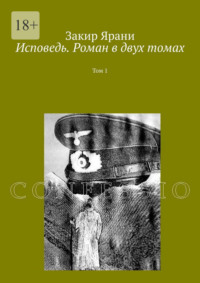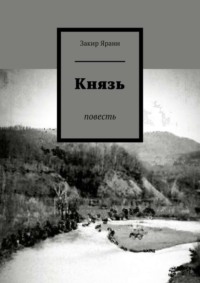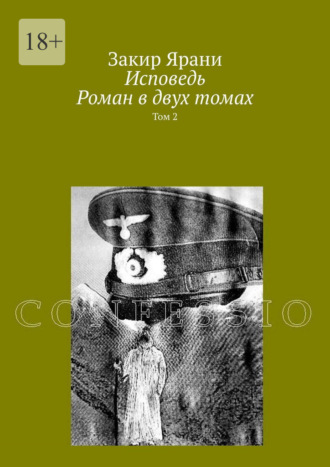
Полная версия
Исповедь. Роман в двух томах. Том 2
Теперь Тим в очередной раз вернулся со службы, отпер своим ключом дверь и прошел в теплую, пахнувшую домашним уютом квартиру. Печь была хорошо протоплена, и едва заперев за собой дверь, Тим поспешил снять шинель, чтобы под той не «зажариться». А ведь абсолютное большинство жителей города редко топило свои печи, поскольку дров здесь, в степных краях, не хватало, ввозить их в большом количестве в военное время, когда все дороги: и автомобильно-гужевые, и железные, были перегружены армейскими обозами и эшелонами, не получалось. Поэтому Анфисе с детьми повезло, что Тим, когда вселился в эту квартиру в первый раз, не пожелал их выселения: военных топливом снабжали в нужном количестве.
Тим с удивлением заметил, что Анфиса не спит: в кухне горел свет, и оттуда раздавалось ее пение. «Что у нее за праздник сегодня?» – подумал Тим. Дверь в ее комнату была закрыта: мальчики спали, только иногда слышался болезненный кашель младшего, который несколько дней уже лежал с воспаленным горлом и температурой. Тим приглашал к нему добросовестного врача-немца из полицейского лазарета. Доктор осмотрел ребенка и успокоил, сказав, что это – обычная осенняя ангина, оставил лекарственный порошок и мазь для горла. Анфиса бурно благодарила и врача, и Тима, будто они совершили подвиг, однако Тим, хотя и прибыл сюда бороться с коммунистами, евреями и прочими врагами арийцев, был вовсе не из тех, кто оставляет без поддержки помогающих ему. Он и сам недавно переболел, простудившись на здешних холодных и сырых осенних ветрах: сначала был насморк с сильной резью в носоглотке, потом поднялась температура и воспалилось ухо. Директор предлагал ему взять больничный отпуск и лечь в лазарет или хотя бы отлежаться на квартире, но Тим, зная, как потом тяжело ловить концы в детективной работе и наверстывать упущенное, отказался, только закапывал в ухо какое-то выданное доктором лекарство и кутался в шарф. В конце концов болезнь прошла, хотя и прилично его вымотала.
Тим нечасто признавался себе, но ощущал, что не только болезнь, но и вся эта долгая служба в прифронтовых районах существенно истрепала его организм. Он сам знал, что нуждается в отпуске, и даже желательно ему съездить в родной Штутгарт к матери, восстановиться телом и душой. Возвращаясь со службы, он чувствовал себя каким-то выжатым, руки и ноги не хотели слушаться. По утрам у него иногда даже не хватало сил сделать обыкновенную зарядку, и так и ехал он в полицейское управление полусонным. Стоило ему услышать где-то резкий звук или неожиданную речь, как плечи непроизвольно вздрагивали. То и дело на его душу накатывал какой-то тяжелый мрак, угрюмое равнодушие или неясное беспокойство овладевали им, хотя Тим и старался не подавать виду, держался на людях привычно выдержанно и активно.
Редкая ночь проходила без тягостных снов, в которых то всплывали картины критических боев, бомбардировок и перестрелок, то какие-то машины неопределенной формы, с вращающимися окровавленными деталями двигались безудержным потоком навстречу Тиму, грозя изрубить его тело в куски. А он крушил их молотом, отчаянно пробивая себе путь против их движения, но сил оставалось все меньше, и он начинал задыхаться, вот-вот зловещие, отвратительные механизмы, подступая с разных сторон, должны были зажать между собой и расплющить его грудную клетку… Бывало, снились ему и наваленные перед ним трупы: жутко застывшие и бледные, с диким, хотя безжизненным, выражением лиц, и были среди них женщины, мужчины, дети; потом трупы начинали шевелиться, и при этом лица их не оживали, из них выплескивалась кровь.
Еще в Майкопе, причесываясь однажды перед зеркалом, Тим обнаружил у себя несколько первых седых волос, а при напряжении последних полутора – двух месяцев седине впору было бы еще прибавиться. Но Тим не мог решиться взять отпуск: слишком напряженная здесь сложилась обстановка, если упустить ее из-под своего контроля, трудно будет потом заново сконцентрироваться на делах, а тот, кто заменит его на время отсутствия, много чего не будет знать и волей-неволей даст подполью слабину. Да и добираться по военным дорогам отсюда хотя бы до Генерал-губернаторства, а потом так же обратно, обойдется в отдельную нервотрепку. Лучше уж Тиму тут и умереть на недавно отвоеванных у русских коммунистов землях, как тысячам солдат на фронте, чем оставлять дела в такой момент.
Тим снял сапоги, прошел в свою комнату, зажег стоявшую на столе керосиновую лампу, снял и аккуратно убрал в шкаф китель. Затем достал из тумбочки бутылку шнапса. Подумав, решил не обходиться на эту ночь одним глотком, так как перед глазами тошнотворно-назойливо будто маячили мертвенно-бледные лица убитых сегодня партизанами казаков: какие же видения пойдут, когда Тим заснет? С бутылкой Тим ушел на кухню, чтобы взять стакан и налить себе шнапса грамм сто. В кухне также при дрожащем свете керосиновой лампы сидела на табурете у застеленного простой бело-синей скатертью стола одетая в клетчато-коричневый халат Анфиса. Светлые, как у настоящей арийки, волосы ее были убраны под косынку салатового цвета. Женщина сидела, заложив ногу за ногу, положив локоть на край стола, и, глядя куда-то в белую стену кухни, негромко, но отчетливо напевала какую-то грустную песню на русском языке:
…Вернётся всё назад – пока мечта живая,
Пока душе сияют маяки.
Мы, своего пути с дотошностью не зная,
Плывем по курсу, словно челноки…
– Твойа пйеснйа очен хорошайа! – сказал Тим, войдя с улыбкой в кухню.
– Ой, господин, простите!.. – Анфиса, прервав пение, привстала.
– Сиди! – махнул ладонью Тим, сам присаживаясь на простой деревянный стул с торца стола. Поставив на стол бутылку со шнапсом, он взял стоявший рядом стакан, откупорил бутылку и налил в стакан шнапса немного меньше половины.
– Ти пит немйецки напиток? – Тим качнул бутылку в сторону Анфисы. – Он хорошо пахнйет!
– Спасибо, господин! – ответила Анфиса, покачав головой. – Я боюсь, что от выпивки слишком крепко усну и не встану вовремя, чтобы приготовить вам воду и отправить в школу ребенка.
– Как твой син… котори имет болезн?
– Уже лучше: температура почти спала, горло уже не такое красное, и кашляет меньше! – благодарно кивнула головой Анфиса и улыбнулась.
– Sehr gut! – Тим закупорил бутылку. Затем, выдохнув воздух, поднес к губам стакан и залпом выпил обжигающий крепкий напиток, зажмурившись. Поставил опустевший стакан обратно на скатерть стола, отдышался. Чувство резкого жжения схлынуло из горла и рта, по телу стал разливаться усугублявшийся теплом, шедшим от печи, но тем не менее приятный жар. Голова заработала бодрее, очищаясь от усталости, тягостных мыслей и образов, правда, заработала не слишком слаженно. Но Тиму до утра вряд ли понадобится хорошо скоординированное мышление.
– Извините мою назойливость, господин, – Анфиса удивленно глядела на Тима. – но раньше вы, по крайней мере, при мне не выпивали по полстакана! У вас что-нибудь случилось?
– Ха!.. – Тим, приподняв сложенные пальцы ладони, хлопнул ими по столу. – Ти имет тревога обо мне?
Анфиса пожала плечами.
– Что же скрывать: вы очень добры ко мне и к детям, – сказала она. – Даже помогли моей подруге. Конечно, я беспокоюсь за вас как всякий благодарный человек.
– Ти обо мне не беспокойца… – произнес Тим неожиданно сам для себя. – йесли знат, што йа не добри человек. Йа не знайу, што йест добро… йа bin SS-mann3… йа знат, што йест польза, и што йест вред. Добро, злё… што йешо… любов, злёба – это лёшно дéлё!..
– Я не говорю, что вы добрый, – Анфиса вздохнула. – Я говорю, что вы добры ко мне и моим детям.
– Ти обо мне… о… wie es… увашениэ! – Тим усмехнулся. – А ми убиват много людей!..
Анфиса снова вздохнула и сказала:
– Война идет!
Тим на секунду вдруг испытал страх перед самим собой: ведь он сейчас сидит, разговаривает с этой милой славянкой арийской внешности, которой взамен ее услуг по дому помогал продуктами, врача вот хорошего пригласил к ее ребенку, а встреть он ее в несколько иной обстановке – он, не задумываясь, пустил бы пулю в это нежное белое лицо. А не мог бы он однажды так пристрелить и самого себя? Но затем Тим опомнился. Какие причины у него могли быть убивать Анфису – свою работницу, которая, к тому же, имела, наверное, большой процент арийской крови? А убить себя с какой целью? Если стоит перспектива попасть в плен низшим людям – конечно, для эсэсовца лучше смерть, чем такое бесчестие. «Не надо было сразу так много шнапса глотать!» – подумал Тим.
– У вас есть родные, семья, господин? – спросила Анфиса.
– Все имейут росвеники, – заметил Тим. От выпитого в большем, чем обычно, количестве шнапса голова начала сильно кружиться. Тим устало откинулся на спинку стула и подумал, зачем эта женщина спрашивает про его родных. Праздное любопытство? Впрочем, сведения о его родных и близких, живших в Вюртемберге и Баварии, служебной тайны не составляли.
– Мойа мат шивйот городе Stuttgart, – сказал он. – отец… умер… ошен давно. Сестра… имет муш…
– А вы сами не женаты? – поинтересовалась Анфиса.
Тим покачал головой.
– Йесли ти искат нови муш длйа себе, – сказал он со смешком. – йа длйа тебйа не… Ти длйа менйа не хорошайа. Йа SS-mann, а ти не немка. И даше не arische шеншина.
– Что вы! – удивленно воскликнула Анфиса. – Я и не собираюсь сейчас выходить замуж!
Тим с любопытством прямо оглядел ее симметричное белое лицо с голубыми глазами.
– А ти, йа думайу, имет много arisches Blut! – сказал он. – Ти белайа и висока. Но ти Slawin. Wir brauchen solche Frauen nicht4.
– Сегодня моя старшая подруга похоронила дочь, – со вздохом сказала Анфиса. – А священник
отказался ее отпевать.
– Кто умираль? – переспросил Тим, поняв только то, что какая-то подруга Анфисы кого-то похоронила.
– Подругина дочь, – пояснила Анфиса. – Она повесилась.
Тим, вопросительно глядя на свою работницу, провел ребром у шеи, изображая петлю.
– Да, – Анфиса кивнула. – Самоубийство.
– Она убиват сйебйа? – догадался Тим.
– Очень скромная и чувствительная девочка… была… шестнадцать лет. Очень ласковая и умная, любила читать Пушкина. Никому не могла сказать злого слова, даже тем, кто ее обижал. Над ней надругались… она сказала, что все в порядке… Но не перенесла на самом деле. Вчера, пока мать была на работах, она сделала петлю… и вот, наложила на себя руки. —
Йа плёхо понимайу тебйа, – сказал Тим озабоченно. – Што би́лё, кто убиват себйа?
– Дочка моей подруги, – повторила Анфиса. – Ей было шестнадцать лет.
– Почему?
– Ее изнасиловали.
Тим напряг память, вспоминая, что это русское слово, читанное им как детективом, означает в немецком уголовном праве.
– Vergewaltigung? – воскликнул он. – Он… она имет свйаз о мушина без йейо согласиэ?
– Да, вы правильно поняли, господин, – Анфиса тяжело вздохнула.
– Кто… делат это против… она?
– Венгерские солдаты, – сказала Анфиса. – Они посадили ее в машину, когда она шла домой с работ, увезли куда-то в тихое место и надругались, потом бросили… Конечно, она была очень чувствительной и мягкой девушкой… не перенесла такого. И даже отпеть ее в церкви, как положено, не получилось: батюшка сказал, что самоубийц не отпевают. Моя подруга… ее мать… в таком страшном нервном состоянии… у нее не осталось больше никого. Боюсь, она сойдет с ума.
– Йа без возмошност наказат ungarische Soldaten! – сказал Тим, разведя руками. – Это вопрос длйа большой… Kommandantur. Йа… имет власт о немци… о рускийе… Ungarn… это другой армийа… Но йа… грусни как ти, как твойа подруга… – Тим подобрал, какие знал, русские слова, чтобы выразить соболезнования.
– Что же делать нам? – произнесла Анфиса. – Война никак не заканчивается. В городе ни еды, ни дров, солдаты на нас смотрят как на недочеловеков, оскорбляют, грабят, издеваются. Не заслужили мы этого…
– Ти очен плёхо шит? – спросил Тим, хотя понял, что она имеет в виду не себя, а своих соотечественников. – Да, война трудни, но и нам не хорошо… ми плёхо спат, ден и ноч слюшба, нас убиват… даше тут – город, а как много Soldaten умират на фронту!.. А ти шит хорошо!.. Йа дават тебйе йеда… э-э… дерево длйа печ… Йа даше не делат проверка как ти работат!..
– Я говорю о людях вообще! – печально сказала Анфиса. – Люди устали. Люди умирают просто так… от голода и холода…
– Вес люди умират когда ни буд, – ответил Тим. – Ти шит хорошо, пока у тебйа ест шизн… это и буд ради… И твой люди, – добавил он. – не хотйат работат. Немци уше кончáт би делат этот город, а руский челёвéк йево город не хотет делат… цели сам.
– Где же люди могут сейчас заработать? – проговорила Анфиса, вероятно, неправильно поняв слова Тима о том, что местные жители сами не желают восстанавливать свой город. – Фабрики разрушены, магазинов мало…
– Ха! Твой люди на цели Fabriken работат не хотйат тоше! – усмехнулся Тим. – Они не хотйат работат место, где Chef немйец. Потому што длйа твой люди немйецки государство думат враг. Твой люди люби́т большевики! – он засмеялся. – Ми это знат! Твой люди длйа большевики работат без плата, а длйа немйец не работат, хотйа немйец плати́т… хорошо…
– Не сочтите за дерзость, господин, – возразила Анфиса. – но мало кому из наших ваши начальники платят хорошо. А тем, кого посылают на работы по мобилизации, вообще ничего не платят… если дадут захудалый паек – и на том спасибо.
– Это времйа война идйот. Буде война конец – буде хороши плата за работа.
– Для тех, кто войну переживет, – вздохнула Анфиса.
– Обида длйа тебйа нет, – сказал Тим. – но твой народ не длйа этот землйа! Твой народ не умет правильно делат йево шизн. Оно терпет власт от большевики… и злё, и бедност… и сильно войеват за большевики… За большевики, но большевики йево мучит! Но оно терпет… твой народ терпет большевики! И войеват за большевики!… Ти понимат?
– Примерно поняла.
– Твой народ не мошет шит хорошо без сильни и умни народ! Когда немци имет победа против большевики – буде хороши шизн длйа твой народ. Немци будут вести твой народ, и о твой народ будет правильно забота. Ти понимат?
– Мы и жили… нельзя сказать, что прекрасно, но… удовлетворительно, – сказала Анфиса. – Пока ваши не стали разрушать город. А теперь о нас почти не заботятся. Теперь мы, действительно, стали жить плохо.
– Когда война – нет лёхки шизн. Война будет кончат – и буде шизн… правильно…
– А мы и не хотели этой войны. Ее начали ваши люди, господин.
– Мой народ люче знат, што надо делат! – строго произнес Тим. – Мой народ имет большой степен… от мой народ много хороши… люче умни… большой люди длйа планета… йест… Когда твойа страна власт имет немци – твойа страна биль сильни и правильни, когда твойа страна власт имет большевики… йеурей – твойа страна бедни и без правда. Ти знат это.
– Я не знаю, лучше было до большевиков или с большевиками, – ответила Анфиса, потупив глаза. – Наверное, кому как… Но я… только не злитесь на меня… я знаю, что до прихода ваших… соотечественников все жили лучше, чем сейчас.
Тим сначала не очень понял ее слова, но затем до него дошло. Он нахмурился:
– Ти бели как arische Frau, а глюпи как Slawin!.. И polnische Frauen тоше такой! Ти дольшен шдат, когда буде конец от война, и тогда буде хороши шизн. Мой народ… мой власт люче знат, когда делат война, когда кончáт!..
– А почему вы уверены, что эта война правильная? – Анфиса посмотрела на Тима все тем же печальным взором голубых глаз, но тут от него не укрылась сквозившая сквозь грусть стальная напористость, которую он часто видел в глазах допрашиваемых партизан, их пособников и коммунистических агитаторов. «И ты такая же, как твой народ! Что ж тут удивляться!» – подумалось Тиму.
– Потому што большевизм… йеурейски идейа… опасни против вес правильни челёвéк этот Planet! – ответил он славянской женщине. – Ми високи люди – и ми дольшен liquidieren большевизм. И от это ми войеват против kommunistisch власт: он… verbreitet большевизм.
– Но вы воюете против коммунистов, а страдает наш народ – беспартийный. Ведь на плакатах в городе написано, что ваша армия пришла защищать нас от большевиков, а мы стали жить намного хуже, чем при них… Нет, я не коммунистка, даже комсомолкой не была… я просто ростовская женщина. Я согласна, что при большевиках тоже были трудности. Я хотела бы, чтобы дело прояснилось для меня: нас пришли спасать от большевиков, но нам стало еще хуже. Почему?
– Йа тебе говориль!.. – устало произнес Тим. – Война идйот – от война и длйа немци плёхо!.. Йа боле плёхо от ти шит: ти вода носи́т и Quartier делат чисти, а йа искат Partisanen, Kommunisten… йездит город везде… до Front… менйа стрелйат!.. Йа не Gestapo-Mann, йа Kriminalpolizist, но делат politische работа!.. А война конец – буде хороши шизн!.. И длйа твой народ, и длйа мой народ!..
– Но так же говорили и большевики, когда воевали с белогвардейцами! – Анфиса, грустно глядела на скатерть кухонного стола. – Я была маленькая, но помню: было страшное разорение, был первый голод… Людей убивали из-за самых пустяков… красные – чуть только показалось, что кто-то что-то имеет против власти Советов, белые – тоже чуть только показалось, что кому-то нравятся большевики. И большевики… да и белые тоже, говорили: пока война, трудно, но мы победим – и наступит счастливая жизнь… И до сих пор большевики так говорят: еще немного – и наступит всеобщее счастье. А счастливой жизни все нет и нет. Тяжелая работа есть, пустые магазины есть, аресты тех, кто не понравился власти, есть, но вместо счастья… просто удовлетворительная жизнь, которая была и до революции. Только управление поменялось… старых учреждений нет, есть новые – большевистские. А жизнь в конечном итоге та же. Но как началась война – жизнь стала опять плохой. Почему же следует думать, что после этой войны она станет счастливой? А не просто такой же, как была раньше?
– Ми не большевики, ми немци. Ми дават плата хорошо длйа люди, кто хорошо работат!
– Вы в это верите, господин? – спросила Анфиса. – Вы верите, что ваша власть будет достойно заботиться о людях, которые… которые даже не одной с вами нации? Просто ведь и коммунисты обещали всем счастье, и такие, как вы… я имею в виду, обычные служащие, по-настоящему им верили. Простые коммунисты сами верят тому, что говорят председатели комитетов, парторги. Я говорю вам честно, как мне кажется: вы мне сами очень напоминаете наших… обычных коммунистов. Которые верят в то, что обещают им руководители. Но из этих обещаний сбывается… очень невеликая часть…
– Die Kommunisten обешат длйа вас шасйе! – Тим мрачно ухмыльнулся. – И ви это шасйе шдат тепер! А это шасйе нет! А Nationalsozialisten длйа нас обешат… э-э… свобода от бедност и дéлё, де закон нет… и они делат, што обешат: ми Germania шит хорошо. Кто работат – тот имет плата… хороши плата! Мой страна хороши доми, дорога, Magazine, Fabriken. Это делат Nationalsozialisten… Но Kommunisten in Germania только портит работа, а Росиа они делат обйазаност работа без плата, и народ от kommunistisch власт бедни… Они твой народ обман делат всегда!..
– Вы хотите жить счастливо за счет горя других? – вздохнула Анфиса.
– Йа не понйаль тебйа.
– Вы живете в Германии хорошо, потому что увозите хлеб, скот, уголь, машины… даже людей из тех стран, с которыми ведете войну, – промолвила Анфиса. – Своего счастья не построить на чужом горе.
– Начáлё от война биль, когда ми уше хорошо шит, – сказал Тим. – Ми хорошо шит от наш работа… Ми брат… э-э… имушество… не много… от страна, где войеват, но это имушество ми дават длйа война – не длйа шизн Германиа.
– Я не интересуюсь политикой, но… знаете, вас… я имею в виду, немцев… и венгров с румынами, которые пришли с вашей армией… вас русские люди боятся… вашим плакатам не верят… Вы смотрите на наших людей так, будто они какие-то мыши или тараканы, которые мешают вам жить там, где вам вздумалось. Как-будто желаете нас вытравить отсюда… Поэтому люди и ждут Красную Армию: думают, что лучше уж большевики… от большевиков понятно, что ждать, а от немецкой власти… угрозой от нее веет… все время… даже когда ваши генералы улыбаются…
– Твой народ сильно слюшат kommunistische Propaganda. Ми делат конец длйа большевизм – и твой народ видет добро от нас!
– Нашим людям и так тяжело от войны, – сказала Анфиса, шумно набрав в легкие воздух, будто собравшись с духом. – А ваши начальники еще и причиняют им зло сверх того. Забирают то, что удается заработать… вырастить… оставляют малое. Люди ослаблены от недоедания, от хлопот, а их заставляют работать… грубо заставляют, даже бьют за неповиновение… так ни большевики, ни царская полиция не позволяли себе поступать… Увозят против воли в чужую страну… молодежь, которая только вчера школу закончила, отбирают у матерей. Чуть какое подозрение – грубо хватают простых людей, даже стариков и детей – и в тюрьму… хорошо, если отпустят потом, а уже у двух моих подруг родные сидят в тюрьме с лета – и доказательств против них нет никаких, и выпускать их не хотят. Вот, ваши друзья-венгры русских девочек насилуют. Поэтому люди вашей власти не верят. Думают, что она хочет вообще русских людей со света сжить. И как раз боятся, что если война закончится – вы расправитесь с ними… потому что силы у вас освободятся, в работе русских у вас нужды больше не будет.
Тим удивился: надо же, местные жители думают почти о том же, о чем и он, только со своей стороны, понятное дело. Сами они догадались о неких планах в руководстве СС, предполагавших переселение большинства славян в Сибирь с целью освобождения земель Восточной Европы для арийцев, или кто-нибудь из недалеких эсэсовцев проговорился им? Или это – результат подпольной агитации: ведь советская разведка могла тоже узнать об этих планах и, несомненно, большевики тогда воспользовались бы этими сведениями в пропагандистских целях. Но Тим не думал, что Анфисе с детьми грозило бы переселение: во-первых, она исправно служила ему – эсэсовцу, офицеру немецкой полиции, а значит, наверняка должна была попасть в списки тех, кому будет позволено остаться, во-вторых, ее внешность говорила о вероятной высокой доле арийской крови, и впоследствии она могла бы даже стать гражданкой Рейха.
– Я знаю, что вы, господин, даже если бы хотели, не изменили бы ничего: вы просто служащий своей страны, – сказала Анфиса все с той же грустной интонацией. – Но может быть, вы сами… сами для себя подумаете: правильное ли дело вы делаете. Все-таки вы обычный человек, приличный человек, офицер. И я как-то должна отблагодарить вас за вашу… снисходительность ко мне.
– Што ти говориш? – не понял Тим.
– Ваши люди воюют с другим народом, чтобы возвысить свой, – сказала Анфиса. – Неправильно это.
– Ти думат, што ми войеват не правильно? – умехнулся Тим.
– Я не сильно интересовалась такими вещами, но кое-что из идей национал-социализма я знаю. Вы думаете, что можно и нужно воевать с другими народами, чтобы свой народ жил хорошо.
– Вот как ти говорит! – произнес Тим. – Собсвений Nation – главни дéлё, не правильно? Руски Nation тоше себйе помогат, длйа другой – потом. И украйнски Nation – тоше. Нет ли?
– Когда своей нации грозит беда, конечно, любая нация будет спасать себя в первую очередь, – сказала Анфиса. – Как и всякий человек сначала думает о своем благе, о своих близких, а потом о других людях. Но нападать на другую нацию, чтобы отобрать у нее что-либо для своей – это нечестно и непорядочно. Точно так же, как отбирать что-то у семьи соседа для своей семьи. Различия между нациями не больше, чем между семьями, чем между разными отдельными людьми. Все люди отличаются друг от друга. И один русский от другого, и один немец от другого. У каждого человека своя внешность, свои привычки, свои убеждения. И у каждой нации своя культура, свои обычаи. Но это все не существенно. У каждого человека, у каждой нации есть общечеловеческое, что для всех людей и всех народов одинаково: все одинаково чувствуют, радуются, страдают, любят своих родных и друзей, все хотят добра и справедливости, все хотят счастья, все уважают труд, но и отдыхать любят. Все люди – это люди, телом и чувствами все одинаковы. Вы этого не можете не замечать, господин, но вы так верите тем, кому служите, что не думаете об этом!
– Когда кашди челёвéк думат йево… думаниэ, – Тима уже сильно клонило в сон. – вместо дéлё от слюшба – буде Chaos und Anarchie… У нас биль времйа, што кашди челёвéк, кашди Partei и кашди Land думат што хотет – это времйа, когда йа биль малий… ушасни времйа, хорошо, когда оно кончáт! Ми войеват, брат победа и шит шасйе – это йа знат! – он тяжело поднялся со стула. Голова кружилась и от усталости, и от выпитого шнапса. – Йа работат заутра – йа дольшен спат! Добри ноч! – взяв бутылку со шнапсом, он, превозмогая головокружение, направился в свою комнату.
– Доброй ночи, господин! – так же печально произнесла вслед Анфиса.
13
Сразу после завтрака с товарищами в служебном кабинете, Тим, оставив пока общие дела на Эмана, выехал с Хеллером опять в тюрьму на третий допрос арестованных неделю назад комсомольца Очерета и его подруги Ивановой. Ввиду важности дела он взял с собой переводчика ГФП Шмидта, чтобы информация, которая могла быть озвучена на этом допросе, не дошла до ушей штатных переводчиков тюрьмы, за чье умение хранить служебные тайны ручаться было нельзя. По пути в тюрьму, снова созерцая из кузова «Фольксвагена» мрачные руины города, накрытые еще и унылой серостью поздней осени, он вспомнил о разговоре со своей квартирной работницей вчера вечером и усмехнулся про себя. Она жалуется на притеснения, а сама вчера наговорила такого, что, будь она немка и в Германии – ее непременно бы арестовали. Тим же снизошел до того, чтобы выслушать ее не вполне благодарные, учитывая, как она жила под его крылом, сетования на немецкую власть, потому что она была местной невежественной украинкой.