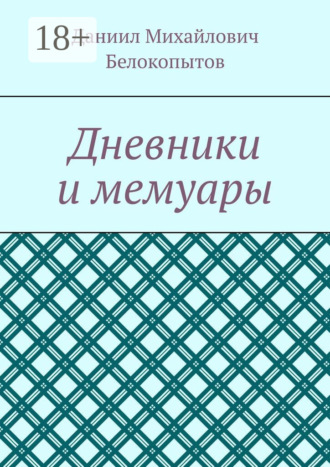
Полная версия
Дневники и мемуары

Дневники и мемуары
Даниил Михайлович Белокопытов
Жизнь человеку даётся один раз.
Прожить её надо так, чтобы труды
человека были полезны всему
обществу. Тогда она интересна
и значительна, прекрасна!
© Даниил Михайлович Белокопытов, 2025
ISBN 978-5-0065-6323-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I. ДЕТСТВО
На северо-восточной окраине скромного села Большого Яблонова Корочанского уезда Курской губернии в семье крестьянина-бедняка Белокопытова Михаила Ивановича и его жены Анастасии Матвеевны родился (пятый по счёту) сын. Имя ему священник нарёк Даниил. Но его появление на свет не радовало родителей. Во-первых, в бедной семье излишний рот ещё больше осложнял положение. Во-вторых, это уже пятый, хотя в живых было четверо.
В-третьих, его рождение появилось в разгар начала страдной поры (уборки урожая), т.е. 9 июля 1898 года. Поправиться матери и окрепнуть молодому организму ребёнка не пришлось. 11 июля матери с младенцем отправиться в поле на вязку стогов, прихватив с собой и «няньку» – восьмилетнюю дочку Мотю. Вот и закалялся молодой организм под крышами стогов, привыкая к мошкам и паутам. По рассказам матери, некогда было часто подходить к ребёнку, а «няня» сама больше плакала, чем ребёнок.
Мать, можно сказать, единственный работник был в поле и дома. Отец больше всего находился в заработках. Летом от занимался сбором тряпок и яиц, беря деньги для сборки у хозяев, которым поставлял эти товары. В зимнее время ходил по домам кулаков, расчёсывал шерсть (на лучке) и валял для них потники для хомутов, принося жалкие заработанные гроши. Свободное время от работы – дома плёл лапти для своей семьи и другим семьям по 20 коп от пары.
У матери не было ни одной минуты свободной. Работа на семью, управиться надо было на огороде, в поле, кроме этого ходила на подёнщину к кулакам. Но что за это платили бедной женщине? Кусок хлеба! Хорошо мне помниться такой случай.
В зимний трескучий мороз она молотила (цепом) рожь у своего богатого свояка Никонова Михаила. Ушла она тёмно и пришла в 11 часов ночи. Принесла, за этот адский труд, 6 фунтов печёного хлеба, на который мы с жадностью четверо набросились и съели весь. Мать не могла удержаться и горько заплакала. Сказала «Без роздыха и отдыха молотили в три цепа (3 человека) намолотили 10 копён, перевеяли на веялке и переносили, и за весь этот адский труд, а накормила вас один раз».
В то время мне было лет 8, но я тогда понял, что богатые такие жадные и бесчеловечные. После моего рождения через 2 года родилась сестрёнка, но она долго не жила и месяцев через пять умерла. Мать рада была что «господь» её прибрал. Но этим не закончилась беда. В 1903 году народился брат Никифор. У этого организм был крепкий и он остался жив. А через 2 года брат Василий, а через 2 года брат Гавриил. Но бедность всё больше и больше проникала в нашу семью. Столыпинская реформа ещё больше усугубила положение бедных крестьян. Так дальше жить было невозможно. Началось переселение в Сибирь. Отец отправился туда в поисках счастья, продав дряхлую избушку за 40 руб. и три надела земли, т.е. три десятины, по 60 руб. Был он в Томской губернии, Кузнецкий уезд село Еланди. Прожил там лето 1908 г. и вернулся ни с чем.
Ехать туда с семьёй (8 человек), старшей дочке было 17 лет, все остальные малыши, было не с чем, по приезду надо сразу идти в батраки всем. Решили остаться на месте. Избушку вернули и осталось шесть саженей огорода, вот и всё.
Такое положение обрушилось на семью двойным ударом. Братишка Василий 4-ёх лет стал полным рахитиком, на ножки не становился, помучился и умер. Ещё меньший братишка Гавриил ослеп, но через полгода умер. Но мать пролила реки слёз за это время. Мать, сестра ходили на подёнщину, старший брат (14 лет) нанялся в батраки. Я оставался за домохозяйку дома. Помощником моим был брат (6 лет) Никифор.
Осенью 1907 году мне надо идти учиться в школу. Повёл в школу меня старший брат Егор. Учитель Михаил Иванович Смирнов ласково встретил, пристально присмотрелся на меня и сказал: «мальчик ещё мал и ему придёться ходить в школу на следующий год». Я очень огорчился, потому что страсть была к учёбе. Брат мой ответил, что ему десятый год пошёл, он такой маленький ростом, а всё понимает, знает молитвы, стихотворения.
Действительно, я был мал ростом, от брата научился молитвам и стихотворениям. Учитель согласился зачислить меня в 1-ый класс, к учительнице Любови Карповне, а фамилию её так и не знаю. Это была молодая, стройная девушка из города, лет 20-ти, с душой и сердцем человека. Она передо мной и сейчас стоит в живом образе.
Она знала всех учеников, как они живут, хотя в классе было 38 мальчиков и 2 девочки. По моей одежде и обуви она сочувствовала мне. Посещал я школу в лаптёнках, крестьянская свиточка, старая, отцовской штопки, холщовые штанишки и рубашонка (окрашенная в синий цвет). Но учился я с большим прилежанием и старанием. Из всех 40-ка учеников Любовь Карповна очень любила двоих: меня и Кирдеева Захара – тоже из бедной семьи и занимался хорошо. Однажды она оставила нас двоих и стала по душам беседовать. Выяснила все стороны, а потом в заключении спросила: «А что если вы закончите эту школу, желаете ещё дальше учиться?» Мы отвечали, что желаем, но где, как и за что учиться? Наши родители не в состоянии нас дальше учить. Она ответила нам: «Вот кончите эту школу, я постараюсь вас устроить в школу второй ступени на государственный счёт». Это ещё больше зажгло в нас желание к учёбе. Я не считался с временем, гулял мало, вечерами учил уроки и утром рано вставал и под каптушкой учил уроки, пока отец наварит завтрак. Учился я до марта месяца, а в марте меня сорвали из школы, родители хотели весной уехать в Сибирь.
На осень я опять вернулся в школу, сел опять в 1-ый класс, но меня прогоняли во 2-ой класс, т.к Любовь Карповна перевела меня во 2-ой класс, хотя я не доходил 2 месяца в первый класс. Я всё-таки не пошёл, боясь осрамиться, отставать от своих сверстников. К сожалению, и Любови Карповны на этот год не было в нашей школе. Где она делась, я так и не узнал. Полагаю, что она сочувствовала бедноте, к детям бедняков относилась с сочувствием. Вероятно, её в этом заметили, т.к. попечителем школы был местный поп Аркадий Васильев – агент жандармерии.
Учить стала учительница, жена Михаила Ивановича Смирнова, Зинаида Дмитриевна. По происхождению дочь попа, нервная и крикливая. У неё было двое своих детей. Но на меня она никогда не кричала, я во всём был аккуратным.
В третьем классе меня обучал сам Михаил Иванович. Строгий, стройный высокого роста мужчина, лет 30-ти. Некоторых учеников избивал, но учил очень хорошо. Я его уважал, как хорошего учителя, во всём слушал, и исполнял. Единственный раз получил от него наказание. А было так. Последний урок у нас был чистописание. Мы заходили в класс. А я в это время выразился, что у нас сейчас будет чистомулевание. Он услышал и произнёс: «Белокопытов, за это ты останешься без обеда». Но когда отпустил учеников, то спросил меня: «Как это у тебя так получилось?» Я ему ответил, что и сам не знаю, не подумал, что это нехорошо. Он меня простил и отпустил домой.
Ещё одно наказание получил от священника. Он преподавал нам «Закон божий». Случилось так. Я сидел на одной парте с сыном школьного сторожа Рядинским. На уроке он дёрнул меня за рубашку и я повернулся к нему. А в это время поп заметил меня, вызвал к доске, продержал до конца урок (минут 15), но они тянулись мне 15 лет. Мне очень стыдно было от товарищей и священника. После своего урока поп спросил меня: «Ты зачем поворачивался к Рядинскому?» Я ему объяснил. Он мне поверил и обругал Рядинского «мерзавцем». Хотел меня оставить без обеда, но простил. Больше неприятностей у меня не было за всё время моей учёбы, вплоть до конца пединститута.
Но в живой памяти остались издевательства над отдельными учениками, которых я много видел. При мне ставили на колени, оставляли без обеда, избивал учитель, а особенно священник.
Священник сбивал с ног некоторых учеников, разбивал нос, одному оторвал ушную раковину. Дисциплина была железная, но только на уроках. А во время перемен устраивались «кулачки», разбивали носы, лица друг – другу. Устраивались драки, даже групповые. И всё же, при желании, можно было кое-чему научиться в школе. Правда, за бортом школы много оставалось неграмотных, особенно девочек.
Взять наше село Яблоново. Жителей было более 1000 домов. Около 1000 должно было обучаться детей, но их обучалось в школе 120 – 115 учеников, и из этих многие бросали учиться по разным причинам. Никто не отвечал за тех, кто не учился. Родители стремились мальчиков научить писать, читать, т.к. придётся им отбывать в армии, чтобы они могли написать и прочитать письмо. Это и главное было в учении. А из девочек некоторые учились из состоятельных родителей. Бывших дворянских происхождений, дочери торговцев, интеллигенции и отдельных кулацких семей. Вот почему старый строй оставил нам наследие – неграмотных и полуграмотных.
Чем же закончилось моё первое учение? Учёбу я закончил круглыми пятёрками. Получил похвальный лист с портретами царей Николая Второго и Александра Освободителя (от крепостного права) с картинкой – чтение манифеста об освобождении от крепостной зависимости. Свидетельство на евангелие и часослов.
Большое было желание учиться дальше, но… Тогда решил остаться на повторение 3 класса. Побыл 2 дня. Михаил Иванович сказал мне: «Нет никакой пользы тебе учиться в этом классе. Ты хорошо окончил школу, будешь слушать, учить то, что знаешь.»
Со слезами я переступил последний раз порог школы и унылым возвратился домой. Стала открываться швейная мастерская при школе. Поехал я с отцом, чтобы поступить в «швальню». Меня приняли, но мать не пустила. Она заявила: «Не могу, детки, я вас обуть, одеть так, чтобы пустить на люди. Никифор ходит в школу, и тебя надо лучше обуть и одеть.»
Пришлось наняться в батраки в хутор Языков, к Ширяеву. Водил пасти трёх лошадей и выполнять другие работы. Так начались мои «университеты». Жил в батраках в Яблонове, у Тютерева Антона, на Коротком хуторе. Он хотя и не был кулаком, но был деспотом. Он мне не давал и одной минуты отдыха. Шёл мне 15-ый год. Я у него пахал, косил, молотил, трёх лошадей и сосунка (лошонка) пас. Представьте себе, что идёт проливной дождь на дворе, делать ничего нельзя. Он тогда приносит пеньку и заставляет вить верёвки, пута, поводья, вожжи.
Причиной ухода от него, после уборочной, послужило то: однажды с уборки ржи мы с поля вернулись половина двенадцатого, пока вечеряли, поужинали, стало время половина первого ночи. Он меня посылает вести, пасти лошадей. Я не знал где с лошадьми ночуют с нашей улицы. Тогда заехал домой (в 1 ч. ночи), чтобы узнать, куда брат уехал ночевать лошадь. Оказалось, что брат Егор не повёл. Отец удивился, куда же хозяин посылает мальчишку ночью пасти лошадей, если он день косил, снопы носил, то он уснёт, лошади уйду в хлеба, хозяин поля поймает лошадей – тогда не рассчитаешься за жалование (14 рублей от апреля до ноября). Решил меня взять с собой на сборку яиц.
И после уборочной я с отцом уехал собирать яйца в Старооскольский уезд, сёла: Амросимовка, Дубиновка, Рогозеева, Крестище, Гарявинка. Я почувствовал себя на свободе, старался и рублей 15 заработал за осень (это было в 13 году).
В 1914 г. отец опять взял меня с собой на сборку яиц, но началась война, терпели убытки, и отец хозяину Чтмутову из с. Поповки задолжал 300 рублей. Чтмутов знал, что отец честный, но уплатить нечем было. Хотя и в суд подать, то у нас была одна глухая кобыла в цене 40—50 руб. и избушка 80—100 руб.
Чтмутов с отцом договорился по-хорошему, постепенно выплачивать. Порекомендовал меня отдать в лавку приказчиком (торговцем – учеником), в г. Корочу, торговке Мачихиной, у которой он занимал деньги и остался должен. Чтобы я отрабатывал долг по 7 руб. в месяц. Отвёз меня туда отец. Работы все выполнял. Я думал, что здесь работы меньше будет, чем в батраках у кулаков. Оказалось, что я из пекла попал в пламя. Всегда вставали с хозяйкой в 4 часа ночи. Она сама готовила пищу. Я из подвала приносил продукты, колол дрова, ходил по воду и приходилось чистить картофель. После того, как управимся дома, идём в лавку. Она подсчитывает оборот, а я топлю конторку, готовлю чай. А перед открытием лавки раскладываем товары (чернобакалейные). Выкатываем на улицу бочонки с дёгтем, керосином. С рассветом открывали лавку и торговали до темна. А питание было очень плохое. Придём из лавки, они ложатся спать, а мне приносят стопу курительной бумаги, чтобы я по листку вчетверо свернул каждый листик. И этой мне работы хватало до 12 или до 1 часу ночи. Вот я и здесь спал по 4 – 3 часа в сутки. А какое унижение претерпеваешь! Вот я и прошёл первый курс своей жизни.
Весной 1915 г. я и мой товарищ детства Зайцев Филипп Трофимович, тоже из бедняков, нанялись на хутор Короткий, к Кочергину Семёну «Пузану», собирать яйца с выездом в Таврическую губернию. Цена продажи нашего труда по 50 руб. в лето. Выехали в марте и 13 дней ехали, т.к. первый день выезда пошёл снег, глубоко выпал, на телеге трудно было ехать, но мы шли пешком все 13 дней. За 13 дней я разбил сапоги, которые мне впервые были куплены за 2 р. 50 к. (головки). В эту трудную дорогу претерпели очень многие. Нас хозяин не докармливал, всё время нервничал, что идут расходы, а дохода нет, доходило дело до побоев, оскорблений, унижений. Мы решили, как только приедем, на место, убежим на шахты (угольные).
Приехали, остановились в большом селе Агрофеновке, выдал нам хозяин денег на сборку яиц: мне 75 руб., и товарищу 50 руб. Но сбор яиц шёл плохо, потому что весна была холодная, грязная, куры не неслись. Приехал хозяин забрать от нас яйца, но собрано было совсем мало. Он нас, как ему надо, выругал, хотел избить по приезду во второй раз, и если не достанет яиц – искомому.
После его уезда мы решили бежать. Пешком добрались до станции (30 км). Стал вопрос. Куда ехать? Домой или на шахты? Решили поехать на шахты, в Юзовку (ныне Сталино), т.к. на шахте №7 работал наш товарищ Кузовлев Кузьма коногоном. А адреса точно не знали. Вот мы стали спрашивать первопопавших шахтёров. Не знают ли они Кузовлева коногона? Бесполезно. Спросили в конторе. Тоже бесполезно.
Вернулись на станцию, решаем куда ехать? Решили ехать домой через Харьков. Но вдруг увидели своих Яблоновских мужчин: Атаманского Семёна (Чекмаза), Атаманского Митрофана, «Козла» Егора и ещё двоих. Разговорились и решили ехать на рудник Парамонова (в 75 км. от Ростова), ст. Шахтная. В 1914 – и начале 15 г. там работал мой брат Егор и ещё много наших работало. Эти мужчины от нас взяли деньги, чтобы купить нам билеты до места. Оказалось, что мы проехали один пролёт и слезаем, т.к. за наши деньги они взяли билеты и оставили себе. Вошли в вокзал. Они сказали: «Будем до утра ждать пассажирский поезд и мы поедим, а то с этим нескоро. Я и товарищ залезли под стол и проснулись утром. Осмотрелись, наших попутчиков не оказалось. Мы поняли, что они нас надули. Спрашиваем дежурного за них. Он ответил: «Они наняли подвозу и поехали на другую станцию». Мы сели на пассажирский и приехали на рудник Парамонова. Встретили односельчанина Елисеева, он нас довёл до общежития, где наши односельчане жили (всего нас было 24 человека).
Прошло моё детство,
Видел много бедства.
Мать мне внушала, что это от бога.
Я много об этом думал, что без бога
– ни до порога.
Во всём открывает глаза мне юность.
II. ЮНОСТЬ
Итак, с рудника Парамонова начинается моя юность – второй этап моей жизни.
Частная квартира на посёлке Власовке в 1,5 км от шахты 1-ой №5, в 7-ми км от станции Шахтной.
Кто эти люди 24 рабочих – шахтёра и 25-ая сестра-хозяйка?
Двадцать три человека (в том числе сестра-хозяйка) были из нашего села Яблонова. Разных возрастов и с разными характерами и наклонностями. Одни из них приехали подзаработать и ещё больше расширить своё сельское хозяйство. К таким относились братья Тумановы, сыновья Елисеевы, Правдея и др. А некоторых нужда загнала добыть себе пропитание, а некоторые укрылись от мобилизации на войну.
Нас – меня и моего товарища Зайцева Филю народная волна захлестнула на такой распутице. Но я моложе всех был. Пройдя все формальности для поступления на работу, нас приняли на работу в шахту, на подъёмную.
Сперва мы были дверными, т.е. сидели у дверей, открывали и закрывали при проезде коногонов с вагонетками. Но случилось так, что мы уснули, лампочки у нас поворовали, один коногон за воротами оставил вагонетку. В это время ехал второй коногон, мы обязаны его остановить и предупредить об оставшейся вагонетке, чтобы он её забрал. Остановить можно было только лампочкой (светом), но лампочки у нас украли, тогда мой товарищ Филя пугнул лошадь в дверях, чтобы остановить. Она бросилась в сторону и вожжи было удушили её. За это коногон избил его. После этого мы ушли на подгонку вагонеток к площадке на подачу. Десятник Чурсин (лет 19, Воронежской губернии) меня принимает на подгонку, а Филю нет, т.к. он ростом был мал и тощий, я ростом был больше и гладок был. Мне пришлось уговорить Чурсина.
Жизнь и работа, как кротов, нам лучше нравилась, чем в батраках (самых зверских эксплуататоров – кулаков). Хотя мы работали по 12 часов в сутки, пока соберёшься, дойдёшь туда и обратно – пройдёт 14 часов, но вот 10 часов в твоём распоряжении, а в батраках и одного часу не было в твоём распоряжении. Кроме этого нравилось то, что здесь ты не одинок, а коллектив и дружный.
В июле месяце 1915 г. шахтёры сделали забастовку (никто не пошёл на работу, требовали 5% надбавки), т.к. всё дорожало в связи с войной, а зарплата оставалась старая. Хозяин был вынужден сделать прибавку 5%, но он колоссальные прибыли имел и после этого, т.к. уголь сильно подорожал.
В нашей артели два человека были подозрительными, Миша Глупышкин (высокий брунет, лет 27—28, городская личность, с образованием) и второй: Александр Иванович Рубцов, лет 35—38, с бухгалтерским образованием, лицо выщеголено, голова с лысиной. Они часто отлучались вечерами, вели себя скромно, пьяные никогда не были, дружили между собой, но наглядно этого не показывали. Конечно я и друг догадывались уже в годы революции, что Глупышкин и Рубцов работали подпольно, но осторожно. Среди нашей деревенщины они боялись вести работу.
Вся обстановка среди рабочих повлияла и на нас, молодёжь, особенно на меня. Теперь я убедился, что бога нет, весь этот религиозный дурман, которым я был насыщен, стал отходить от меня. Сбросил крест и не стал богу молиться, не соблюдал постов, стал разбираться в жизни.
Наши родители беспокоились за нас. Во-первых, боялись, что нас придавит в шахтах, и во-вторых, хозяин наш Кочергин Семён потребовал с родителей деньги, или возбудят судебное дело и нас посадят в тюрьму. Мы отослали домой деньги и они рассчитались с хозяином. Но нам не давали покоя – чтобы мы ехали домой.
Жалея мать, мы осенью приехали домой. А что делать дома?
Филя с отцом обрабатывал овчины, я нанялся на подёнщину к Токареву Поликарпу Ивановичу (учеником) по выделке овчин (платил он мне 60 коп. за день с 5 ч. утра до 12 ночи). Зиму проработал. Летом сделал себе из плетня избушку, и я стал самостоятельно работать над овчинами, научил старшего брата Егора и меньшего Никифора. Хорошо мы подзаработали осенью 1916 г. и начало 1917 г., но 2 февраля меня призвали в старую армию.
Этим считать, что моя юность кончилась.
III. СЛУЖБА В АРМИИ (СТАРОЙ)
Империалистическая война, начавшаяся 1-го августа 1914 года, всё больше разгоралась и затягивалась. Царское правительство всё больше подставляло пушечное мясо (солдат) на войну. В 1916 г. в мае месяце призвали в армию рождения 1896 г., осенью призвали 1897 г. рождения, а 2-го февраля 1917 г. призвали наш год рождения 1898-й, в том числе и меня. На призыв с нашего года из с. Яблонова было 52 человека. Из них забраковали человек 5 по болезни, но я оказался здоров.
Три дня нам дали на подготовку к отправке. Зачислены мы были в 165-ый Сибирский запасной полк, который находился в г. Перми. Очень не хотелось мне идти защищать Родину. А что у меня было в этой Родине? Даже не было клочка земли, а приходилось с детства гнуть спину на богатеев. Кроме этого знал, как в старой армии обращаются с нашим братом.
В последнюю ночь, перед отправкой в армию, все тёмные минуты выступили в жизни, и уже понимал, кому выгодна эта война, и мне так стало плохо, что выступили слёзы. Но ободряя себя, что я же не один, есть и другие такие товарищи, и что сделать – мы не знаем.
Пятого февраля на подводах нас привезли на станцию Прохоровку и повезли в г. Пермь. В Вятке (ныне г. Киров) мы были вечером. В одной лавке (частного продавца) получился скандал. Ребята, из нашего эшелона, разграбили его лавку, побили фонари на станции, и полиции попало камнями, которые хотели кое-кого арестовать и увести с собой. Эшелон постарались быстрее отправить и о произошедшем сообщить вперёд. Все были предупреждены, чтобы спрятать или уничтожить награбленные вещи. Не доезжая Перми, по вагонам произвели обыск, но ничего не обнаружили, полиция пыталась найти зачинщиков беспорядка, но бесполезно.
Приехали в Пермь 18 февраля часов в 10 утра. Снегу было много и мороз до минус 25-ти. Выпустили новобранцев и долго ждали командира полка, принимать новобранцев. Оказалось, что этот полк состоит из старых возрастов (от 40 лет и старше 43 лет), те их называли «крестиками», что значит находиться в тылу, а не на фронте. А наше пополнение составляло вторые (молодые) роты для подготовки на фронт. Получилось так, из «крестиков» узнал соседа из молодёжи и попросил командира поговорить с земляком. Они отошли от строя и вели разговор. В это время подалась команда «Смирно!» Вышел командир полка, стал принимать новобранцев. А пара земляков как стояли, так и стоят на том месте по команде смирно. Командир полка подошёл к старому солдату, спросил его о чём то и давай давать ему пощёчину. Это удивило всех и нагнало страху. После этого выступил с просторной угрожающей речью. «Вы дорогой отличились. Мы вам покажем, как надо нести царскую службу, а кто не будет подчиняться – того загоним туда, где Макар телят не гонял! А некоторых будем убивать, как собак!»
После приёма нас отправили в бараки. Большое было скопление. Спали на нарах все вряд, дали матрацы. От большого скопления появилась чесотка. В этом числе и я попал в чесоточный лазарет на недельку.
Нас обмундировали. Сапоги давали старые, кто какие подберёт по ноге. Я взял себе небольшие (по одному тёплому носку лезли), рассчитывая, что наступает март месяц, но ошибся, стояли морозы с утра до – 20 градусов. Ноги скоро я остудил, пошли нарывы на ногах, и я мучился с ними до самой глубокой осени, пока через них отправили меня на излечение в Киев.
Умывались мы во дворе, возле колонки в метрах 150 от барака. Служба у меня шла хорошо, всё давалось легко и строевая, и словесность. Особенно плохо давалась служба (из нашего взвода) односельчанам Навозову Павлу (он был уже женатый) и Анисимову Тихону. Их отдельно обучали, избивали, заставляли в печку кричать: «Я дурак!» Всё это становилось противно.
Дней через 10 старых солдат «крестиков» отправили из кирпичных казарм, а нас перевели в их казармы (они были трёхэтажные). Получился один случай (это было 4—5 марта 1917 г). Слух прошёл среди солдат, что Николая II (царя) сбросили, но открыто об этом ни слова. Однажды я стою между столами (где мы кушали), а сзади меня толкнул один ефрейтор. Я обернулся и замахнулся его ударить, но он успел отойти. Я его обругал матом, правда, он меня первый обругал матом, когда я хотел его ударить. Тогда он предложил мне идти на 2-ой этаж к старшему унтер офицеру (помощник командира взводного офицера). Я пошёл. Он доложил на меня, что я хотел его ударить и обругал, а за себя всё умолчал. Меня опять взорвало за неправду и я на него крикнул – врёшь ты, а ещё начальник! Взводный вскипел и стал мне читать проповедь: «Загоню, где Макар овец не пасёт! Услышали что царя нет и начинают делать свои дела! Ефрейтор, поди на его голову надень фуражку или шапку!»
Он надел на меня шапку (первопопавшую), я снова подошёл к нему. Он опять на меня опустился, а я стал отговариваться, что не я виноват, а ефрейтор.
«Молчать! – закричал он – Что ты должен сделать?» Я прикидываюсь, как будто не знаю – а я не знаю.
– Под козырёк должен взять!
Я ответил, что нас ещё не учили.
Тогда он заорал: «Завтра научу, буду сам гонять вас до тех пор, пока не смокнуться погоны!»
И правда, на завтра гонял нас (весь взвод) до мокрых погон. Мои товарищи говорили мне, что это всё из-за тебя.
Да, отдали бы меня под суд, но мы ещё не принимали присяги.

