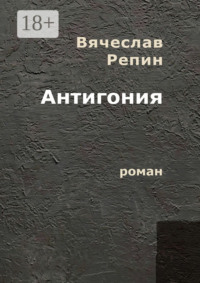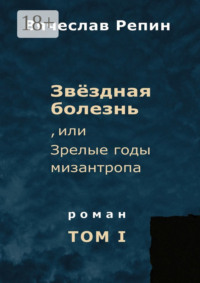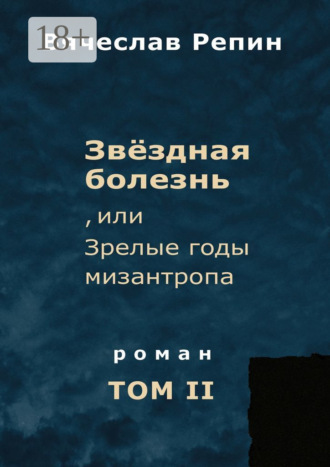
Полная версия
Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман. Том II
– Ничего себе… Да она же красавица! Это ее ты собираешься защищать? – изумилась Луиза.
– Ну да.
– И когда это будет?
– Суд?.. В среду.
– Я пойду с тобой.
– Не знаю, возможно ли. – Петр медлил. – Зачем тебе в суд?
– Пэ, ну пожалуйста! Я ведь в жизни не видела, как это происходит. – Отложив книгу, сев в кресло с ногами, Луиза впилась в него умоляющим взглядом.
– Что ты там увидишь? Я же тебе всё рассказал.
– Она такая… Такая странная история. И на тебя заодно полюбуюсь… Мне ужасно хотелось бы, Пэ. Я же никогда еще тебя не видела в этом наряде. Вы же там в черные мантии одеваетесь, правда?.. У меня в среду свободный день. Ты обещаешь?
– Не обещаю, но посмотрим, – сказал он, понимая, что это желание должно, скорее всего, развеяться к среде само собой.
Какое-то время они молчали.
– Мне всё же бывает так странно иногда, так непонятно.., – нарушила молчание Луиза.
– Что, Луизенок?
– Скажи, только честно, Пэ… Ты в Бога, конечно, не веришь. Я имею в виду в такого, который сидит на облаке или на троне, как Нептун с трезубцем. Но в какую-то силу, во что-то высшее, разумное?
Оторвав лицо от бумаг, Петр уставил на нее неуверенный взгляд. Аналогичный вопрос, или буквально тот же самый, он на днях уже слышал, но не мог вспомнить, где именно.
– Просто в силу не верю, – ответил он. – А в Нептуна… Если честно, не знаю. Но если я говорю себе, что Его нет, всё кажется бессмысленным… слишком мелким, что ли, одноразовым. – Он усмехнулся и замолчал.
– Значит, веришь, – заключила Луиза и, встрепенувшись, погрозила пальцем: – Скажи мне тогда, почему у одних людей есть все, а у других ничего? Ну вот посмотри на эту Шарлей на фотографии. Чем она хуже меня? Ему это что, безразлично? Это же несправедливо! А если он нас так любит, почему он допускает такую несправедливость?
Петр отложил папку в сторону и с какой-то неловкостью за необходимость отвечать на такой вопрос раздумывал.
– Не думаю, – сказал он. – Я не думаю, что Ему безразлично. Просто то, что мы считаем для себя несчастьем, бедами, не есть, наверное, несчастье в действительности.
– А что же это тогда?
– Наоборот – благо… – Он пожал плечами. – Но это трудно понять. Трудно этим проникнуться. Ну что мы себе обычно желаем? Всегда чего-то вещественного, чего-то ощутимого или даже плотского.
– Необязательно.
– Да, необязательно, – согласился он. – Но всё равно мы не можем понять. Нам мешает оболочка… всё то, что мы имеем.
– Значит, то, что какие-то дальнобойщики насилуют в двенадцать лет эту Шарлей – это для нее благо? Так получается?
– Мне это так же трудно понять, как и тебе, Луизенок, – сказал он после некоторого молчания. – Вроде бы нет, невозможно. А выходит, что да. Но как можно судить об этом сегодня? Такие вещи нужно рассматривать в протяженности всей жизни человека. Может быть, через десять, двадцать или тридцать лет ей всё зачтется.
На пороге гостиной появился Мольтаверн.
– Я там липу заварил. С медом принести или так?
– Леон, ну что ты постоянно пристаешь со своей заваркой?! – вспыхнула Луиза. – Не видишь, что люди разговаривают?
– Луиза! – попытался удержать ее Петр.
Но Мольтаверн уже успел обидеться и вразвалку поплелся к себе наверх, за рукав схватив со стула свитер цвета морской волны…
Намерение Луизы попасть на слушания в ней так и не перегорело, и Петр был вынужден взять ее в среду с собой в Версаль.
Начало судебного заседания было назначено на полдень. Они приехали к одиннадцати. Уже недалеко от входа в суд он усадил ее за столиком кафе, заказал ей двойной кофе с молоком и объяснил, как затем пройти в нужный зал. Сам же он, не теряя времени, отправился на встречу со своей подопечной, которая по его просьбе была доставлена из изолятора в суд с часовым запасом времени. В присутствии девушки он хотел просмотреть ее досье в заключительный раз, чтобы согласовать последние детали.
Едва ли Петр был поражен видом своей клиентки. Но в его лице всё же появилась тень озадаченности, когда ее ввели в комнату, отведенную им для беседы. Рассчитывая увидеть перед собой приблатненную девушку-подростка, лишенную, как бывает, собственного я, раздавленную тяготами своего положения или изображавшую из себя, что тоже нередкое явление, несчастного ребенка, попавшего в руки безжалостных взрослых, Петр увидел перед собой молодую женщину в скромном приличном платье. В руках – сложенный жакет. Слегка накрашенные губы, несколько детское выражение прилежания на лице, которое бросалось в глаза и на фотографиях, недоверчивый взгляд. В синих, упрямых глазах, с ходу провоцирующих на откровенность, отчетливо проглядывал тот беззастенчиво-наивный блуд, который поражает иногда в подростках. Впрочем, поражало Петра другое – насколько блудливый взгляд девушки напоминал ему некоторые выражения лица Луизы…
Заседание длилось полтора часа. И всё произошло именно так, как он планировал. Приговор не стал сюрпризом. Клиентка отделалась не столь символическим сроком, как ей хотелось бы: три месяца тюремного заключения, с условным отбыванием оставшегося срока до наступления совершеннолетия. На деле это означало, что девушке придется вернуться в стены камеры. Но, поручая Петру дело, Вельмонт на большее не рассчитывала…
В момент объявления приговора Петр заметил, что Луиза, сидевшая в одном из дальних рядов полупустого зала, пребывает под сильным впечатлением от происходящего. Вид у нее был растерянный или даже потрясенный. Он вдруг пожалел о том, что взял ее с собой. Мрачное выражение не сходило с лица Луизы весь день.
Вечер прошел на Аллезии. В этот день Петр помог Луизе перевезти из антикварного магазина небольшой секретер, купленный матерью, который та поручила ей забрать и временно подержать у себя. И уже дома Луиза приняла решение в Гарн не ехать. С утра ей всё равно нужно было идти на занятия. Они спустились поужинать и уже в ресторане заговорили о прошедшем суде.
– Я никогда не видела тебя таким… таким важным. Нет, правда, Пэ… Ты был – класс! В этом черном балахоне… А она… Говорят, что в курятнике так всегда происходит.., – пыталась Луиза объяснить что-то непонятное. – В курятнике пощады не дождешься. Стоит одной курице заболеть, захромать, как все набрасываются на нее и заклевывают. Вот как мы живем! Она так была похожа на больную курицу, Пэ… видел бы ты со стороны!
– А я тогда на кого? – спросил он, радуясь ее оживлению. – На драчливого петуха?
– Да, было что-то от петуха… Как ты точно заметил! Только не от драчливого. Ты как-то странно топчешься, когда разглагольствуешь на публике.
Петр кивнул, пытался что-то припомнить, после чего с грустью добавил:
– Да, удивительно. Многим кажется, что если женщина наделена внешностью, то она не пропадет, что ей… как бы это сказать?.. Больше дано шансов. А видишь, что получается. То, что происходит в реальном мире, иногда даже трудно придумать. Мир гораздо беспощаднее, чем мы думаем… Да что мы о нем знаем? Что я о тебе знаю? Что ты знаешь обо мне? – рассуждал он уже шутливым тоном, следя за ее реакцией смеющимся, совсем другое выражающим взглядом. – Ну, скажи, Лисенок?.. Так вот и со всеми, наверное.
– Да, ты прав, – согласилась она с серьезностью. – Я об этом часто думаю. Что я про тебя знаю?
Внутри у него дрогнула какая-то струнка. Петр сделал вид, что не понял сказанного.
– Ну, кроме того, что живем вместе.., – продолжала Луиза развивать тему. – Спим вместе, занимаемся всякими упражнениями, как в индийских брошюрах… А потом что? И страшно, знаешь, и тошно становится.
– Зачем ты так? – Чем-то вмиг напуганный, Петр даже отпрянул. – Это ведь разные вещи.
– Сам же только что сказал! Скажи мне… – Луиза в нерешительности медлила. – А нельзя для нее что-нибудь сделать?
– Для девчонки?
– Да! Что обычно делают?
– Не знаю… – Петр чувствовал, как его наполняет теплая волна благодарности. – Что же ты можешь сделать, душа моя?
– Какую-нибудь новую жалобу нельзя подать? Ведь не могут же они так…
– Это невозможно, – вздохнул он и продолжал изучать ее умиротворенным взглядом. – Всё закончилось не так плохо, поверь мне.
– Или послать ей что-нибудь… Посылку, например, или немного денег? Всё это, конечно, ерунда, но всё-таки? Кто-то вроде позаботился, понимаешь? Как только я пытаюсь встать на ее место, мороз так и дерет по коже.
– Денег? – переспросил он, подняв на нее удивленный взгляд. – Конечно можно. Но что это изменит?
– Да ничего не изменит! Но ты же понимаешь…
– Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал? – спросил Петр.
– Пожалуйста, Пэ. Пошли! – взмолилась Луиза, вдруг сияя всем лицом. – Мы вместе это сделаем! Немножко, символически… Мне как-то тяжело обо всём этом думать. Дурно становится. Ну, понимаешь? Если бы я там, на суде, не присутствовала – это было бы другое дело. А я была, видела. Это уже не где-то там, за облаками… Ну как объяснить?
– Я понимаю, – сказал он.
– Какое-то гадкое, гадкое чувство… – Луиза показала себе в живот. – А мы сидим в ресторане и набиваем себе кишки всякой дрянью…
На следующий день Петр послал своей подопечной почтовый перевод, равный по сумме небольшому, но всё же причитавшемуся ему за работу гонорару, приложив к нему пятьсот франков, добавленные Луизой из своих личных денег. Луиза сопроводила свой жест короткой запиской:
«Дорогая Шарлей! Мы с вами не знакомы. Но адвокат, который защищал вас на суде в среду, он мой друг. Вместе с ним мы и решили послать вам эту скромную сумму. Мы в этих деньгах не нуждаемся. Примите их просто. Я всем сердцем с вами. Крепитесь, всё будет хорошо. Всего вам самого лучшего, Л. Б.»
Первые эмоции в адрес отца в Луизе вскоре перегорели. Уже по истечении нескольких дней все разговоры на эту тему и недомолвки стали ей казаться преувеличением. Зачем делать из мухи слона? Уже сами факты, инкриминируемые отцу, выглядели неправдоподобными или, во всяком случае, недостаточно весомыми для того, чтобы напрямую влиять на отношения между ними.
Отношения с отцом вернулись в прежнее русло. Но в них не было былой непосредственности. Прежняя растерянность захлестывала Луизу не меньше, чем прежде, и по-прежнему заставляла леденеть от своих сомнений. Больше всего сегодня удивляло то, что между ними появилась какая-то необъяснимая двусмысленность или даже фальшь. Луизе казалось, что отношения с отцом теперь подчиняются каким-то зыбким, невидимым ограничениям и что она вынуждена принимать чуть ли не меры предосторожности, чтобы не выйти за их рамки. Как это произошло? В какой момент? Кем эти ограничения были навязаны и для чего?
Разобраться в себе ей не удавалось. Хотелось поговорить с Петром, он худо-бедно понимал, что происходит. Но она откладывала этот разговор со дня на день, чувствуя, что всё еще не находит в себе нужных слов, чтобы объяснить всё то, что творится у нее на душе.
Безотчетность и противоречивость чувств к отцу тем временем повергали ее буквально в ступор перед принятием самых простых решений. А в какой-то момент путаница срослась в такой комок, что ей уже не верилось в возможность его распутать. Первое время мучило отвращение к нечистоплотности, к грязи, как ей чудилось, которую подразумевала под собой двойная жизнь отца. Чувство отвращения усугублялось еще и от смутного страха стать жертвой предательства, на которое близкий человек, казалось бы, не способен. Это был страх (и даже он казался немного предательским) лишиться той невидимой опоры своего существования, возможности опираться на естественное, казалось бы, ничем не обусловленное единство, существующее между близкими, чему они не придают значения, пока не получают как следует по голове, пока до них не доходит, что лишиться всего этого проще простого. Но в душе как-то не приживалось, не находило себе места сделанное Луизой открытие, что жизнь других людей, являющихся частью этого единства, тех, на ком держится кажущаяся гармония, в подчинении которой до сего дня протекала жизнь каждого из них, не ограничивается общими для всех интересами. Жизненные интересы у всех, оказывалось, свои. Каждый жил, оказывалось, своей жизнью. Ничего удивительного в этом вроде бы не было. И тем не менее какая-то прежняя правда о жизни, более непосредственная, чистая, оказывалась сведенной тем самым на нет. Всё разом превращалось в фикцию. Всё вдруг казалось каким-то примитивным и жестоким обманом.
И уже позднее, когда буря в душе утихала, верх в сердце брали, как всегда, не эмоции и не требования рассудка, а безрассудная внутренняя потребность верить в лучшее, на чем, вероятно, и зиждутся отношения между людьми вообще, не только близкими. Изначальная непримиримость уступила место всепронизывающей жалости к родителю. Неотвязные мысли о том, что он не может не страдать от тех же противоречий и от тех же сомнений, примиряли с отцом, а заодно и с грязноватой прозой жизни, с собой.
Отец сильно изменился. Это бросалось в глаза даже в его внешности. Он стал больше прежнего хлопотлив, проявлял болезненную щепетильность по каждому пустяку, завел привычку звонить ей чуть ли не каждый день, внезапно повысил ей содержание. Уже в третий раз отец переводил на ее счет в Париже вместо восьми тысяч, как делал прежде, двенадцать тысяч франков. И как Луиза узнала от брата – с приездом матери к нему в США брат тоже стал ей иногда звонить, – отец повысил содержание и ему.
Не совсем понятным оставалось отношение отца к Петру. Отец не переставал о нем расспрашивать. Но в тон вкрадывалась какая-то настороженность. Ворвавшись в жизнь Петра со своими домашними дрязгами, отец почему-то не считал нужным объясниться с ним теперь, после того, как всё утихло. Луизе иногда казалось, что, проявляя нерешительность или даже малодушие, – раньше этого за отцом не водилось, – он просто ждал, что она возьмет эти объяснения на себя. Поведение отца могло объясняться и тем, что он начинал догадываться, какие отношения связывают ее с дядей, и что он просто не знал, что делать в этой ситуации. Но эта мысль Луизе казалась невыносимой…
Когда в конце марта отец неожиданно вернулся к своей старой и, казалось бы, похороненной идее купить ей в Париже квартиру, раз уж появилась очередная возможность, Луиза приняла эти разговоры поначалу в штыки.
Дальний родственник отца по матери, его троюродный дядя, живший в Париже и имевший какое-то отношение к полиграфической промышленности, собирался продавать свои апартаменты на улице Нотр-Дам-де-Шам. Из-за многолетней, не поддающейся лечению астмы большую часть года ему приходилось проводить в Бернских Альпах, неподалеку от Интерлакена. И теперь он намеревался приобрести в тех краях постоянное жилье, чтобы больше не тратиться на аренду. С этой целью он планировал расстаться с квартирой в Париже.
По словам отца, квартира находилась в прекрасном районе, в двух шагах от бывшей мастерской Фернана Леже. Закрытый тихий дворик. Новое, небольшое четырехэтажное здание, построенное лет двадцать тому назад, но вписывающееся в стиль близлежащих старых строений. Терраса, две спальни, большая гостиная с двойной высоты потолками за счет убранного когда-то межэтажного перекрытия – просторное, полное удобств, первоклассное городское жилье. Родственнику принадлежала еще и часть крыши здания, где он устроил настоящий цветник. Цена квартиры переваливала за два миллиона. Но, по утверждениям отца, последнее слово оставалось за покупателем, то есть за ними. При соблюдении кое-каких условий родственник готов был снизить цену процентов на десять.
Луиза не понимала, из каких средств отец собирается раскошелиться на подобное приобретение. Ведь еще вчера, на день отъезда матери в Нью-Йорк, та не знала, где взять деньги на билет и на пропитание. Объяснения отца, что необходимая сумма может быть получена с продажи принадлежавших семье акций дочернего парфюмерного предприятия, которое приносило будто бы одни убытки и закрытие которого было якобы не горем, а спасением, звучали неубедительно уже потому, что мать всегда противилась «разбазариванию» тех средств, которые ей самой достались в наследство.
Как бы то ни было, казалось очевидным, что отец решил сделать широкий жест. Одним махом он хотел поправить свою репутацию, вернуть себе утраченную роль главы семьи. Тем труднее, однако, было его отговаривать.
Когда мать в очередной раз позвонила, Луиза поделилась с ней новостями насчет квартиры.
– Пусть покупает, конечно… Ты же не будешь жить вечно по квартирам родственников. – Мать с ходу всё одобряла, но с некоторой медлительностью, с заметным безразличием. – Нужно устраивать свою жизнь, Луиза… Не забывай об этом, ради бога… А что за квартира? Ты ее видела?
– Гигантская, как я поняла. Терраса, крыша… Ну знаешь, с собственным выходом наверх. На крыше оранжерейка – на велосипеде можно кататься.
– Обязательно сходи посмотри. А потом расскажешь… До моего возвращения это не может подождать?
– По-моему, нет.
– Луиза, ты же у меня взрослая девочка… Да или нет? – заговорила мать тем голосом, который обычно брал дочь за живое. – Так вот и прими решение самостоятельно. Тебе ведь там жить. А потом разберемся, что к чему…
Когда Петру стало известно о затее Арсена с квартирой, он занял позицию выжидательную. Недоумение вызывала не только горячка, с которой Арсен взялся провернуть сделку с недвижимостью. Даже если к делу и можно было относиться как к обыкновенному капиталовложению: покупка квартиры в этом смысле никого ни на что не обязывала, неожиданными были бы разве что растраты в счет общего имущества, которое еще вчера все собирались отвоевывать друг у друга через суды. Этот аргумент не имел в глазах Петра достаточного веса и по другой причине: будучи дельцом-профессионалом, Арсен умел размещать избыточную ликвидность во что-то более доходное, чем квадратные метры жилплощади.
Казалось непонятным, почему Арсен, добровольно затронув эту тему во время их прошлой встречи, вдруг перестал посвящать его в свои планы. Ведь он не мог не понимать, что всё, что связано с Луизой, отныне касается его непосредственно. Еще большее удивление вызывал тот факт, что Арсен в начале апреля наведывался в Париж и вместе с Луизой ходил осматривать квартиру на Нотр-Дам-де-Шам, но во время этой побывки даже не удосужился дать о себе знать.
Луиза уверяла, что не смогла предупредить о приезде отца. Тот нагрянул будто бы как снег на голову. Приезд выпал как раз на те дни, когда сам он оставался в Версале допоздна, работая над срочным досье, и они не виделись три вечера подряд. Она уверяла, что отец провел в Париже всего два дня и что он с утра до вечера пропадал по своим делам, прежде чем уехать в Бельгию. Объяснение звучало неубедительно: она сообщила об этом с недельным запозданием…
Квартира понравилась Луизе с первого взгляда. Высотой стен, застекленным потолком в главной комнате, белизной панелей, планировкой, чистотой и особенно современной комнатной печью с никелированным дымоходом, которая была установлена прямо посредине гостиной и в окружении диванов выглядела не просто уютно, а впечатляюще – прямо как за городом, а не в городской квартире. Да и к интерьеру руку приложил дизайнер-профессионал.
Всё решилось в считаные часы. Однако квартиру решили не покупать, а пока лишь снять ее, уже с текущего месяца, подписав договор на годичный срок, с тем чтобы Луиза пожила здесь какое-то время и осмотрелась, прежде чем придется принять окончательное решение.
В считаные дни были улажены формальности, Брэйзиер выделил дочери бюджет на покупку мебели, если ей захочется что-то сменить; до принятия ими окончательного решения родственник ограничился вывозом библиотеки и ценных вещей, всё остальное он оставил в пользование. И уже через неделю был назначен день для переезда на новое место…
Луиза предпочла приурочить переезд к субботе. Отец не мог задержаться в Париже до этого дня. И Петр пообещал взять на себя главные хлопоты. Но после отъезда отца Луиза отговорила Петра от участия в перевозе вещей. В его помощи больше не было необходимости. Американец МакКлоуз пообещал привести целую бригаду друзей и знакомых…
Дожидаясь прихода МакКлоуза, который пообещал взять напрокат мини-фургон и приехать с обещанными помощниками, Луиза открыла окна, обложила подоконник подушками и, забравшись на него с ногами, листала томик Мишимы, на днях подаренный одним из друзей американца. Поминутно отрываясь от книги, она спускалась босыми ногами на паркет, что-то вновь перекладывала и перепроверяла, опять крошила остатки белого хлеба голубям, которые целой стаей осадили соседский балкон.
Утро выдалось теплое, солнечное. Уезжать никуда не хотелось. И тем более очевидным казалось, что переезд не нужен, затеян зря. Еще с вечера ее одолевали сомнения. И не только в переезде. Путаница с отцом, с Петром, с друзьями, которые вечно чего-то не могли поделить, – всё это отравляло жизнь, а не только настроение. Думать обо всём этом не хотелось. Хотелось просто сидеть не двигаясь на солнце и смотреть в открытую книгу. Но читать тоже не получалось. Не удавалось запомнить содержание прочитанной страницы. Когда в дверь наконец позвонили, Луиза испытала некоторое облегчение.
На пороге вырос Робер. Уже по одному выражению его лица не трудно было догадаться, что он пришел раньше всех не просто так.
Луиза вернулась к окну, забралась на прежнее место и, не удостаивая гостя вниманием, стала что-то быстро штриховать карандашом в блокноте.
Разглядывая приготовленные для вывоза вещи – чемоданы, коробки, чехлы с одеждой, мелочи из мебели, сдвинутые к передней, – Робер прошелся по квартире. После чего решил приготовить себе кофе. Казалось, что он просто хочет удостовериться, что, несмотря на грядущие перемены, всё оставалось между ними по-старому, что перемена не упраздняет его прежних прав и привычек.
Робер внес в комнату поднос с чашками, опустился в свободное от вещей кресло, отшвырнул в угол чьи-то валявшиеся мокасины и, потрепав листья высокой, безжизненно обвисшей монстеры, томным голосом спросил:
– Цветы ты разве оставляешь?
– Там их целый ботанический сад. Если хочешь, забери себе, – ответила Луиза, не отрывая глаз от блокнота. – Где застрял МакКлоуз? Скоро двенадцать…
– В прокате теперь всегда надувают. Не хватило машин, и морочат ему голову.., – высказал Робер злорадное предположение и, ударив кулаками по пухлым подлокотникам, прошелся взглядом по ее голым икрам. – А может, пробки в городе. Вообще жалко, что ты съезжаешь. Я любил эту квартиру. Целая эпоха для нас обоих.
Метнув в гостя презрительный взгляд, Луиза предпочла не отвечать.
– Да, представь себе… Мне грустно до слез. – Робер сцепил пальцы рук на животе и шнырял глазами по груде вещей. – Нет, скажешь? Было время, когда мы все…
– Давай о чем-нибудь другом…
– О чем о другом?
Луиза нахмурила брови и молчала, понимая, что Робер опять добивается своего, пытается «вывести ее на чистую воду», как он выражался, внушив себе, что последнее время она живет в чем-то мутном и небезвредном для нее, вплоть до ее здоровья. Уже на протяжении нескольких месяцев каждый раз, когда они оставались наедине, Робер не мог говорить ни о чем другом.
– Ты хочешь сказать, что было время, когда все мы спали кучей вот в этой постели? – с раздражением уточнила Луиза. – Что было, то прошло… Время групповухи прошло, Робер. Всё однажды проходит. И пора привыкнуть. Ну вот, смотри, что получается: ты приходишь ко мне, я тебе рада, а чем ты платишь? Опять и опять за свое. Как надоело, знал бы ты! Как надоело…
Стараясь не уронить своего достоинства, Робер вынул из кармана пачку «Кэмела» без фильтра, выудил короткую сигарету, постучал ею о помятую пачку, немного удивляя своей жестикуляцией, да и тем, что собирался курить, – до сих пор он был некурящим.
– Какой ты ребенок.., – произнесла она.
– Ты очень, очень изменилась, – произнес Робер. – Да, Луиза. С тех пор как твой дядя-розовод…
– Вот на этом стоп! Остановись, пожалуйста, и больше ни слова! – пресекла Луиза; она свесила ноги с подоконника и, исподлобья уставившись на гостя, проговорила: – Ты за этим и явился?.. Я тебе не позволяю смаковать эту тему, слышишь? Если ты хочешь, чтобы мы остались друзьями, Робер… Хочешь или нет?
Робер вроде бы не обижался. Неопределенно поведя головой, он размял шею и вдруг на глазах помрачнел.
– У тебя нет зажигалки? – спросил он.
Она соскочила с подоконника, стремительно прошлепала ногами на кухню и вернулась в комнату с большим коробком хозяйственных спичек:
– На, кури на здоровье! И, пожалуйста, я тебя прошу, Робер, хватит! Ты ведь близкий мне человек… – Она умоляюще наклонила голову. – А кроме этого, ты, между прочим, еще и мужчина. Это тоже немного обязывает.
– Этого ты как раз и не понимаешь, – пробормотал Робер невнятным баском. – Луиза! – провозгласил он, задыхаясь от дыма, не то от наплыва бурных чувств.