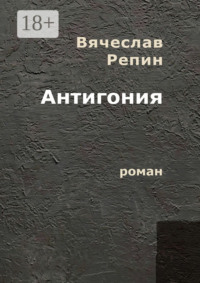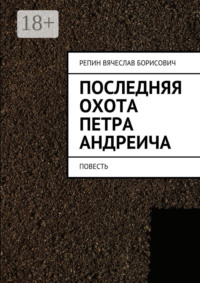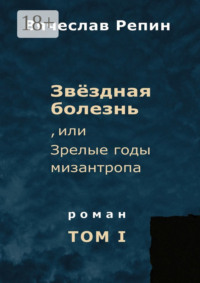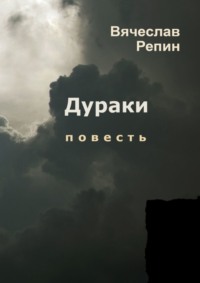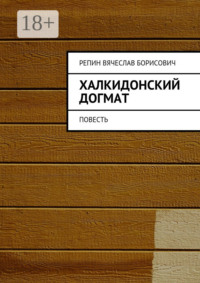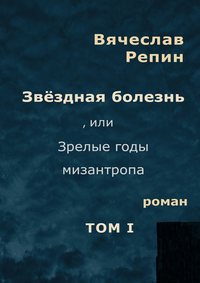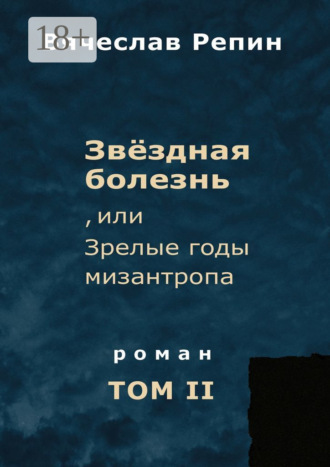
Полная версия
Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман. Том II
К столу вернулся толстяк-фотограф. Его прежнее место оказалось занято, и сидевшие потеснились, чтобы вместился дополнительный стул. Луиза тоже отодвинулась от стола. Толстяк, приветливо тряся щеками и ворча с непонятным юмором: «Благодарю-с, благодарю-с, предостаточно…» – вдруг поставил ножку стула ей на ногу, и не успела она высвободить ногу, как тот облокотился на спинку.
Луиза вскрикнула. Толстяк, остолбенев, странно изогнулся. Живот мешал ему наклониться. Он был вынужден расстегнуть пару пуговиц на своем белом пиджаке. Побагровев от смущения, толстяк опустился перед ней на одно колено. Громко сопя, он взволнованно выпытывал:
– Вам больно?
– Нет, ничего… Не страшно, – лепетала Луиза.
– Простите, ради бога. С моими габаритами… Лучше сидеть дома… – Вспаренный толстяк выглядел искренне обескураженным.
Вновь согнувшись перед ней, фотограф быстро сорвал с ее ноги туфлю, так быстро, что Луиза не успела этому воспротивиться, смотрел в замешательстве то на стопу в чулке, то на продавленный и, вероятно, сломанный носок туфли.
– Я возмещу. Скажите, где вы купили обувь, – проговорил он.
– Не нужно. Ничего не нужно. Пожалуйста…
– Нет, какие разговоры? – пробурчал толстяк. – Для меня это… вопрос чести. Я всё сделаю через Эктора, хорошо? – Он взглянул, какой марки обувь, одобрительно хмыкнул и был готов обуть ее, точно Золушку, но она успела отдернуть ногу…
Через час голос с эстрады объявил, что праздник переносится на улицу и что через четверть часа в парке начнется фейерверк.
Взбудораженная, охмелевшая толпа хлынула к выходам. Бертоло, чувствуя себя виноватым, предпочитал больше не оставлять Луизу одну. После того как часть толпы зал покинула, он вывел ее на улицу через боковую дверь.
– Идиотизм, надо же! – посетовал Бертоло. – Не везет так не везет. Он лапоть еще тот. Я ему устрою…
– Никто не виноват. Случайность, – сказала Луиза, чувствуя себя не то охмелевшей, не то запутавшейся в своих чувствах и ощущениях.
– Я сожалею, Луиза. Он испортил тебе вечер, – сказал Бертоло, впервые обращаясь к ней на «ты».
– Я поеду домой, – сказала она. – Где здесь можно взять такси?
– С такси будет сложновато. Я отвезу тебя. Ты можешь меня называть на «ты». Пожалуйста… – присовокупил Бертоло чуть ли не с мольбой.
Дышавшее ночной свежестью, черное небо раскроили ослепительные вспышки. Поднявшийся фонтан огней разбрызгивал цветные россыпи искр. Резкие, но не громкие хлопки раздавались один за другим, сопровождаемые всё нарастающими и всё более разнообразными и причудливыми вспышками. Чуть в стороне из парковой аллеи раздался еще более сильный залп такого же брызгающего крика и свиста. А затем шум стал подниматься и нарастать сразу со всех сторон. Казалось, что толпа решила перекричать канонаду.
На стоянке, запруженной машинами, уже собирались группы тех, кто решил разъезжаться. Одна из машин выруливала на улицу. Но Бертоло оказался прав: такси не было. Как выбраться из парка, Луиза не знала и решила дожидаться отъезда следующий машины, чтобы напроситься в попутчицы до ближайшей стоянки такси.
Бертоло запротестовал. Он продолжал настаивать на том, чтобы отвезти ее домой на своей машине, и не желал слышать никаких отговорок. Оставаться он тоже не хотел. И Луиза наконец сдалась.
Они прошли к машине, запаркованной в гуще стоянки под кронами высоких, темных деревьев. Это был помятый, непонятного цвета джип с хромированным бампером. И как только Луиза оказалась с Бертоло наедине, в тесной темноте замкнутого пространства автомобиля, она ощутила новый прилив скованности, еще более неодолимый, чем только что за столом. Ночная прохлада, не то возбуждение, всё еще не проходившее после шумного зала, толпы и фейерверка, которое она не могла пересилить, вызывали в ней какое-то неприятное волнение и мелкую дрожь.
Не успели они вырулить на освещенную дорогу, как Бертоло притормозил и съехал на обочину. Он не знал, в каком направлении ехать. По ошибке они, вероятно, поехали в противоположную сторону. В тот же миг он повернулся к Луизе всем корпусом и, задыхаясь, выговорил:
– Луиза… у меня больше… нет сил. Сидеть с тобой рядом – это пытка. Пожалуйста…
В следующий миг Бертоло проделал то, чего никогда не должен был делать ни под каким предлогом, – но этими заклинаниями Луиза мучила себя уже позднее. Он водрузил свою горячую, дрожащую руку на ее бедро.
Ей показалось странным, что Бертоло, любимый всеми преподаватель, кумир факультета, ратовавший за полную самоотдачу, за профессионализм в любом деле, мог оказаться таким беспомощным и неловким. Он яростно срывал с нее мешавшую ему одежду. Затем столь же яростно проделывал всё остальное, что мужчины проделывают наедине с женщинами, поражая своим животным пылом и уже вскоре глубоким, каким-то мертвым безразличием к ее безвольному дрожащему телу…
Уже через пять минут Бертоло рассыпался в извинениях. Но уже ничто не могло затушить в ней ощущения пустоты, немощи и досады, которые пылали в ней каким-то пожаром. Однако мучительнее всего было сознавать другое и уже позднее. Ей казалось, что, прояви он себя как настоящий мужчина, случись всё это не в машине, а в других условиях, вряд ли она пожалела бы о случившемся…
В понедельник Петр пытался дозвониться на Нотр-Дам-де-Шам с раннего утра, но телефон не отвечал. Недоумевая, не понимая, куда Луиза могла запропаститься на все выходные, он продолжал набирать ее номер на протяжении всей первой половины дня. Жест стал уже машинальным, как Луиза вдруг сняла трубку.
Было начало первого. Она только что встала, была не в духе. Она принялась сумбурно объяснять, что не смогла позвонить ему с вечера, казалась на что-то обиженной.
Не дав ей договорить, Петр попросил ее не уходить из дому, он хотел сразу приехать.
Уже через минуту он сидел в машине. Заранее чувствуя, что не удастся ее уговорить пойти обедать куда-нибудь вне дома, по дороге он остановился купить холодный обед – ростбиф, огуречный салат, дыню, бутылку красного «Макона» и мороженое…
Они не виделись с пятницы. Такие перерывы были редкостью, а тем более редко случалось, чтобы Луиза пропадала без звонка на все выходные. Петр знал, что в субботу вечером она собиралась пойти с сокурсницей на вечеринку, проходившую где-то в пригороде, на которую их пригласил преподаватель. Знал он и о том, что по возвращении с вечера она собиралась ночевать у родителей сокурсницы, тоже за городом – Луиза предупреждала его об этом еще за неделю, – но с субботы она уже не раз могла позвонить ему. И от этой неясности он чувствовал в душе неприятное брожение…
Луиза открыла дверь неодетая. Едва с постели, она выглядела заспанной, разбитой, и, как он и подозревал, ей нездоровилось.
Петр выгрузил покупки на кухонный стол и, вернувшись в гостиную, заставил ее померить температуру, а затем настоял на том, чтобы она выпила парацетамол с витамином С и потеплее оделась. Расспрашивая ее о том, как прошли выходные, он накрывал на стол. Для нее готовил завтрак, для себя уже обед.
– Так себе, ничего особенного… Не знала, как сбежать оттуда, – с безразличием отвечала Луиза.
Она объяснила, что вернулась из-за города только утром. Родители подруги, у которой она ночевала, заметили, что она простыла, и не захотели отпустить ее домой, с воскресенья оставили ее у себя еще на одну ночь, а сегодня утром отец подруги был вынужден отправиться в город по делам на машине, заодно и завез ее на Нотр-Дам-де-Шам.
Петр понимал, что простуда – отговорка. Причина крылась в чем-то другом. Но расспросы тоже были некстати. И он принялся разделывать дыню.
– Ты будешь удивлена, но вот что я решил на это лето… Почему не поехать в тропики? Ты ведь никогда не была на Сейшелах.
С полным безразличием ко всему Луиза продолжала смотреть в стол.
– А ты? Ты уже был? – спросила она.
– Мне было… Это было так давно, – сказал он. – Ты даже не знаешь, где Сейшельские острова находятся, могу поспорить… Можно поехать и в Гваделупу. Вот там я никогда не был. В первых числах июля – это было бы идеально. Когда у тебя конец занятий?
На миг подняв на него глаза, Луиза вновь погрузилась в прострацию, а затем всё же тихо произнесла:
– При чем здесь занятия. Я вообще их скоро брошу. Осточертело всё это…
– Ну вот… – Петр отложил нож, помолчал и налил ей чаю. – У тебя плохое настроение, Луизенок? Что-то нехорошее произошло? Я ведь чувствую, ты что-то скрываешь.
Внезапно соскочив со стула, Луиза отрицательно замотала головой:
– Да ничего не произошло, с чего ты взял… Ты же знаешь, у любой женщины есть такие дни… Ты, пожалуйста, ешь, не жди меня. У тебя ведь обед. Только у меня нет хлеба.
– Могу сходить, хочешь?
– Нет, никуда не уходи. Пожалуйста!..
Не притронувшись к еде, Петр позвонил Анне, секретарше, чтобы она перенесла одну из встреч, назначенную в Версале, на четыре часа. Тем временем Луиза, первым же прикосновением к своей чашке с чаем пролив ее на скатерть, с безжизненной сосредоточенностью на лице пыталась высушить салфеткой чайную жижу.
– Кстати! Я должна отдать тебе письма, – сказала она, когда он вернулся к столу; она поднялась, прошла к дивану и вывернула содержимое своего рюкзака. – В прошлый раз я забрала в Гарне почту и забыла отдать тебе. Прости, пожалуйста.
Взяв из ее рук несколько помятых писем, Петр мельком оглядел конверты. Одно письмо, в продолговатом конверте, было из Бельгии. На другом, потолще, с нестандартной зеленой маркой, стоял французский почтовый штемпель. Петр сунул письма в карман. Но, вдруг окаменев, он вынул пачку из кармана, вновь осмотрел конверт с зеленой маркой, надписанный знакомым почерком, перевернул его, взглянул на обратный адрес, быстро распечатал письмо и пробежал глазами по первой странице.
– Что случилось? – спросила Луиза.
– Черт знает что.., – пробормотал он, бледнея. – Я знал.
– От кого?.. От кого это? Если бы я знала, Пэ! Столько дней провалялось.
– Не понимаю, – бормотал он. – Это… от Ломова.
– Который… пропал? Ну вот, а ты сочинял…
Письмо была написано в Москве и датировано двадцатым апреля. Кто-то, видимо, привез его во Францию, потому что на конверте стоял штемпель парижского почтового отделения.
«Не удивляйся. Сначала смирись с фактом, а читать будешь потом. Или отложи, прочтешь позднее. Пытаюсь представить, какой удар тебе наношу, но как-то не получается влезть в твою шкуру. Такое чувство, что нас отделяет сегодня слишком большое расстояние…
Пишу из Москвы. Я приехал сюда в ноябре из Уганды. На один день завернул в Париж. Не смог тебе позвонить. Поверь, это было невозможно.
Весь этот год я так и просидел в Уганде, в миссии «белых отцов». Это на юге, неподалеку от озера Виктория. Знаю, что меня искали. Настойчивость поисков говорит сама за себя. Нетрудно представить, каких усилий всё это стоило. Не твоя вина, что поиски ничем не увенчалось. Я сделал всё возможное, чтобы меня оставили в покое и забыли. Каких усилий мне это стоило, не буду рассказывать. В миссию я попал после той истории с контрабандистом, о которой тебе, конечно, всё известно. Но чтобы развеять все легенды, должен рассказать тебе, как всё произошло.
Из Уганды в Найроби мне пришлось возвращаться не с дядей Леопольдом (он слинял по своим делам, довольно темным, ты наверное это понял), а вместе с бельгийцем, за которым я ездил в Уганду. Но ты, конечно, в курсе. Это было в январе, числа уже не помню. Неподалеку от кенийской границы нас нагнал «Пежо-204», в котором сидело трое черных как черти африканцев. Все что-то тараторили, улыбались, слепили своими белыми зубами. Там это умеют делать, ты наверное и в этом успел убедиться. Мой компаньон, бельгиец, соображал быстрее, чем я, и попросил меня приподнять стекло моей дверцы. Но было поздно. В окно что-то успели бросить. Помню, что он прокричал, мой бельгиец, — граната. Помню, что он попытался отстегнуть ремень безопасности и схватить эту штуковину с пола, чтобы выбросить ее из машины. В этот момент я, видимо, и выпрыгнул. В противном случае непонятно, как я остался жив. От бельгийца, по рассказам, осталась пара башмаков. Прости за натурализм. Я отделался легко – потерял два пальца на ноге, получил легкое ранение в плечо и контузию. Попал к местным жителям. Документов при мне не нашли, сообщить обо мне было некуда. В местной больнице прооперировали, вроде бы неплохо. Но антибиотики там дефицит. Начиналась гангрена. Если бы не случай, я бы наверное не выбрался оттуда никогда. Больницу случайно навестил миссионер-швейцарец, приехавший забирать детей. Пока полиция занималась выяснениями, он предложил мне уехать с ним на юг Уганды, в его миссию. Шансов встать на ноги в больнице всё равно не было. Я согласился. Дорогу в миссию я, кстати, не помню, говорят, что я всё время терял сознание.
Швейцарец Жан оказался человеком терпеливым, возился он со мной долго. Когда я очухался (прошло два месяца), мне стало совершенно ясно, что в моей жизни случилось что-то необратимое. Всё произошло к лучшему, в нужный момент. Только поверь мне, контузия здесь ни при чем. Так все и решили бы, если бы я заявил об этом в то время.
Я вдруг начал по-новому смотреть на всё, начал по-настоящему жить, дышать. Никогда до сих пор я не испытывал такой радости жизни. Радости, вызванной самой возможностью открывать по утрам глаза, смотреть на небо с постоянным ощущением какой-то полноты, о которой все мы давно забыли. Чувствовать, что принадлежишь чему-то целому, чистому и безграничному. Это что-то особое. Но я не знаю, какими словами всё это можно передать. Это необъяснимо. Надеюсь, ты поймешь меня. Если не ты, то кто же еще?
Не знаю, случалось ли с тобой что-нибудь подобное, но бывают минуты, когда в голове появляется невероятная ясность. Внезапно трезвеешь и понимаешь одну невероятную вещь — что в твоей жизни еще не было ничего настоящего. А если такая возможность представляется, нужно быть полным идиотом, чтобы ею не воспользоваться. Для этого нужен, конечно, внешний толчок, нужно пережить встряску, нужно очнуться, вот как я, в одно прекрасное утро на дне черной ямы (ямой и казалась мне вся прошлая жизнь). И всё понимаешь в одну секунду. В секунду сознаешь, что со старым покончено, что назад хода нет, что до сих пор всё было ошибкой, но что жизнь продолжается.
Я, кстати, не исключение. Такого отсева, как я, при миссии ошивалась целая компания: бельгийцы экспаты (навеки осевшие в Африке), белые «заирцы» (потерпевшие крах, уж не знаю, когда точно и отчего). Был среди нас бывший наемник и даже русская из Вашингтона, Ольга, попавшая сюда с мужем-американцем, каким-то люмпеном, завербовавшимся в гуманитарную миссию, с которым рассорилась, да так и застряла. Но благодаря ей я и оказался в России.
Трудно передать, в каком я находился положении. Возвращаться не мог. Куда? С прежней жизнью вроде бы покончено. Но как заявить об этом родственникам? Как сказать об этом вам, тебе? Кто из вас поверил бы, что я в здравом уме? Воля обстоятельств взяла бы, как всегда, верх над моей собственной волей. Я уж не говорю о том, что изменить, приостановить ход вещей в нашей стране трудно, неизмеримо трудно, что бы там ни говорили. Так устроен наш мир. Он превращает человека в раба. Какой груз условностей, действительных и мнимых, довлеет над людьми вроде тебя и меня. Какая всех связывает круговая порука профессиональных и личных отношений, вся эта бытовщина квартирных счетов, банковские, страховые обязательства и т. д. Этот мир держит нас при себе на правах вечных должников. Сначала вкладывает в нас, а потом требует отдачи. Беда в том, что на возмещение долгов и дивидендов уходит вся наша жизнь. Мы живем в стране, где больше нет истории, она в ней закончилась. Так вот, я решил, что проще ничего не ломать. Поставить точку одним разом и тихо уйти со сцены.
Поначалу я думал остаться в Уганде. Так делают многие. Это, в сущности, выход. Но не буду вдаваться в подробности. Тамошняя жизнь полна своих проблем. Есть и плюсы и минусы, как повсюду. Ольга, русская из Америки, с которой мы сблизились, должна была ехать в Москву к матери (мама ее болела и скончалась до ее приезда). Никакого решения я принять не мог. Но в конце концов всё решилось само собой. И всё произошло так быстро, сегодня даже могу сказать, что всё так удачно для меня сложилось, что я не могу не верить в помощь провидения.
Всего не расскажешь. В Москве у меня все, слава богу, благополучно. Думаю, что ты мог бы меня навестить. Вот был бы случай обо всём поговорить! Что же касается здешней жизни, то рассказывать нечего, ты всё знаешь. По большому счету здесь вряд ли что-то изменилось с тех пор, как ты сюда ездил. Да и сколько можно говорить об этом? В каком-то смысле везде происходит одно и то же. Россией правят те же, что и раньше, это факт. А кому, если не им? Об этом все почему-то забывают. Иногда я даже спрашиваю себя: как было обойтись без «прежних», без их наглого стремления к самообогащению? Откуда вообще берется «буржуазия», тот класс-катализатор, или компост – кому как больше нравится, – без которого в наши дни не может развиваться ни одно нормальное общество? Вот вопрос, на который пора найти ясный ответ. Кто, кроме буржуазии, кто, кроме отъевшегося мещанина, способен тратить неутомимую энергию на то, чтобы приумножать свои материальные блага, чтобы процветать гедонистическим способом? Единственное, о чем тут можно, конечно, сожалеть, это то, что всё было свалено в одну кучу, что сегодня невозможно разобраться, кто есть кто. Кто и каким образом, какой ценой приобщил себя к этому слою? Путем какого стяжательства, каких несправедливостей? Путем какого наконец кропотливого труда? Ведь и таких тоже немало. Четкая классификация, хотя бы в теории, была бы, мне кажется, полезным назиданием для всех. Но сводить счеты бессмысленно. Ста лет не пройдет, как все эти различия в достатке и в нравственных достоинствах, столь значимые в нашем представлении сегодня, будут смыты временем. Дети тех, кто сегодня кого-то обирает, станут однажды обыкновенными и, может быть, честными людьми. В таланты, в неравенство, в преимущество одних людей над другими в силу своих задатков, в труд как в добродетель – во все эти социальные «функции», достойные той формы организации бытия, которой подчинена жизнь любого муравейника, и на которых зиждется общественное устройство Старого Света, – в это я вообще перестал верить.
Я убежден, что обществом правят более низменные законы. Нам просто трудно это признать. Там, где отношения между людьми регламентируются денежной единицей или массой, правды нет. И искать ее бесполезно. А значит, в этом смысле ее нет вообще. И лучше оставить все эти разговоры. Уповать можно разве что на здравый смысл имущих, на инстинкт муравья, на то, что они не слишком отдалятся от правды – посредством искупления своих подлостей, посредством дележа, справедливого или мнимого, с другими, с теми, у кого меньше или вообще ничего нет. Но если смотреть на вещи спокойно, как всё становится просто! Зря мы себя терзаем. Всех людей, наверное, можно поделить на две группы: на тех, кто не мыслит своего существования без общества, и на тех, кто отказывается верить, что индивид должен и может развиваться внутри общества, кто верит в муравейник. Одни видят мир, скажем, по горизонтали. Другие – по вертикали. Кто прав – не имеет значения. Во все века проблема стояла одинаково.
Поэтому, пусть удивлю тебя, но я уверен, что всё здесь происходит так, как должно происходить. Мир опрокинулся, бутерброд упал маслом на пол. Но горизонталь осталась горизонталью. Вертикаль – вертикалью. К власти пришла та же самая каста «горизонтальных», как везде и всюду. Инертность сытых является, в конце концов, одним из факторов стабильности. Есть ли вообще другой способ удержать общество от «переворотов»? Ведь «вертикальные», при всей нашей симпатии к ним, править обществом не способны. Им было бы легче править целым миром, чем одной страной. Потому что в них не хватает заинтересованности в малом. Им не хватает чувства меры. Они слишком увлечены погоней за вечным, чего нет или очень мало в людской жизни. Об обществе я и не говорю. Всё же остальное, всё то, что пережевывается беззубым шамкающим ртом наших массмедиа, – это отдает старческим маразмом.
В общем, здесь тяжело, трудно. Но веришь в завтра. В Европе легче. Но не веришь ни в какое завтра, торопишься получить всё сегодня же. И в этом абсурде, в погоне за невозможным, проходит жизнь. Но что говорить…
Жизнь не стоит на месте. Возможно, со временем, лет через пять, десять, всё опять сдвинется с мертвой точки. Возможно, я буду смотреть на вещи по-другому. Пока же я не могу перебороть в себе чувства, что спасся от какого-то падения в пропасть. В этой истории одно ужасно – ваши переживания. Но они являются звеньями того же замкнутого круга. Поэтому я даже не прошу у тебя прощения за содеянное. Ты делал то, что делал бы я на твоем месте…
Напиши мне. Ты не можешь себе представить, с каким нетерпением я жду твоего разгрома. Что нового? Что в Версале? По-прежнему ли вся банда вместе? Не рассорились? Но боюсь спрашивать…
Пока прошу тебя ничего не предпринимать. Я уже пишу в Брюссель, в Париж и т. д.
P. S. Два слова о дяде Леопольде. Ему давно было известно, где я нахожусь. Одно время я надеялся, что он поможет мне, поставит вас в известность о том, что со мной всё в порядке. Но позднее я вычислил, методом дедукции, что заблуждаюсь. Дядя Леопольд был заинтересован в моем «временном отсутствии». Не удивляйся. Заинтересованы были те, чьи интересы он отстаивает в Африке. Тут целый клубок интересов крупных частных компаний, торгующих вертолетами, самолетами, пушками и т. д., и аппетитов государственных… Все ведь стараются идти в ногу со временем. Мой «карантин» всех устраивал, ведь никто не мог представить, как я буду вести себя по возвращении. А дело в том, что тогда, в январе, когда я поехал с дядькой в Кампалу, я стал свидетелем некоторых сделок. Там же, в Кампале, у меня открылись глаза на поездки Леопольда по Африке. На моих глазах происходила возня с «израильскими туристами». Но мало того, он пользовался мною и моей бесшабашностью. Словом, то, что произошло на дороге, – следствие. Я думал, что счеты сводили с бельгийцем (в Заире якобы не хотели его показаний). Но затем вывел, что случилось всё это из-за Леопольда. Просто вышла путаница – скорее всего, из-за шляпы и черных очков, которыми я снарядил в дорогу несчастного бельгийца. Покушаться на дядьку могли и ливийцы, и кто-нибудь из Руанды (он мудрил с заирцами, а тех поддерживали израильтяне). Но тут сам черт голову сломит. Я лоялен. Из-за войны в Персидском заливе в регионе всё, конечно, бурлит и бродит. Поэтому можно понять и наши власти. Но будь с Леопольдом осторожен: слишком свято он верит в «честь мундира» и в непогрешимость своих работодателей. Он обязательно тебе позвонит.»
– Хорошо то, что хорошо кончается. А всё же невероятно… Какая невероятная история! Что еще за святые отцы? При чем здесь Москва? – недоумевал Мартин Грав, расхаживая по холлу и разводя руками. – Будь добр, Питер, объясни же нам, что всё это значит?
– Вот… Здесь всё написано… – Неловким жестом Густав Калленборн протянул Граву письмо.
Недовольно взяв листки, Грав сел на диван и невидящим взглядом уставился в написанное.
Все молчали.
– Дядьке в Брюссель звонил кто-нибудь?
– Лучше повременить. Он же просит в письме, – сказал Петр.
– С чем повременить?
– Он просит повременить какое-то время, не мутить воду, – повторил Петр. – Если у тебя есть другое предложение, то ради бога…
– Я всё могу понять. Это послание, кстати, тебе адресовано, тебе и решать. Но между нами говоря… Этот дядька, вертолеты, израильтяне… Как в Советский Союз его угораздило умотать?
– В Россию, – поправил Петр.
Но взгляды компаньонов всё же устремились на Грава, будто в этом вопросе и заключалась суть полученной новости.
– Он же русский, – сказал Бротте, переведя взгляд на Петра.
– Да ладно… Такой же, как я китаец! – бросил Грав. – Я как-то ехал в такси, меня вез африканец, черный как черт. Что-то балаболил, необычно рыкая, и я спрашиваю его: «Откуда у вас такой акцент?». «В России, – отвечает,– подхватил. Русский акцент. Я там учился». Так что…
– Смешно – дальше некуда, – сухо заметил Петр.
– Скажу откровенно, я больше ничего не понимаю.., – подытожил Грав.
Своим скептицизмом Грав выражал между тем общее мнение. Петр чувствовал, что это настроение разделяет даже Калленборн, несмотря на то, что его первая реакция была совершенно искренней и даже бурной: тряся копной седых волос, Калленборн рыскал по кабинету, похожий на вставшего на дыбы медведя, и, не находя эпитетов, скалился, тряс лицом, костлявым кулаком больно поддавал Петру в плечо и не переставал бормотать: «Ишь ты, черт! А я-то думал. Бывают чудеса и в наше время…»