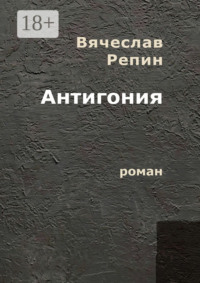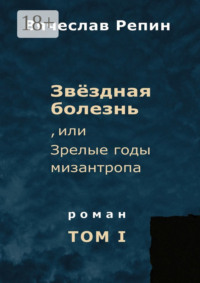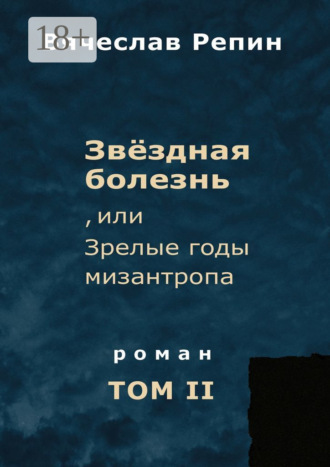
Полная версия
Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман. Том II
Высказавшись до конца, при этом ни словом, ни жестом не упомянув имени Луизы, Робер выдержал паузу и набрался храбрости заявить главное: если Петр не отказывается от своих притязаний на нее, то он заплатит ему той же монетой, будет вынужден поставить мать Луизы в известность о том, какие отношения связывают ее с дядей.
– Вот это уже совсем некрасиво, милый друг. – Петр усмехнулся. – Я вас считал приличным молодым человеком. До чего вы докатились, даже не верится…
– Да брось ты мораль читать! – пробормотал Робер, впервые называя Петра на «ты». – Старый бабник…
– Не такой уж старый, – заметил Петр с улыбкой. – И не такой уж бабник… Вам должно быть стыдно, Робер.
Молодой человек на мгновение растерялся, а затем уже другим голосом стал объяснять, что Луиза измучена своим «двойственным положением», что она еще слишком «неопытна», что он, ее дядя, – «и черт с ним, что дядя!» – хотя и годится ей в папаши, хотя и является «отпетым эгоистом», «тоже неплохой парень», но что это не помешает ему, Роберу, добиваясь своего, пойти «на всё». Робер завершил свои доводы утверждением, что Петр сует свой нос в вещи, в которых «ни шиша не смыслит», и что даже о Луизе ему известно далеко «не всё».
– Заглушите, пожалуйста, двигатель, – попросил Петр. – Не слышу, что вы говорите. Или музыку уберите…
Робер выключил и музыку, и зажигание. На протяжении нескольких секунд они с удивлением всматривались друг в друга.
И вдруг Петр понял, что Робер действительно способен на многое. Он попытался на миг представить себе, что будет, если Робер приведет свою угрозу в исполнение – какова будет реакция Мари, когда из какой-нибудь анонимки, склеенной из газетных заголовков, она узнает о том, чего он не смог ей сказать с глазу на глаз.
И ему стало не по себе. Единственное, что его несколько успокаивало, так это здравое соображение, которым он и сам был на миг озадачен: Мари никак не могла получить такого письма сейчас, находясь в Париже. На такую подлость понадобилось бы время. Или Робер знал, что Мари в Париже? Что, если он знал, где она остановилась?
– Робер, неужели вы думаете, что таким способом можно завоевать расположение женщины? – вздохнул Петр.
– У каждого свои методы.
– С этим спорить не стану. Но ваш подход мне кажется опрометчивым. Хотите, скажу вам, как бы я поступил на вашем месте?..
Робер молча смотрел ему в переносицу.
– Женщины не терпят давления. С ними нужно обращаться…
– Ваша племянница – не женщина, а девушка! – криком перебил Робер.
– Допустим. Но завоевывать доверие и любовь всё равно невозможно грубостью. Нужно иметь хотя бы чувство собственного достоинства. Ну немного… А когда речь идет о таких девушках, как Луиза, тем более. Уж поверьте мне…
Враждебно насупившись, Робер вставил в рот новую сигарету.
– Ну хорошо… Что я могу для вас сделать? Дать вам денег? Чтобы действительно было как в кино… раз уж вам нравится играть в эти штуки. Только много я не могу. – На лице у Петра появилась брезгливость.
– Какое вы всё-таки дерьмо! – отрезал Робер. – Вы пользуетесь ею! Таким, как вы, на всё наплевать!
– Ну вот что, Робер… Сейчас мне некогда разбираться… Я предлагаю на этом разойтись и дома всё спокойно взвесить, – с твердостью в голосе сказал Петр. – А дня через два или три приезжайте ко мне. Позвоните вечером и приезжайте. Мы всё спокойно обсудим. Дорогу вы знаете…
– Три дня! – отрезал Робер. – Я тебе даю три дня и ни часа больше. А потом… Сам увидишь.
– Три дня на что?
– На последние «адье» с племянницей… Ты меня понял? А теперь будь здоров, дядюшка!
«Мерседес» взревел и рванул с места. Робер вылетел к перекрестку, не обращая внимания на красный свет, развернулся посреди улицы Риволи в обратную сторону, промчался мимо, и автомобиль исчез на набережной…
Мольтаверн жил в Гарне уже пятый месяц, но в его положении не произошло ни малейших сдвигов. Намерение Петра обучить его садоводству оборачивалось крахом.
Поначалу старик Далл’О обнадежил было Петра согласием прибегать к помощи Мольтаверна и давать ему простые задания, но затем стал делать всё, чтобы не подпустить его к работе в саду.
Как здоровый полноценный мужчина может жить в нахлебниках? Откуда он вообще взялся? Далл’О смотрел на Мольтаверна как на низшего. Беспримерная покладистость, рвение, готовность нести в саду дежурство с утра до ночи и даже демонстративный отказ Мольтаверна надевать рабочие рукавицы, отчего руки его по локти покрылись коростой и ссадинами, после работы в розарии требовавшими обработки, но он даже от этих процедур отказывался.., – Мольтаверн делал всё, что мог, чтобы пробить эту стену недоверия к себе. Старик же оставался непреклонен.
Ремонтные, уборочные, слесарные и гораздо реже садовые работы, которые Петру удавалось с горем пополам подыскивать в округе через соседей и знакомых, не могли изменить положения в корне. Труд разнорабочего не стоил ломаного гроша. Перепадали лишь подачки, с которых не могло хватить даже на карманные расходы. И с каким бы пылом сам Мольтаверн ни хватался за любую возможность подзаработать, проявить себя, какое бы безразличие он ни испытывал к тому, что ждет его завтра, так не могло продолжаться до бесконечности.
Петр понимал, что не может ставить себе в вину неудачи с трудоустройством. Но от этого не становилось легче. И он удваивал свои усилия. Обзванивать всю округу и ездить по разным местным адресам он продолжал всю зиму…
Трудности с определением Мольтаверна на постоянную работу упирались не только в дефицит рабочих мест, который давал о себе знать, как и повсюду, но в его анкетные данные. Ничего неожиданного в этом вроде бы не было. Но поначалу Петр всё же недооценил ситуации. Хотя уже в декабре, при первых попытках подыскать что-нибудь через личные связи в муниципальных хозяйственных службах, ему пришлось констатировать, что далеко не все готовы ринуться на помощь не глядя.
Посвящать всех подряд в подробности биографии Мольтаверна, разумеется, не было необходимости, а тем более когда вопрос стоял об определении его на работу к частным лицам. Но с большинством из тех, к кому приходилось обращаться, Петр был знаком лично, и как-то не получалось не говорить всю правду. К тому же казалось естественным, что само отсутствие какой-либо корысти в его ходатайстве должно придавать его обращениям дополнительный вес. У нормального человека прошлое Мольтаверна не могло, казалось бы, вызвать сочувствия. Разве не так происходило с ним самим? Ведь, соглашаясь дать работу человеку бездомному, побитому жизнью, тот или иной потенциальный работодатель делал в итоге двойное приобретение: получал искомые рабочие руки, а заодно еще и удовлетворение от своего широкого жеста, раз уж отважился на благое дело. Но филантропический подход к делу других скорее настораживал.
Именно из-за судимости Леона отказались принять на работу в лесничество, а затем и на лесопильную фабрику, куда Петр обращался в декабре. Ни к чему не привели ни переговоры в клубе любителей собаководства, куда Петр ездил по рекомендации Сильвестра, ни в фирме по садовому обслуживанию, ни в местной строительной конторе, ни в дампиеррских бакалейных лавках, где всегда была мелкая работа – пусть даже просто доставщиком. Повсюду, где Петр успел побывать за зиму, как только до него доходило, что есть свободное рабочее место, всё происходило по одному и тому же сценарию. Сочувствие сменялось растерянностью. А почему именно я? Да неужели больше не к кому обратиться? Первоначальная отзывчивость и как будто бы готовность прийти на помощь в лучшем случае оборачивались добропорядочной болтовней на темы дня. Нет, мол, правды на свете. Как, мол, мир несправедлив… А через день от услуг Мольтаверна тактично отказывались.
Стоило ли удивляться такой реакции? Вряд ли. Для любого постороннего человека Леон не представлял собой ничего такого, что должно было заставить его жертвовать своими интересами и во что бы то ни стало идти ему навстречу. Тысячи и миллионы людей, подобных Мольтаверну, изо дня в день мыкались в поисках заработка и при этом часто даже не видели в своем существовании ничего анормального. Столь же глупо было бы схематизировать положение другой половины, даже с учетом того, что эта привилегированная «половина» представляла собой явное меньшинство, – а именно положение тех, кто может, кто хочет или должен разделить с менее имущими часть того, что имеет, но этого не делает. Привилегированность нередко оказывается тоже условностью и преувеличением.
Однако Петр выделял для себя еще один нюанс, и он представлялся ему самым важным. Ему казалось, что обобщения, да и вообще рассуждения о том, что кто-то, может быть, заслуживает тех невзгод, которые с ним происходят, а кто-то другой не заслуживает своего благополучия, – оставались голым допущением, домыслом. Это мгновенно понимаешь, когда оказываешься перед лицом реальной жизненной проблемы, решить которую невозможно одном голословием, просто копаясь в стерильных вопросах. На деле всё легко становится на нужные рельсы, выход из самой трудной ситуации не заставляет себя ждать при наличии у других пусть мизерного, но реально существующего намерения изменить что-то вокруг себя к лучшему. Ведь помощь, за которой в таких случаях обращаются, в конце концов, не столь значительна, чтобы усложнить жизнь того, кто на нее отваживается. Да и сами эти подразумеваемые «сложности», реальными они были или мнимыми, представляли собой, на взгляд Петра, прямое, хотя и не совсем явно, легко прослеживаемое последствие этого самого «обобщенного», схематизированного отношения к вещам. Обобщения лишь притупляли взгляд. Тем самым они усугубляли путаницу, а иногда делали ее беспросветной.
Следуя этой логике, он обнаруживал, что в его голове всё быстро сходится. Выявив для себя главную закономерность, Петр даже смог подогнать ее под некое житейское правило, пустил это правило в дело и старался твердо его придерживаться. Это правило заключалось в том, что предпочтение всегда следует отдавать конкретному, соразмерному с реальными личными возможностями, а не абстрактному, соизмеримому с голой истиной, выводимой из обобщений. И на какие бы достоверные сведения эти обобщения ни опирались, правда – в конкретном, ложь, заблуждения – в условном, абстрактном…
Самые большие связи в округе имел архитектор Форестье. Он был вхож в деловой мир департамента, знал лично кое-кого из муниципальных чиновников и при желании мог оказать настоящую помощь. Однако особого энтузиазма к просьбам Петра Форестье не испытывал. За два месяца, прошедшие с того дня, как он пообещал позвонить кое-кому и прозондировать почву, он так и не предпринял ничего конкретного. На филантропию соседа Форестье поглядывал косо, а если и делал одолжение, звонил кому-то и наводил справки, то лишь потому, что сдавался на уговоры своей жены. Элен Форестье Петру сочувствовала и, как могла, помогала.
В январе Форестье неожиданно заговорил о возможности пристроить Мольтаверна в конюшни, куда он возил дочь учиться верховой езде. Форестье-младший даже изъявил желание лично препроводить легионера на встречу с владельцем клуба. Встреча прошла удачно. Хозяин клуба как будто бы согласился взять Мольтаверна на испытательный срок. Но через несколько дней, как и все, ответил отказом, мотивируя это тем, что их «протеже» никогда не имел дела с лошадьми (это было ясно с самого начала), поэтому риск, мол, слишком велик, даже уборку конюшен он якобы не мог доверить человеку, не имеющему нужного опыта.
В те же дни стало известно о вакансии автослесаря в соседнем сервисе, где Петр иногда заправлял машину. Он свозил Мольтаверна на «прослушивание». Проэкзаменовав Леона, навыкам его удивились. Хозяин мастерской заверил, что ему нет дела до того, «кто где сидел, было бы за что…», пообещал не откладывать дело в долгий ящик и явно склонялся к положительному решению. Протянув с ответом неделю, хозяин сервиса позвонил сам и стал нести в трубку что-то невразумительное об условиях страхового полиса, об отсутствии сейфа и должности кассира, о каком-то родственнике-совладельце, которого ему не удалось уломать…
В конце концов, именно благодаря усилиям Форестье в феврале удалось найти подходящее место при муниципальном лесопарке, Леону было предложено работать в охране, одновременно исполняя обязанности дворника, а также иногда участвовать в садово-парковых мероприятиях.
От дома до лесопарка было пятнадцать километров езды. Мольтаверн уверял, что сможет добираться на работу на автобусе или даже на велосипеде. Вариант казался идеальным. О большем трудно было бы и мечтать. Петр решил приложить максимум усилий, чтобы не упустить такую возможность.
Когда они поехали на очередные смотрины, он предпочел не выкладывать всю подноготную, как это делал обычно. И вопрос был мгновенно решен. Трудовой договор предлагали подписать временный, всего на шесть месяцев. Но по истечении этого срока речь могла идти уже и о постоянном трудоустройстве.
В ознаменование столь долгожданного события Петр устроил вечером праздничную пирушку, пригласил на нее соседей. Мольтаверн приготовил на всех ростбиф и пирог с черносливом. Вечер вылился в настоящую попойку и закончился в третьем часу ночи на десятой бутылке шампанского – начиная с пятой, архитектор посылал Леона за шампанским в свой погреб, – в атмосфере бурных россказней о всевозможных доблестях времен беззаботной молодости, которую разогревал жар камина и дружный хохот…
Первое дежурство Мольтаверна в лесопарке выпало на понедельник.
Он встал чуть свет, приготовил на всех завтрак, накрыл стол в столовой и, сияя докрасна вымытыми щеками, приодетый, в шерстяном пиджаке и в галстуке с бежево-голубым узором – галстук был явно ни к селу ни к городу, – потчевал всех чаем и кофе, но при этом выглядел всё же немного подавленным. Он явно волновался.
Стараясь поднять в легионере боевой дух, Петр настоял на выдаче ему после завтрака аванса, заставил принять четыреста франков в счет будущей зарплаты, а затем для первого раза решил всё же отвезти его в парк на машине…
Домой Мольтаверн вернулся другим человеком. Но о самой работе он почему-то помалкивал. Ужин протекал в натянутой атмосфере. Тянуть его за язык Петр не хотел и терпеливо ждал, что Мольтаверн расщедрится на какие-нибудь объяснения. Луиза же принялась над ним подтрунивать: теперь он наконец может позволить себе обзавестись настоящим одеколоном, и от него больше не должно, мол, пахнуть «пятилетним медом», всякой дешевкой, которой он запасался в супермаркетах. А затем она стала бесцеремонно уговаривать его продемонстрировать свои бицепсы. Ей хотелось проверить, на сколько они «разбухли» за один «трудодень».
Не реагируя на колкости, с бесстрастным видом Мольтаверн продолжал обслуживать стол. Этакий обтекаемый мажордом, настоящий профессионал. Он не собирался ни перед кем отчитываться. Однако по его непроизвольной манере угождать в мелочах легко было догадаться, что всё прошло гладко. Может быть, даже слишком гладко для первого раза. И, видимо, поэтому за один-единственный день он настолько вырос в собственных глазах, что даже не знал теперь, как себя держать: я, мол, всё тот же вчерашний, да не совсем.
Уже на следующий день произошла новая неприятность. Она поставила Петра перед очередной проблемой. По дороге домой с работы – подробности случившегося стали известны позднее – Мольтаверн завернул в кафе. В ту самую местную забегаловку, находившуюся на перекрестке двух главных шоссейных дорог, в которой Петр покупал сигареты и иногда посылал за ними Мольтаверна. После восьми вечера здесь собирались местные рабочие и заодно всякий сброд. Мольтаверн принялся угощать всех пивом, решил таким образом обмыть свое трудоустройство.
Щедрый гость уже с полчаса казался всем поддатым, когда хозяин заведения, умевший избегать ненужных сложностей, отказался выполнить очередной его заказ – тот попросил еще одно пиво. Мольтаверн принял отказ за оскорбление и полез на рожон. По рассказам хозяина и его жены, помогавшей мужу обслуживать вечерами, буян перевалился через стойку, сгреб хозяина за шиворот, притянул к себе и дыхнул ему в лицо перегаром.
Хозяин постарался замять инцидент и пиво всё же подал. Однако, не удовлетворившись достигнутым и на глазах теряя над собой контроль, Мольтаверн продолжал куражиться. И дело неминуемо закончилось бы вызовом полиции или выяснением отношений на кулаках, если бы не жена хозяина. Она знала буяна в лицо, знала, где он живет. Отыскав в телефонном справочнике нужный номер, она решила позвонить в Гарн…
Не прошло и десяти минут, как Петр появился на пороге заведения. В кафе царил неимоверный тартарарам. Вглядываясь в душное, переполненное помещение, в клубы дыма, висевшие под низким потолком, Петр разглядел наконец и хозяина. Тот стоял за стойкой в дальнем углу и помахивал ему рукой.
В следующий миг он увидел и Мольтаверна. Непохожий на себя, какой-то окаменевший, с подслеповатой физиономией, Мольтаверн стоял тут же, в конце барной стойки, среди каких-то работяг в синих комбинезонах, сверкал белками глаз по сторонам, облокотившись о край.
Петр приблизился к компании. Рабочие расступилась.
– Хорош, нечего сказать… – Петр осмотрел Мольтаверна с головы до ног, перевел взгляд на рабочих, на какого-то старичка в фуражке, непонятно кому улыбающегося, обвел глазами молодых мужчин с раскрасневшимися лицами, которые выжидающе наблюдали за сценой через головы соседей, затем спросил: – Что здесь происходит, а Леон?
Мольтаверн наградил его пустым взглядом. Он не узнавал его, не то принимал за кого-то другого. Метнув взгляд в зал, Мольтаверн всё же выправился, еще одну секунду оторопело смотрел на Петра неприятным, мутным взглядом. Но затем убрал локоть со стойки и выровнялся, словно собираясь встать по стойке «смирно».
– Что происходит, я тебя спрашиваю? – повторил Петр свой вопрос.
– Эт-то вы?.. Что вы тут д-делаете? – с трудом пробормотал Мольтаверн. – Во-первых, здрассти…
– Рассчитывайся! – приказал Петр.
Хозяин, как и все, наблюдавший за происходящим из-за стойки, сочувственно закивал и сделал рукой отрицательный жест, давая понять, что заказ то ли оплачен, то ли вообще того не стоит, после чего, сложив волосатые руки на груди, радушно присовокупил:
– Щедрый парень. Опоил всю братию… А, пацаны?! Вы что, совсем сегодня обалдели все?
– Прошу извинить меня… и его, – произнес Петр, не совсем понимая, к кому хозяин обращается. – Спасибо, что позвонили.
– Вы не переживайте, – успокоил тот. – Мы и не таких видали… Хотя не понятно, что бы я с ними делал, если б вы не приехали?
Глядя на Мольтаверна, Петр только теперь осознал, что тот пьян вдребезги, хотя и умудрялся каким-то образом держаться ровно. Мольтаверн даже не шатался. Подступившись к нему, Петр тронул его за железный бицепс и чуть слышимо приказал:
– В машину!
– Вы, главное, не расстраивайтесь, а-спадин Вертягин, – забормотал Мольтаверн, брызгая слюной. – Я им покажу, этому быдлу!
– Покажешь… – Петр подталкивал его к выходу. – Шевели ногами.
Всплеснув руками, Мольтаверн стал проталкиваться к выходу, растопыренными пальцами придерживаясь за столы.
Они вышли на улицу. Уже совсем стемнело. Взяв Мольтаверна за рукав, Петр перевел его через дорогу, подвел к машине и открыл дверцу:
– Усаживайся, дружок, и поживее! Куда ты дел велосипед?
– Велосипед?.. Какой велосипед? Я где-то… Я, в общем, пьяный. Извиняюсь, конечно.
Втолкнув Мольтаверна в машину, Петр вернулся ко входу в кафе и сразу же увидел велосипед, прикованный тросиком к столбу с дорожным знаком. Ключ остался у Мольтаверна. Возиться с замком было не время, к тому же было непонятно, вместится ли велосипед в багажник машины. И Петр вернулся в кафе, попросил хозяина присмотреть за ним до завтра…
Наутро, проспавшись и абсолютно ничего не помня, Мольтаверн клялся и божился, что не возьмет впредь в рот ни капли. Петр потребовал от него предоставления счета за сабантуй. И оказалось, что тот пропил все деньги, которые получил день назад в виде аванса, все четыреста франков.
Инцидент кое-как удалось замять. Но в глубине души Петр не знал, как относиться к случившемуся. Поспешных выводов делать тоже не хотелось. Он предпочитал списать всё на срыв. На радостях бывает и не такое. В конце концов, длительные хождения по мукам – поиски работы, увенчались успехом. Мольтаверна можно было понять. К счастью, в тот вечер, когда всё случилось, Луизы не было дома, и поставить на истории крест было нетрудно. Но неприятности на этом не закончились.
Мольтаверн не проработал в парке и недели, как его уволили с работы. Это произошло в пятницу…
Уехав в этот день с работы раньше обычного, Петр приехал на Аллезию, назначив Луизе встречу в кафе рядом с ее домом, чтобы уже вместе ехать в Гарн. Дожидаясь ее прихода, он сел за столик на террасе у окон, чтобы присматривать за машиной, оставленной посреди пешеходного перехода, заказал стакан воды с мятным сиропом и стал листать «Монд». Когда Луиза вошла в кафе, опоздав почти на час – в джинсах и коротеньком пальто мышиного цвета, которое ей очень шло, – на улице уже смеркалось. Когда же они приехали в Гарн, было темно как ночью.
Еще издалека, на въезде на аллею с дороги, Петр с удивлением заметил в своих окнах свет. Мольтаверн должен был вернуться с работы позднее. Подкатив к ограде, Петр остановил машину и, не дожидаясь Луизы, гонимый каким-то неприятным предчувствием, первым заторопился в дом.
Мольтаверн сидел на диване не раздеваясь, в верхней одежде, и крутил в руках разобранный штепсель с проводами. При виде Петра он потупился.
– Здравствуй, Леон… Что это ты так рано? – спросил Петр, на ходу снимая верхнее.
Мольтаверн поднял лицо, но смотрел мимо. Поднявшись с дивана и шаря глазами по сторонам, он уничижительно, будто лакей, мотнул головой, прежде чем сделать шаг навстречу Луизе, которая тоже появилась на пороге, – он обычно забирал у нее верхнюю одежду. Вчерашний налет гордыни исчез с его лица как не бывало.
Петр и Луиза переглянулись.
– Давайте пальто, – предложил Мольтаверн. – Там некуда повесить.
– Леон, тебя же спрашивают? – потребовала ответа Луиза. – Ты что делаешь дома в такую рань?
– Списали, – буркнул Мольтаверн, и по лицу его расползлась глупая улыбка.
– Что значит, списали? – не поверил Петр. – Откуда списали?
– С работы, откуда…
– Как это? За что?
– А ни за что… Вам звонила Шарлотта, как ее…
– Нет, ты, пожалуйста, растолкуй понятным языком, – потребовал Петр. – Ни за что – так не бывает.
– Директор вызвал меня… Ну этот, помните, косоглазый тип? И спросил, есть ли у меня судимость.
– И что?
– Я сказал, что есть.
– Ты сказал, что есть… – Петр развел руками. – Мы же с тобой договаривались… что без меня ты ничего никому не будешь рассказывать. Да или нет?
Мольтаверн молчал.
– Хорошо. И что дальше? – подстегнул Петр.
– Ну что… потребовал справку. – Мольтаверн опять глупо ухмылялся. – Ну а когда заполучил бумажку, говорит, забирай свои манатки и чтоб духу твоего тут не было… Ну что тут непонятного?
– Справку! И ты ему эту справку принес? Когда ты успел?!
– Да нет!
– Не понимаю… Какого черта ты отвечаешь на такие вопросы? Или тебя за язык тянули?
– Что же вы-то предлагаете? Врать?
– Ну дает… И соврал бы, ангелочек! – попрекнула Луиза. – Тебя ж не на исповедь отправили, а работать… охранником, на хлеб зарабатывать.
Мольтаверн не знал, куда девать глаза. Ожидая, по-видимому, и не такую реакцию, явно приготовившись к взбучке, он, скорее всего, не ожидал, что это произойдет в столь резкой форме. На лице его появилось беззащитное выражение. Стараясь преодолеть неловкость, он глядел то в пол, то в сторону, а затем вдруг еще и покраснел, чего за ним не водилось вообще.
– Пожалуйста, Луиза.., – проговорил Петр. – Ну что, так просто и выставили? – спросил он смягчившимся тоном.
Мольтаверн смотрел в окно и как ненормальный покачивался.
– Скоты… Я им устрою увольнение! – пригрозил Петр и прошел в свой кабинет, чтобы оставить там портфель и верхнюю одежду.
Мольтаверн оставался непробиваемым весь вечер. Но в то же время не мог скрыть своей подавленности, выдавал ее молчаливостью, выражением упрямой сосредоточенности, которая проступала у него на лице, когда он кромсал репчатый лук на кухонном столе, рукавом вытирая слезы, и когда тут же шинковал петрушку в салат, уставившись в стол бездонным взглядом круглого сироты и пошевеливая губами. Выдавала даже походка: Мольтаверн расхаживал по дому, разводя колени и растопыривая локти, как будто под ногами у него был не паркет, а сплошные ямы.
Наблюдая за ним, Петр не мог не испытывать жалости, а то и вины за случившееся. Вины за свою неспособность помочь по-настоящему. Разве не он настоял на обмане, запретил говорить о судимости? В эти сомнения врывалось и другое неожиданное чувство. Едва ли это была просто жалость. Но что-то не переставало жечь его изнутри и становилось нестерпимым, как только он припоминал поразившую его деталь: реакцию Мольтаверна на свои первые слова, произнесенные с порога, когда они вошли с Луизой в комнату и застали его на диване – униженный лакейский кивок Мольтаверна. Почему-то именно этот кивок сильно бередил теперь душу.