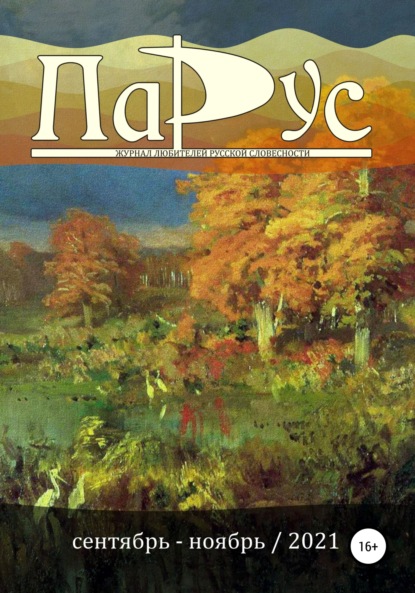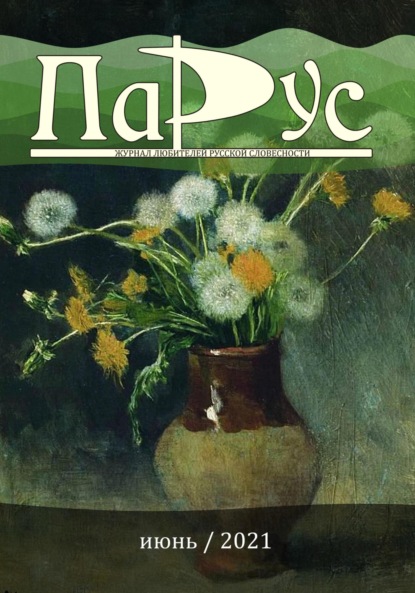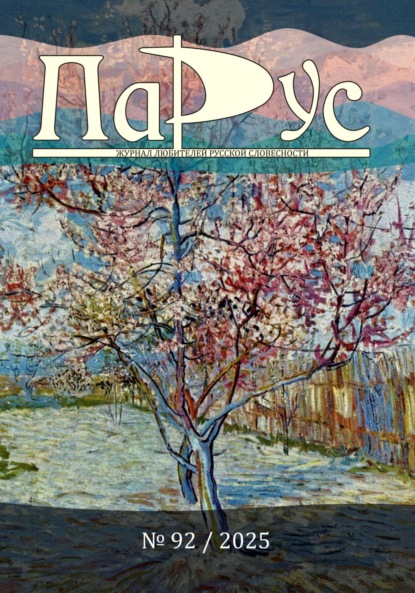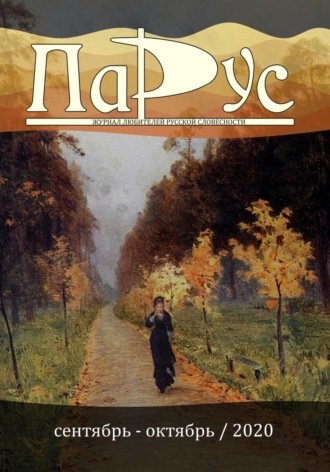
Полная версия
Журнал «Парус» №84, 2020 г.
Проще всего сказать, что страсти обуздываются добродетелями. Но действительно – иного пути нет. Поэтому следует выяснить, как воспитать в себе добродетели, как привить их в душах наших близких? Дерзну привести в этой связи грубую аналогию. Когда кто-либо заводит щенка породистой бойцовской собаки, разве не стремится её воспитывать должным образом, понимая, что не сделав этого, он, его семья и окружающие будут подвергаться серьёзной опасности. Так и наши задатки, унаследованные качества и энергия, если над ними не работать, их не облагораживать, достаточно быстро могут обратиться в недостатки. Ведь среди преступников много людей с энергией, бьющей через край, которую в своё время не завели в нужное русло. И почему мы, обычные люди, не в состоянии справиться со своими страстями, дурными привычками? Потому что нашим внутренним миром никто не занимался. И в нём бесчинствуют злобные, невоспитанные псы страстей.
Попробуй только задеть нас, потревожить нашу гордыню… Разве мы не готовы разорвать в клочья обидчика, хотя бы и в глубине души? Беда в том, что долго удерживать дух в напряжённом состоянии невозможно. Он неизбежно начнёт пожирать нас изнутри или без всяких мотивов будет заставлять кидаться на окружающих. Как вы думаете, почему столь высоко в мире число немотивированных преступлений? Это невоспитанные псы-убийцы рвутся наружу из нашей души. А мы продолжаем считать, что рассуждения о страстях-добродетелях – пустое дело попов, богословов, философов, и оставляем собственную душу растерзанной, неухоженной. Разве человек с такой душой может сотворить настоящее благо другому?
Для решения вопроса о воспитании добродетелей может понадобиться вся жизнь. Страсти таковы, что даже если они будут умерены и облагорожены, стоит ослабить внимание и прекратить практику выявления и отсечения в себе того, что заставляет нас переходить границы, за которыми начинаем учинять произвол, они начинают превращать нас в своих рабов. Например, если даём послабления требованиям нашего чрева, то незаметно значительную часть своих сил, времени начнём расходовать не просто напрасно, но и нанесём себе значительный вред. Угождая себе, непрерывно бросая подачки своим желаниям, неизбежно начинаем выходить из себя в мир, где нам ничего не принадлежит; в мир, в котором за то, что не является необходимым, мы отдаём свои силы без возможности их восстановить, тем более умножить. Чаще всего вершины успеха, которые достигаем в обыденной жизни, оказываются дном пропасти во внутренней сфере бытия.
В результате нашей деятельности должно происходить соединение небесных энергий с земными. Если этого нет, то плоды такого труда будут не только бесполезны, но и опасны. Благо создаётся только теми людьми, чей внешний труд есть продолжение внутренних усилий, обеспечивающих доступ духа к насыщению небесной благодатью. В этом случае он не станет искать возможности достигнуть удовлетворения неестественным образом, за счет умножения материальных благ и поиска того, что может принести удовольствие. Именно в этом случае наши природные чувства, желания, стремления извращаются до страстей и похоти. Ибо получение сверхнеобходимого неизбежно связано с отказом от любых форм внутреннего контроля, с удалением совести на задворки души, с угнетением религиозного чувства. В противном случае мы будем не в состоянии найти оправдания тому, что делаем по отношению к окружающей жизни, к людям, с которыми имеем дело. А без оправдания жизнь утрачивает смысл.
Оправдание вне требований морали всегда связано с принижением ценности жизни других людей, тем более – жизни не человеческой. Но жизнь одна, а человек является только соединением усилий всех царств бытия. Утвердиться за счёт другого в единой системе невозможно. Что случится в противном случае? То, что происходит в организме, когда в нём начинают утверждаться раковые клетки.
Необходимость ведения добродетельной жизни вызвана не надуманными причинами. Она насущна. Заповеди Божьи – это не внешние требования внешней Силы. Они отражают то, что написано на скрижалях сердца, как условие сохранения и проявления людьми своей божественной природы. Для придания нашему духу силы, обеспечивающей организацию внешней среды благоприятным для нас образом, требуется следовать принципам, истинность которых подтверждена всей историей человечества. Семейная, социальная, трудовая, политическая этика не есть изобретение человеческого разума, а является отражением изначального знания, присущего всем без исключения людям от рождения. Требования морали – отражение сакральной мудрости Жизни. К её источнику у каждого человека открыт доступ посредством чувства, отличающего нас от всех иных живых существ. Это религиозное чувство как ощущение того, что наше нынешнее состояние не то, в котором должен находиться человек, что смерть не является естественным завершением жизни, что есть иное, отличное от земного Царство, что есть Сила, стремясь к которой можно получить и другую силу, обеспечивающую достойное прохождение земного поприща.
Именно для восстановления в нас истинного человеческого достоинства, являющегося отражением присутствующего в нас образа Божьего, и призвана практика организации религиозной жизни. Ничего нового мы придумать не в состоянии для предотвращения искажения нашего бытия энергиями смерти и разрушения, кроме тысячелетней христианской традиции укрепления веры. Вспомним, как рождалась христианская вера – с призыва к покаянию, узнавания и отвержения в себе того, что оставляет нас в недолжном, несовершенном состоянии. Ничего с тех пор не изменилось, да и не могло измениться.
Каждый живущий человек призван исполнить часть своей работы по строительству дороги к Небесному Царству, но сделать это можно только при условии созидания в себе, из себя храма Божьего. Никакого иного пути, нежели не допустить порабощения себя страстями, нет для сохранения и укрепления личной жизни. Поэтому исполнение требования взращивания в себе добродетелей является лишь условием для недопущения превращения нашей жизни в смерть. Ибо побуждаемые страстями мы неизбежно совершаем преступления против жизни. Действуя по страстям, мы становимся инородным телом для жизни. И она начинает нас отторгать.
Как всякий добрый хозяин непрерывно следит за порядком в своих владениях и стремится вовремя предотвратить наступление нежелательных событий, так и каждый здравомыслящий человек должен обращать внимание на то, что происходит с его чувствами, желаниями и мыслями, чтобы не допустить проявления их в конкретных действиях, поступках, привычках, несущих прямую угрозу собственной жизни.
Дабы нас не поглотили страсти, против каждой из них необходимо принятие своих мер. Эти меры обеспечат развитие добродетелей, в основании которых лежит чувство ответственности, стремление проявлять происходящее в сердце, душе и разуме в свете Евангельских истин. Именно тогда перед нашими глазами, как перед глазами опытного садовника, будет открываться подлежащее изменению, первоочередному приложению сил.
Мы не просто должны выполнять вечернее правило, но в перечне грехов следует узнавать те, что совершили в течение дня. Это позволит укрепить силу намерения очиститься от грязи. Но прежде всего, это намерение ёще должно появиться. И оно появляется, когда мы начинаем осознавать необходимость воздержания.
Воздержание
В христианской традиции принято выделять восемь добродетелей, через каждую из которых проявляются силы, препятствующие захвату нас в рабство одной из страстей. О них рассуждали выше.
В жизни большинства из нас получается так, что по причине отсутствия хоть какого-нибудь систематического духовного образования, мы не обращаем особого внимания на происходящее во внутреннем круге нашей жизни, ибо всё внимание рассредоточивается среди множества внешних целей. Устремляясь к ним, выходим из себя, потому и не обращаем внимания на происходящее в сердце и душе. Главным в жизни становится реализация возможности получить желаемое. Вся наша жизнь становится только средством достижения поставленных во внешнем мире целей. Поэтому характер проявления наших чувств, желаний, мыслей складывается именно под воздействием того, что нам хочется достичь в земной жизни. Но все достижения в ней имеют для нас относительную ценность. Мы не можем долго находиться в одном состоянии. Всякий раз, когда поднимаемся к заветной вершине, достаточно быстро понимаем, что это – только ступенька к другой.
Человек, выйдя из внутреннего круга бытия во внешний, сам смысл своей жизни начинает видеть в овладении материальными благами. Потому он очень быстро переходит естественные границы удовлетворения своих потребностей. Но как только человек теряет чувство меры, он сразу же начинает утрачивать и смысл жизни, ибо ничего кроме усталости лишний груз не приносит. Куда бы ни стремились, если вовремя не сможем ограничить своих притязаний в мире, придём только к одному результату – потере самой жизни. И это вне зависимости от того, получаем ли желаемые ценности или нет. В первом случае мы только на время притупляем чувство жажды и жадности. Во втором – нас начинает съедать изнутри зависть к тем, кто достиг того, чего нам не удалось. Отсутствие чувства меры вполне сравнимо с отсутствием инстинкта самосохранения у животных. Это лишает нас способности к ответственному отношению к жизни.
Мы перестаём правильно оценивать свои действия, обращать внимание на знаки предупреждения. Ибо когда нашим поведением управляет какая-либо страсть, мы ничего не желаем, кроме как найти способ её удовлетворения. После этого худо будет в любом случае. Когда мы обуреваемы страстью, пока не сможем противопоставить силу, смиряющую страсть, власть над нами будет только укрепляться. Осознание необходимости воздержания и принуждения себя к нему – первые шаги к обретению свободы от греха.
Воля к жизни может быть проявлена и укреплена только гармонизацией души, тела и духа. Осуществляя это, сможем понять разумом и прочувствовать сердцем, что наши притязания должны быть умерены. Тогда требование воздержания будут восприниматься как естественное условие обретения свободы, а не как её ограничение. Что нам даёт стремление к умеренности? Осуществляя его, получаем реальную возможность ослабления страстей. Добродетель воздержания – та добродетель, которую можем укреплять во всякий час своей жизни. Стоит лишь проявить в свете совести свои намерения или дела, обязательно обнаружим, от чего следовало бы воздержаться себе же во благо.
Любовь к ближнему начинается с уничтожения в себе того, что может ввести его в искушение, например завистью или ненавистью; и даже того, что заставляет его переживать за наше здоровье, судьбу. Всякий раз, когда начинаем рассуждать здраво и принимать ответственность за совершаемые деяния, начинаем осознавать и необходимость воздержания.
Разве проявляем ответственность и здравомыслие, когда начинаем положительным образом отвечать на всякое требование чрева? Разве не является причиной большинства наших болезней, неприятностей, бед неугашенная привычка к перееданию и (или) пьянству? Что, кроме пользы, может принести стремление избавиться от пагубного стремления к излишествам? Именно практика воздержания приводит к тому, что у нас пробуждаются и укрепляются естественные силы духа, которые начинают оформлять добрым для нас образом и окружающие обстоятельства. Воздержание – удержание себя в границах естественных потребностей – требует непрерывных усилий воли, смиряющей дух.
Невероятно важной является обычная, обыденная жизнь, ибо она открывает множество возможностей для совершенствования. Пошлой жизнь становится только тогда, когда смысл её связываем с возможностью беспрепятственного удовлетворения своих желаний. Именно в повседневной практике усмирения духа происходит становление воли к жизни – как силы, способной отвратить нас не только от совершения поступков, наносящих вред здоровью, но, самое главное, очищать от тёмных энергий похоти чувства, намерения, мысли.
Воля, проявляемая нами для удержания в границах, переход которых может нанести ущерб нам и окружающим, требует непрерывного включения в работу как сердца, так и разума. Ведь умеренность и смиренность достижимы лишь в результате соединения усилий сердца и ума. И меру ответственности можно определить, только просчитав, прочувствовав последствия осуществления намерений. Воздержание – это не просто удержание себя от того, чтобы съесть лишний «кусок хлеба», выпить лишнюю «рюмку», а то, посредством чего укрепляется воля к совершенствованию, воля к достижению Небесного Царства.
(продолжение следует)
Валерий ХРАМОВ
. Воспоминания и размышления о Владимире Григорьевиче Апресове (продолжение)
С писателем, пианистом, доктором философских наук, профессором Валерием Борисовичем Храмовым беседу продолжает редактор философско-культурологической рубрики «София культуры» Геннадий Бакуменко.
– Здравствуйте, уважаемый Валерий Борисович! Вчера прочли с супругой Ваш рассказ «Записки концертмейстера». Она флейтистка, преподаватель игры на музыкальных инструментах и артистка оркестра по диплому – сейчас в отставке по причине невостребованности. Рассказ ей очень понравился. Вам удивительным образом в каждом произведении удаётся передать краски времени: оно читается в тексте словно музыкальная интонация. В чём секрет?
– Спасибо, Геннадий Владимирович, за анонс моей пробы юмористического жанра и высокую её оценку.
Субъективное время, время в котором живёт каждый человек, по моему мнению, то самое, которое в совокупности составляет культурное время, если хотите, время эпохи. Оно – основа художественного времени. По моему убеждению, вокруг художественного времени образуется эстетика любого текста, будь то научная работа или фантастическая сказка. Художественное время скрепляет текст в форму. А если единство времени в тексте нарушено, то, независимо от жанра и остального содержания, мысль автора уже будет читаться превратно, – и форма тогда образуется при помощи других средств: например, путём вмещения текста в твёрдый переплёт и крикливо размалёванную суперобложку, – тогда обложка говорит о времени больше, чем автор.
Подобных текстов, лишенных единства времени, формы и содержания, сейчас море. В этой пучине тонет, утопает словесность. Слово теряет по этой причине красоту и могущество, теряет ценность и привлекательность, уподобляется выхлопным газам, – основному составу воздуха мегаполисов. Этими выхлопами цивилизации, к сожалению, приходится дышать и детям, и старикам. Потому, «взявшись за перо», я ищу чистого воздуха – слово, которое люблю, которое переливается красками времени.
– Потому Вы и решились написать «Воспоминания и размышления о Владимире Григорьевиче»? Решили вдохнуть в его память «чистого воздуха»?
– Безусловно…
Хотелось вспомнить время его жизни таким, каким он сам его чувствовал. Без этой черты портрет «скорее был бы мертв, чем жив», а зачем плодить и без того огромную гвардию мертвецов?
Очень точно характеризует Владимира Григорьевича его отношение к понятию «Консерватория»…
2. Консерватория

Владимир Григорьевич был «человеком из Московской консерватории». Хотя учился в Баку – и долго. Как раньше говорили – «прошел полный курс обучения». Потом, уже после кратковременного пребывания в Москве, вернулся обратно – на родину, где проработал до конца войны на должности старшего преподавателя, что по тем временам было серьезным достижением. Затем еще работал, как уже отмечалось, «на серьезных должностях» в Казани, Владивостоке, Ростове на Дону, опять в Казани. В Москве проучился всего-то год. Но был как музыкант, как пианист – из Москвы, из Консерватории. Так себя чувствовал, так «идентифицировал». Когда что-либо рассказывал о себе, а было это всегда повествование с чуть педагогическим, чуть назидательным уклоном, в связи с делом, с работой, с конкретными исполнительскими задачами, то вспоминал Москву – Консерваторию. Учился у знаменитой пианистки Марии Юдиной, но правильно будет сказать – учился у Консерватории. Рассказывал не только о Юдиной. Говорил о многих профессорах – о Нейгаузе (о нем, конечно, вспоминал чаще, чем о других), о Гольденвейзере, Игумнове, Софроницком, Рихтере, Когане, Гилельсе, Гинзбурге… Как иногда казалось, он продолжал находиться там – в Московской консерватории.
Год, проведенный в Консерватории, был и важнейшим жизненным рубежом. Обычно рассказы его начинались с очерчивающей время фразы – «еще до консерватории» или «уже после консерватории». И всегда было ясно, что до и после – Московской. Все остальные было как бы и не в счет. Учеба с большой буквы была в Москве. Здесь она и закончилась – «на фортиссимо!». А потом началась самостоятельная жизнь: пианиста, педагога, администратора, точнее организатора дела музыкального образования.
Как-то раз, обсуждая итоги экзамена, в ответ на жалобы студентов на строгость комиссии (а на фортепианном факультете учились ребята, избалованные с детства высокими баллами по специальности) Владимир Григорьевич отметил:
– Зато я уверен, что пятерка у нас теперь соответствует пятерке в Московской консерватории: наш отличник за подобное выступление в Москве получил бы такой же высокий балл.
Чувствовалось, что он хочет поднять провинциальный уровень до высшего образца, какой он знал, – до Московской консерватории. Отличники «при нем» вдруг стали получать четверки. Студенты и молодые педагоги, обсуждая экзамен, демонстрировали разнообразие вариантов удивленных физиономий (а среди них было множество всякого рода ректорских-проректорских дочек и других «родственников и знакомых Кролика»).
«Ну как это?» – вопрошала одна из них, распахивая от возмущения и без того огромные греческие глаза.
А вот так теперь будет – как в Консерватории, всем своим видом показывал Апресов, не вдаваясь в подробные объяснения.
В тот год он был деканом факультета. Ректорат решил выставить нашу успеваемость на всеобщее обозрение – организовал большой стенд на всю стену на самом видном месте. Владимир Григорьевич поддержал начинание – хотел, чтобы успехи и неудачи (он был уверен, что последние, как правило, результат лени, а значит – можно исправиться!) стали предметом всеобщего обозрения и обсуждения. Так он пытался поднять престиж учебы. И было любопытно наблюдать, как сам декан, по нашим тогдашним представлениям – «шестидесятилетний старик», аккуратненько, приподнимаясь на цыпочках, вписывает циферки-баллы в клеточки на плакате напротив фамилий студентов. Пятерочки, конечно, красным цветом, а все остальное – уже не важно, уже не то, уже не уровень Консерватории. Двойки декан дипломатично не выставлял, работал с «отличившимися» индивидуально – без свидетелей. И все это выглядело симпатично и даже трогательно.
По привычке я попытался пошутить, дескать, нужно как в светофоре – пятерку ставить зеленым цветом!
– Ходишь тут, народ развлекаешь, лучше бы занимался, – декан, закончив «работу» и сердясь на меня, пошел по направлению к классу – играть.
Энтузиазма идея ректората не вызвала. Дело не прижилось. Не поддержали. Владимир Григорьевич не комментировал.
Сегодня, по прошествии многих лет, понимаю – правильно делал. Зачем заниматься отвлекающими от искусства разговорами? В консерватории нужно заниматься музыкой, думать о музыке, жить музыкой. Все остальное – не так важно. Но он свою политику продолжал – старался, чтобы уровень профессионального мастерства студентов в Ростове был таким, как в Москве, как в Консерватории.
А как там было? Как было в счастливые времена его молодости?
На очередном «праздничном чаепитии» он рассказывал (у него даже внеурочные разговоры со студентами были почти всегда посвящены профессиональным темам):
– Я приехал в Москву учиться после удачного выступления на всесоюзном конкурсе. В Москву на конкурс нас троих – студентов фортепианного факультета – привез мой профессор Шароев, у которого были в столичных музыкальных кругах знакомые. Шароев был учеником Есиповой, учился в Петербурге. Многие его однокашники: Юдина, Софроницкий, – ко времени проведения конкурса перебрались в Москву. Кое-кто остался в Ленинграде, а питерцы тоже имели серьезное влияние в конкурсном жюри. Среди нас троих один парень у Шароева числился в фаворитах. Он должен был выйти в финал. Мои перспективы профессор оценивал весьма скромно: «Тебе бы не опозориться, москвичам хорошо показаться, а на большее не рассчитывай!». Я принял слова профессора всерьез и к финальному туру не готовился. А надо было бы. После выступления, когда я весело проводил время в компании товарищей, вдруг в нашу комнату без стука вбежал Шароев (а он уже давно не бегал!). «Володя! Ты сможешь завтра сыграть концерт Листа?» – спросил с порога. Я ответил – нет, потому что не повторял его несколько месяцев. Профессор разочарованно ушел. Оказалось, что его фаворит не прошел в финал. Жюри предпочло меня. Ну а мне пришлось отказаться, сославшись на болезнь! Так я и остался с «почетным дипломом» участника финала – и не более того.
Его учитель Георгий Георгиевич Шароев (1890–1969) был действительно интересной и весьма влиятельной фигурой в музыкальных кругах того времени. О нем говорили как о «внебрачном внуке» Антона Григорьевича Рубинштейна. Владимир Григорьевич никогда не упоминал этот факт (для него подобные вещи – запретная тема!), но вся музыкальная элита довоенных лет к Шароеву, конечно, относилась с большим почтением (еще бы!). Как пианист, Шароев «происходил» от Анны Николаевны Есиповой, у которой учился в Петербурге.
Владимир Григорьевич относился к пианистической родословной с повышенным вниманием. На уроках по истории фортепианного искусства просил учеников нарисовать что-то вроде генеалогического древа художественной преемственности. Нужно было выяснить, у кого учился ваш учитель, а потом определить – кто учитель учителя и т. д. (у каждого из нас выходил, скорее, бамбук, чем дерево, правда, потом, после суммирования, все же получилось нечто кустистое). Мы пришли к совместному выводу, что основателем пианистического рода в нашей стране был Моцарт. На нем останавливались, ибо гениальный Вольганг Амадей Теофил Готлиб Вениамин учился у своего отца, а тот был… скрипачом!
Занятно, что пианистическое племя у нас произошло от скрипача, но при этом – не от еврея!
Когда я озвучил сие наблюдение, профессор не смог скрыть улыбку, но не одобрил. Правда, его студенты последующих курсов чуть изменили родословную – останавливались на Бетховене!
– Потом я закончил консерваторию в Баку, – продолжил Владимир Григорьевич свой рассказ, – и решил учиться в Москве, – конечно, «только у Нейгауза». С ним была предварительная договоренность, но возникли непредвиденные трудности. Я опоздал с приездом, и его класс был уже сформирован, а «лишних» учеников брать было категорически запрещено (нагрузка утверждена!). Я посоветовался с Шароевым. Тот предложил обратиться к Юдиной – они учились вместе у Есиповой. Но я рискнул и еще раз пошел с просьбой к Нейгаузу.
Сцену разговора с последним он рассказывал с увлечением, что называется, – «в ролях»:
– Генрих Густавович, – начал я заготовленную речь, дождавшись его в коридоре, – хочу вернуться к нашему разговору и попросить вас еще раз: возьмите меня к себе в ученики. Я сделаю все, чтобы вы об этом никогда не пожалели.
Нейгауз посмотрел на меня снизу вверх (думаю, смотрел Г. Г. все-таки чуть насмешливо, хоть и действительно – снизу вверх, из-за маленького своего росточка. – В.Х.) и с сочувствием ответил:
– Поверьте, дорогой мой, я еще раз поговорил с директором по вашему вопросу, но он отказал. К сожалению, ничего сделать нельзя. Можете посещать мои занятия. Двери класса для Вас всегда открыты.
– Спасибо Генрих Густавович, но как мне быть, в чей класс поступать?
– А знаете, напишите-ка заявление в класс моего ученика Яши Зака. Он возьмет.
– Я приехал в Москву не для того, чтобы учиться у Зака!
Было видно, что он не без удовольствия вспоминает свой ответ, и охотно продолжил рассказ. Но мне стало жутко смешно – заметил вдруг, что имя «Зак» состоит из трех букв. Озвучить наблюдение не решился, лишь засмеялся – громче, чем нужно было. Профессор строго посмотрел на меня с немым вопросом, но я быстро нашелся и спросил: «Как Нейгауз к вам относился потом?» (Впрочем, фраза «Нейгауз послал меня… к Заку» до сих пор веселит).
– После этого Нейгауз со мной не здоровался, вообще демонстративно не замечал. Но я ходил на каждое его занятие. Лишь в конце года он чуть смягчился.
Итак, после очередной неудачи с Нейгаузом Владимир Григорьевич внял совету Шароева и обратился к Юдиной. Там тоже что-то не выходило с нагрузкой. Но Мария Вениаминовна проблему решила – пошла к начальству и с обычной для нее «непоколебимой убежденностью в собственной правоте» заявила: