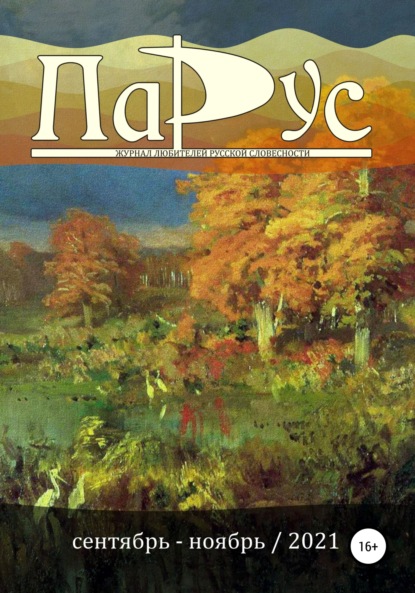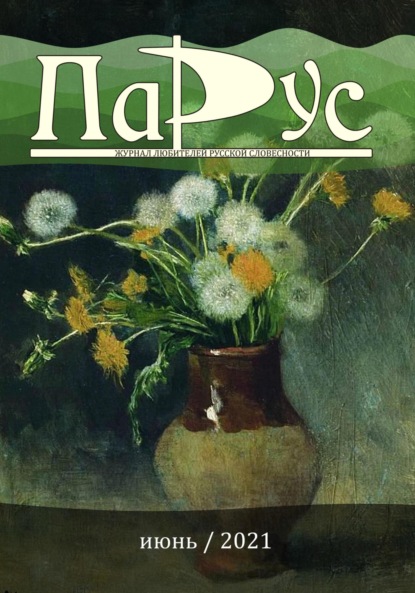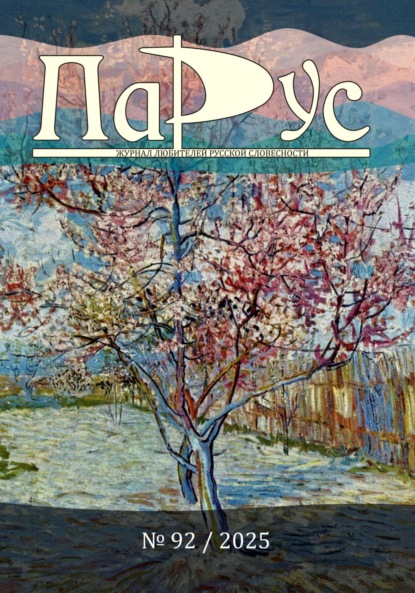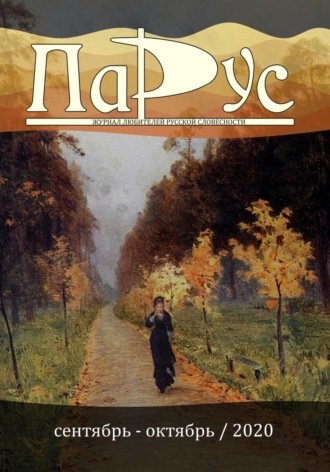
Полная версия
Журнал «Парус» №84, 2020 г.
– Я беру Владимира Апресова в класс, а если у вас опять «трудности», то готова заниматься с ним на общественных началах – без оплаты.
С Юдиной в то время старались не связываться (ведь «с товарищем Сталиным переписывается!»), и все быстро уладилось – студент Апресов приступил к занятиям, сразу на последнем курсе.
Как-то во время обсуждения болезненной проблемы смены педагога одной из учениц консерватории я спросил: «А как Юдина отнеслась к вашим посещениям уроков Нейгауза?». Владимир Григорьевич ответил не сразу, чуть покашлял, встал, подошел к роялю, потом вернулся на свое обычное место у окна, достал сигарету:
– А ты знаешь, совершенно спокойно, как-то и не заметила.
Его ответ удивил. Юдина очень ревниво и «соревновательно» относилась к творчеству других пианистов, в том числе коллег-профессоров. Это известно. А тут вдруг – «не обратила внимания», может быть, только сделала вид? Ну, тогда я не завидую студентам Нейгауза. На экзамене, во время обсуждения, им от нее, наверное, крепко доставалось. Но повторюсь – это для меня вопрос нерешенный, это – предположение. Я уверен, что сам Владимир Григорьевич, находясь на месте Юдиной, посещение своим учеником уроков другого преподавателя одобрил бы – из принципиальных соображений.
Он полагал, что студент может (конечно, в пределах разумного) менять педагога. В отличие от самого педагога, который не вправе отказывать в занятиях студенту только потому, что тот якобы не понравился. Педагог должен попытаться помочь. Вот если не получается – тогда другое дело, тогда нужно расстаться, конечно. Возможно, данная принципиальная позиция (по существу – правильная) сформировалась у него еще во время учебы в Консерватории, ибо он, когда выдался случай обсудить данный вопрос, не без строгости, как о деле давно для себя решенном, говорил:
– Препятствовать переходу в класс другого педагога нельзя. От Нейгауза ученики уходили и даже от Юдиной, а она занималась с учениками, не жалея сил, не считаясь со временем!
Думаю, именно в Москве личность его оформилась, приобрела четкие индивидуальные и поэтому запоминаемые очертания. Я поговорил со многими из тех, кто знал Апресова в разные периоды его жизни. Поразительно, и тот, кто был знаком с ним в сороковые годы, и тот, кто учился в пятидесятые-шестидесятые-семидесятые-восьмидесятые – говорили «одно и то же», что я и сам наблюдал и запомнил.
Конечно, в Москву он приехал вполне взрослым человеком, образованным музыкантом. Но здесь, в Консерватории, произошло то, что называется окончательной огранкой.
У Жан-Жака Руссо есть замечательная концепция становления личности. Люди в обществе «трутся друг о друга», подобно двигающимся атомам Эпикура. И в процессе этого постоянного движения-трения способности, индивидуальные свойства неизменной в своей сущности личности начинают ярче сиять. Приходит в голову пример – в общественной жизни происходит превращение тусклого алмаза в сияющий бриллиант. Это – чуть поэзия, но одновременно и признание ценности социальной среды в ее отношении к личности. И если продолжить аналогию Руссо, то легко заметить – социальная среда заставляет сиять именно те грани индивидуальности, которые для нее нужны, которые ей соответствуют.
В этом смысле Московская консерватория была в то время оптимальной для совершенствования пианиста социальной средой. В ней тогда работали музыканты, получившие образование еще до революции, люди высочайшей культуры – и общей и музыкальной: Гольденвейзер, Игумнов, Нейгауз, Софроницкий, Юдина… В ней жила история, были имена, сделавшие славу русской музыки: Чайковский, Скрябин, Рахманинов – это только композиторы «первого ряда», а ведь был еще и второй, и третий. А Николай Мясковский – отставной офицер царской армии, сын генерала, ученик Римского-Корсакова, крупнейший симфонист ХХ века – пунктуально открывал свой класс и учил композиции представителей нового поколения музыкантов-комсомольцев. Самые яркие педагоги-музыканты, самые яркие молодые пианисты составляли окружение, «многоканальный» источник влияния. И еще немаловажно добавить – концертная жизнь Москвы была в то время замечательно интересной.
Казалось бы, в Баку было все для дальнейшего роста: консерватория, профессор – тоже, как и Юдина, выпускник Петербургской консерватории, ученик Есиповой. Да еще прибавить надо «многокультурную» среду города: здесь были не только представители народов Кавказа, иностранцы – англичане, французы, немцы – давно обосновались в Баку и жили в национальных общинах, сохраняя свои традиции. А кроме того, после революции многие люди культуры Серебряного века приехали из столиц на Юг, в частности в Баку, где остановились – кто ненадолго, а кто и «корни пустил».
Еще один бакинский плюс – устроенный быт, культурная семья, любящие родители. В Москве он этого был лишен. Быт пришлось организовывать самому, а на это уходило время, которое можно было бы лучше использовать – для творчества. Но ему важно было поменять место пребывания, культурную среду. В Баку он сформировался и приспособился, «занял свое место». А вот Московская консерватория возобновила «полирующий процесс», в высшей степени плодотворный для становления личности музыканта. Думаю, в то время многие советовали ему поехать в Москву – «поучиться!». Образованные люди тех лет знали, что для творчества смена обстановки в юности-молодости необходима. Знали не только из книг – на собственном опыте проверили.
В Москве его, как и других приезжих, поселили в общежитие. В то время общежитие не воспринималось жителями столицы негативно, ибо в основном все жили в «коммуналках». Общежитие – «коммуналка» для молодежи. Условия были, конечно, несравнимы с теми, которые существуют сейчас, но по тем временам вполне сносные. К новому быту нужно было приспособиться. И он справился, хотя и не без приключений, о которых любил рассказывать ученикам «по праздникам».
Сначала его определили в комнату «духовенства», т. е. – студентов, играющих на духовых инструментах. Духовики в учебных заведениях образуют особое братство. Обычно на «отделении духовых инструментов» учатся весьма крепкие парни, прошедшие службу в армии и не утратившие привычек армейской жизни – свой жаргон, юмор, «мифологию». Ребята были по общему правилу «малокультурными», над ними посмеивались. Но они в ответ посмеивались над всеми – с высоты особого положения своего «братства». И вот пианист, «очкарик», сын врача, стал жить с ними в одной комнате. Они его приняли дружелюбно, но как гостя, который должен приспособиться к быту хозяев, что было нетрудно, за исключением одного пункта. Владимир Григорьевич уже в Баку выработал «жесткий режим» занятий. Он полагал, что утренние упражнения являются обязательным элементом жизни пианиста. Как он пояснял:
– Даже неленивый и талантливый человек может быть плохим профессионалом. О ленивцах я не говорю – они для учебы, для искусства потеряны. В молодости зря тратят время, а потом исправить ничего нельзя, поздно! Все усилия педагогов напрасны – будут мучиться и те, и другие.
Владимир Григорьевич с усмешкой осведомленного человека посмотрел на меня и продолжил:
– Твои приятели – из их числа. Но я отвлекся. В жизни человека много неотложных дел. Существует соблазн – сделать их, а уже потом, с «чистой совестью» и не обремененным другими заботами, приступить к главному делу, к занятиям на инструменте. А вот не получается! Всех домашних дел не переделать никогда! А когда что-то все-таки удается сделать, «валишься с ног от усталости». И занятия откладываются на завтра, а завтра будут другие неотложные дела. Поэтому музыкант занятиям должен посвятить именно утренние часы. А после можно делать все остальное.
Так он и поступал. И не стал менять свой распорядок в Москве, в общежитии. Но и у «духовенства» утренние часы – время обязательных занятий. Им, как и вокалистам, утром нужно «раздуться», привести в порядок «аппарат». Занятия у них носят характер ритуала. Немного поиграв, они устраивают перекур, «кракают» о всяких глупостях, потом еще немного поиграют. Потом полежат, подремлют… В. Г. вставал рано и в семь часов, когда уже было разрешено, приступал к своим обычным занятиям – в течение двух часов играл на пианино, которое стояло в комнате, прорабатывал трудные (виртуозные) фрагменты репертуара. «Духовенство» к его упражнению поначалу отнеслось спокойно: «Наши инструменты громче – забьем клавишника». Они наивно надеялись быстро поставить «очкарика» на место. Но просчитались.
– Ребята не учли, что могут играть громко, но недолго – аппарат не позволяет. А пианист может играть хоть целый день!
Понятно, через пятнадцать минут звуки труб-тромбонов затихли, и духовенство должно было покорно слушать вступительные октавы «Первого концерта» Листа. Битва инструментов закончилась в пользу рояля. Выполнив утреннюю норму, пианист приступил к другим делам (уроки!) и покинул поле сражения победителем – «с гордо поднятой головой». Но он рано торжествовал. Духовики, поняв, что переиграть пианиста невозможно, воспользовались своими связями в комитете комсомола (оркестранты, как я давно заметил, вообще проявляют повышенную общественную активность – и с чего бы?) и добились своего: перевели «долгоиграющего пианиста» в другую комнату. Он не обиделся, не «затаил зла». Более того, будучи администратором, проявлял особую заботу о «духовиках», говорил: «Эти ребята с непростой судьбой, часто сироты, им нужно помогать».
Обижаться действительно было не на что, ибо на сей раз ему повезло. Его соседом по комнате стал мой земляк краснодарец Юрий Васильевич Силантьев (да-да, тот самый знаменитый дирижер эстрадно-симфонического оркестра!). В то время он был скрипачом – и очень талантливым. Рассказ Владимира Григорьевича подтвердил то, что я неоднократно слышал в Краснодаре. Юрий Силантьев был, как говорят, «скрипачом от Бога»:
– Юра не занимался вовсе. Выучивал произведение «глазами», лишь раз посмотрев, запоминал, что называется, на лету, на слух. И на сцене он держался уверенно – совершенно не волновался, играл темпераментно, артистично. На моей памяти он занимался только один раз – учил двойные ноты, что в концерте Аренского. Но даже это делал как-то «на бегу», покуривая на лестнице, болтая с товарищами. Поэтому «конкуренцию» мне не составлял, и проблем с утренними занятиями не было.
– А чем Силантьев занимался весь день? – я не смог удержаться от этого вопроса.
– О, тут было много интересного, но история долгая! – Владимир Григорьевич хотел прекратить разговор, но публика стала канючить – «расскажите, расскажите», – и он согласился, но только на один эпизод.
– Однажды утром, когда я уже приступил к занятиям, появился Юра. Вид у него после бессонной ночи был неважный. Он был чем-то расстроен. Всегда весел, смешлив – а тут в глазах печаль. Я удивился и забеспокоился – может быть, заболел?
– Хуже, – с досадой, морщась проскрипел Юра, – руку переиграл, а мне сегодня к Ямпольскому идти на урок – он меня точно убьет!
Я забеспокоился – для музыканта «переиграть руку» это серьезная беда. Один раз случится, а потом всю жизнь приходится мучиться. Но как-то не верилось, что Юра всю ночь занимался, поэтому переспросил его, уточняя.
– Нет, это я всю ночь в карты резался, потянул мышцу, то ли бицепс, то ли трицепс, – успокоил Юра, грустно улыбнувшись!
Про занятия у Марии Вениаминовны Юдиной Владимир Григорьевич рассказывал мало. Лишь как-то упомянул, что она наметила ему программу на первое полугодие и потребовала, чтобы на первом же уроке он играл ее наизусть, а урок был через несколько дней. Владимир Григорьевич к этому не привык – Шароев был либеральным педагогом. Попытался было возразить, сославшись на «плохую память». Но Юдина показала характер:
– Другие почему-то справляются, – удивленно заметила Мария Вениаминовна и закончила разговор.
Владимир Григорьевич признался, что хотел все бросить и уехать в Баку. Но потом решил попробовать, занимался день и ночь и все-таки запомнил текст (несмотря на плохую память!). История, добавлю от себя, безусловно интересная, но обычная для консерватории.
Нельзя говорить, что уроки Юдиной не произвели на него должного впечатления. Он ценил каждое произнесенное ею слово. Как я узнал впоследствии, владея ремеслом переплетчика, привел в порядок и сохранил ноты, в которых его профессор делала отметки. Ему предложили их издать как своеобразные «автографы Юдиной». Но он отказался:
– Ее замечания ничего не скажут музыканту – они короткие, сопровождались «показом» на инструменте. Без показа – непонятны. Вот, например, пишет – «Сок от плеча!!!». Что это значит? Можно только гадать. Я ноты передал Спиридоновой (ныне профессору Казанской консерватории – В.Х.). Пусть думает, что с ними делать.
Как я теперь понимаю, Владимир Григорьевич относился к науке как к чему-то служебному. Для него главным было искусство. И науку об искусстве он одобрял лишь в том смысле, что она помогает музыканту лучше понять и сыграть произведение, то есть выявить поэтический смысл, дать практический совет по преодолению интерпретационных и технических трудностей. Сегодня я чуть-чуть искусствовед и, признаться, с интересом «поизучал» бы эти «автографы». Возможно, и написал бы что-нибудь. Но вряд ли из ряда тех вещей, которые помогут музыканту «лучше понять и сыграть». Написал бы – «для науки».
– Как Вы закончили учебу? Ведь была, наверное, возможность остаться на каких-то курсах «высшего мастерства».
– Очень важно, завершая консерваторию, сыграть программу на пределе возможностей, чтобы потом всю жизнь сравнивать и стараться превзойти. Поэтому «расти» можно и после консерватории. Заканчивая учебу у Юдиной, я играл лучше, чем раньше. Ты прав, мне даже предложили остаться. Но я отказался, решил прекратить период ученичества. Понял, что достиг потолка как ученик. Хотелось самостоятельности. Были кое-какие педагогические идеи и желание попробовать их на практике. Поэтому вернулся в Баку. Тут предоставили такую возможность.
Думаю, все же, Владимир Григорьевич чуть лукавил. Эта лишь одна причина, озвученная для назидания, для педагогических целей. Наверное, в Баку его «звала» не только интересная самостоятельная работа. Здесь ждала «любимая ученица» Тамара, уже ставшая его женой – Тамарой Ханафиевной Апресовой, и уже родилась маленькая дочь Наташа. Впрочем, это все – «наверное», точно не знаю. А было ему всего лишь двадцать четыре года, как мне в момент разговора.
В Баку всё, поначалу, пошло так, как он задумал: работа в консерватории, счастливая семейная жизнь, творчество, карьерный рост, налаженный быт. Пришел первый значительный педагогический успех – выпускной экзамен его студентов, на котором присутствовал А. Б. Гольденвейзер. Он одобрил, поддержал. Пользуясь своим особым положением в музыкальном мире, поспособствовал продвижению – молодой преподаватель консерватории В. Г. Апресов получил звание доцента. Но как только появилась возможность, Владимир Григорьевич покинул Баку и переехал в Казань, куда его вместе с женой пригласил на работу в открывающуюся консерваторию Н. Г. Жиганов.
Почему так случилось? Вопрос не из трудных: произошла «обыкновенная история». Из Москвы он вернулся в Баку другим человеком, другим музыкантом. Там, в столице, раскрылись его лучшие качества, изменились художественные представления, идеалы. А в Баку его ждали таким, каким он уезжал: хорошим учеником, одаренным музыкантом, виртуозом. К его «прежнему облику» все привыкли: от него ожидали той же игры, тех же поступков в сходных с прежними ситуациях. А он стал другим. Естественно, должны были появиться трения, непонимание, обиды – он не мог не обижать, поскольку изменился. Тем более его поддержали – из Москвы поспособствовали служебному росту… В общем, нужно было уезжать на новое место, где его примут таким, каким он стал в Консерватории.
(продолжение следует)
Валерий ХРАМОВ. Записки концертмейстера
Юмористический рассказ
Музыка обворожительно прекрасная вещь. И заниматься ею – наслаждение. Но нет профессии хуже, чем профессия «концертмейстер»! Это я понял давно, когда только-только начал учиться ремеслу пианиста-аккомпаниатора. И когда понял, решил: все что угодно, но только не это, только не концертмейстер! Жизнь решила иначе. У нас правильно говорят: не зарекайся – ни от сумы, ни от тюрьмы, но почему-то забывают добавить – и от концертмейстерских обязанностей тоже!
Suggestion diabolique1
Так получилось, что организаторы образования решили, что концертмейстерскому делу пианиста нужно обязательно учить – и очень долго. Уже в музыкальной школе начинается эта канитель. Хотя сами педагоги не знают, что им делать на уроках. Но «учат», часики пишут в журнал, денежки получают, выдумывают приемы, правила, педагогические принципы. А всего делов-то: солист мелодию играет, ты – концертмейстер – аккомпанемент, значит, он главный. Играй тише, не заглушай – и все. И чему же тут учить, собственно? Но всегда появляется кто-то, кто с серьезным видом всех заморочит, уговорит заниматься ерундой, соблазнит деньгами, карьерой. И тратят люди жизнь неизвестно на что – и все в конце концов привыкают, и создается традиция, и сделать уже ничего нельзя! В результате «великой» мудрости – играй тише, чем солист – учат год в музыкальной школе, три года в музыкальном училище, четыре года в консерватории. Нелепость – всего четыре слова и целых восемь лет. Почему, как эта практика смогла в жизни утвердиться? Непонятно. Говорят – «концертмейстерская работа специфична, способствует профессиональному росту пианиста». О том, как все происходит на самом деле, я узнал на своем опыте, о чем расскажу в «записках», впрочем, не надеясь на их публикацию.
Нужно признать, что концертмейстер самая востребованная из всех музыкальных специальностей. Без пианиста-аккомпаниатора музыкальное искусство существовать не может. Все поющие-играющие артисты нуждаются в аккомпаниаторе. Ведь они только мелодию играть способны, а мелодии поддержка нужна, аккомпанемент – как фундамент зданию, как постамент скульптуре. Поэтому без концертмейстера солисты не могут. Без него им только в «яму оркестровую» садись, что в театре – удел завидный?
А еще концертмейстер для подготовки оперных спектаклей нужен, и для учебы, и в хореографии, и в театре, даже спортсменам-гимнастам необходим. Востребованная, однако, специальность, а потому и денежная.
Но в моем «грехопадении» в концертмейстеры решающим фактором стали не деньги, хотя их тоже платили. Со мною все было иначе, похитрее: тут точно не обошлось без того, имя которого я называть не буду, на всякий случай. И приключилось это во время учебы на втором курсе консерватории, когда прошел я до половины установленный срок овладения профессией (по мысли организаторов образования, освоив первые два названных выше слова) и взошел на высшую ступень постижения тайн концертмейстерского мастерства.
Была средина октября. Ночные заморозки, уничтожив остатки неубранного урожая овощей, подвели черту под сельхозработами, и студентов вернули в аудитории – учиться. К чему мы и приступили, не торопясь.
Концертмейстерскому искусству учат на индивидуальных занятиях. Нужно было прийти к педагогу и определиться со временем, программой и отчетностью.
Мой педагог носила фамилию Цукер, но ничего «сладкого» в ней не было – с виду. Была она заведующей кафедрой – в годах, в старушечьих очках, в неухоженности совсем даже не богемной.
Прихожу я к ней на первый урок. Сразу задачу ставит:
– Вы, – говорит, – уже концертмейстер дипломированный, училище закончили. Сейчас для вас главное по предмету репертуар накопить.
Вот тут наваждение-то и началось.
– Можете на работу устроиться концертмейстером, – продолжает, улыбаясь хитренько, – на полставки. Это лучше всего будет: и репертуар накопите, и опыт бесценный приобретете, и зачет получите, и денежка появится – небольшая, но ведь не лишняя же.
– Хорошо, а как занят буду? – отвечаю, осторожничая, хотя внутренне уже согласился.
– Да всего-то два раза в неделю по пять часов академических.
Это три часа сорок пять минут, быстро сообразил, обрадовавшись, но не насторожился – чего это такая выгодная подработка не востребована? – а надо было! И дал согласие.
Стали заявление писать тут же. Она диктует, а я пишу.
И пошли мы с нею к проректору заявление подписывать. Тут наваждение продолжилось, лик поменяв.
Вхожу впервые в начальственный кабинет. Сидит, улыбается проректор, а глаза у него большие, восточные, с поволокою.
– Что скажешь хорошего? – любезно вопрошает вместо приветствия.
– Да вот, – отвечаю, – заявление принес, на работу устраиваюсь.
В растерянности стою перед столом начальника, думаю, начнет сомневаться, а он, улыбаясь, заявление взял, глазищами своими чуть косенькими пробежался по листку сверху вниз. А заведующая вдруг сахарным голоском поясняет:
– Потребность возникла производственная. Там, у духовиков, одни юноши, и нужно им концертмейстера соответствующего подобрать, а то ведь совместная игра с девушками чревата, – хи-хи.
– Пусть работает! – говорит начальник, и заявление подписывает – «в приказ».
Итак, бумага подписана, сделка состоялась, а я и не понял поначалу – с кем ее заключил-то. И пошел работать, согласно расписанию по вторникам и пятницам.
Направили меня в класс к гобоистам.
Думал, что все будет как обычно, как на индивидуальных занятиях «по специальности»: преподаватель с учеником работает – учит, показывает, а концертмейстер лишь подыгрывает, когда надо. Но плохо знал я специфику своей новой работы, – все было совсем не так.
Их, гобоистов, было пятеро. На урок они приходили почему-то все вместе и оставались все вместе до конца, пять часов то есть. И начинались разговоры: про качество «тростей» (это то, что они в рот суют, играя), про то, что кто-то о ком-то сказал что-то из того, что говорить, совсем уж не следовало. Все это «вываливалось» беспорядочно педагогу, ему в укор ставилось, а он – то отбивался, то встречными упреками подливал масло в огонь скандала.
Через пятнадцать минут я понял, что все происходящее не случайно, что коллективный треп не закончится в ближайшие часы. Захотелось убежать, укрыться где-то и не появляться больше в этом кошмаре.
Но – работа. Нужно сидеть.
Стал, пока они «кракают», разучивать свою партию из их репертуара.
Они на секунду остановились – с удивлением. Но скоро с новыми силами, добавив децибелы, стали выяснять отношения.
Все было пошло, глупо, неинтересно. Даже рассказать нечего.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Наваждение, дословно с фр. – дьявольское внушение (прим. авт.).