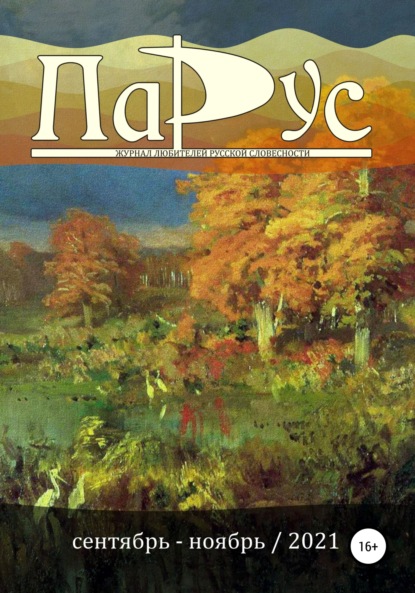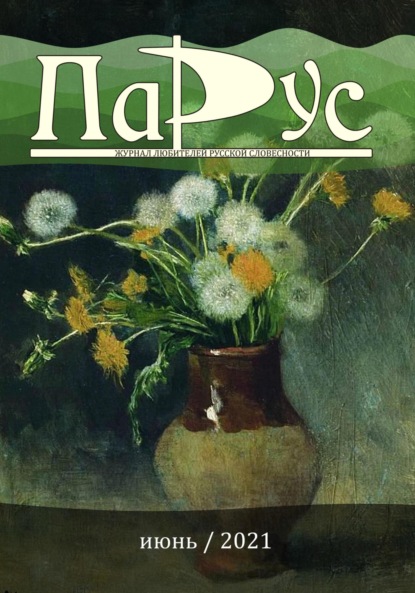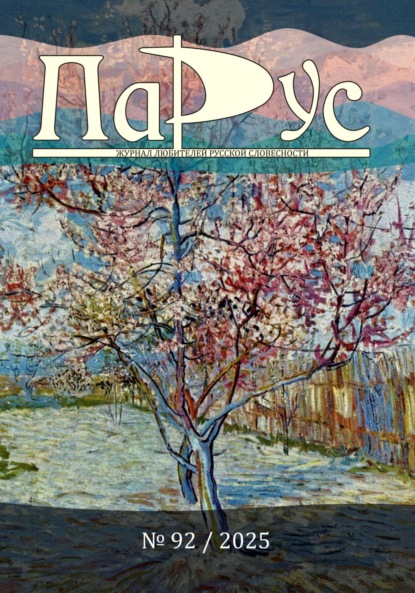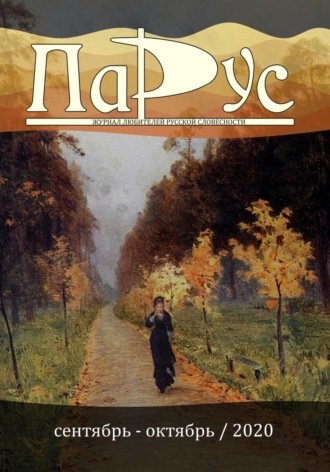
Полная версия
Журнал «Парус» №84, 2020 г.
Обо всем этом я думал, одновременно слушая женщину и радостно кивая в ответ на ее слова. Да-да, я припоминаю, мы ехали вместе с вами… а как точно называется тот район города, где расположен этот магазин трафаретов? Шозкупаринский? Может быть, Шос-Купаринский? Ну да ладно, не суть важно, все равно ведь при произнесении этого названия каждый местный человек сразу поймет, о чем идет речь.
Правда, я не полагался на свою память. Положим, сейчас я хорошо помню это название – Шозкупаринский, но кто знает, какие события ждут меня впереди. А вдруг меня завертит-закрутит жизнь – и это название вылетит из моей головы? Тогда пиши пропало. Больше никакой благожелатель мне может и не встретиться в этой Костроме. Но какое счастье, что я все-таки увидел эту женщину, какое счастье, что она меня вспомнила, что рассказала мне обо всем…
Сердечно поблагодарив свою спасительницу, я ринулся вперед. Теперь мне всё удавалось, всё у меня получалось. Я мгновенно нашел и сам вокзал, и вокзальные кассы – они, оказывается, выходили своими окошечками прямо на улицу. Взбежав по ступенькам, я мгновенно увидел не только окошечко, за которым виднелась голова кассира, но и – совсем рядом! – то жалкое подобие камеры хранения, которое устроило здесь начальство вокзала. Это были десятка полтора деревянных ящичков, каждый из которых можно было сломать одним ударом ноги. Конечно, какой же дурак будет оставлять в таких ящичках свои вещи – ведь всего лишь в десятке минут езды отсюда, в магазине трафаретов, есть современные, металлические, запирающиеся на ключ просторные ящики, в каждый из которых можно положить на хранение уйму вещей!
Всё верно!.. всё складывается!.. теперь осталось только понять, как же мне добраться до улицы Шпалерной.
Я всё время твердил, держал в голове название района – Шозкупаринский. Что-то тревожило меня в этом названии, оно было каким-то не костромским – скорее, было дагестанским, – но черт ее знает, эту Кострому. Ведь я довольно давно уже тут не бывал. Всё могло тут перемениться за прошедшее время, районам могли дать новые названия… и почему бы не появиться в Костроме и Шозкупаринскому району?
Я вышел из вокзала на улицу и пошел по местам, уже довольно знакомым мне. Вот и толстая тетка с газетой. Я спросил толстуху, нет ли у нее авторучки, – авторучки не было. Значит, записать название района на клочке бумаги мне не удастся, придется держать это название, Шозкупаринский район, в голове. Но как же все-таки отсюда уехать на Шпалерную?
Тетка что-то пробормотала о такси, которое, в принципе, можно сюда вызвать. Правда, никто не знает, как скоро такси сюда приедет, и даже с набором цифр на мобильном телефоне могут быть какие-то сложности. Просто так, наудачу, вызвать сюда такси путем набора нескольких цифр подряд, – например, шести двоек, или шести пятерок, – не получится: все-таки это Кострома, и тут свои правила. Здешнее такси надо набирать только по определенному номеру, но она, тетка, не помнит, как надо это делать, какие именно цифры следует набирать.
Опять проблемы! Я чертыхнулся, но, обнадеженный недавним своим успехом, решил, что такси – вовсе не единственный способ покинуть этот вокзал. Ведь я знаю, что меня ждут Шозкупаринский район, улица Шпалерная, магазин трафаретов. Это – главное. Я знаю место, куда мне надо добраться! А раз я знаю место, то меня довезет, – за деньги, а как же иначе, – и любая другая машина, не обязательно такси.
Я вернулся назад, обогнул здание вокзала – и мгновенно увидел широкое шоссе, которое уходило вдаль. По обочинам шоссе тянулись овраги, росли редкие деревья: здесь не наблюдалось никаких признаков городской цивилизации. Лишь вдали, в конце шоссе, виднелись, кажется, какие-то домики… вполне вероятно, именно там и находится тот самый Шозкупаринский район. Но если даже и не там, все-таки по этой широкой дороге должны ездить машины – и какая-то из них наверняка подберет меня. Надо голосовать!
Я вышел к шоссе и встал на обочине. Два длинных лесовоза с грузом бревен быстро промчались мимо меня. Я даже не попытался остановить их. Зачем?.. эти машины торопятся доставить свой груз куда-то очень далеко и не станут останавливаться, чтобы подобрать случайного попутчика. Мне нужна была легковушка.
Но ее всё не было и не было. Обеденное время давно прошло, день неумолимо клонился к вечеру, а я никак не мог наладить свой верный путь вперед. Всё это меня тяготило, а унылый пейзаж навевал тоску… как же быть?.. сколько времени еще я буду стоять на этой пустынной дороге?
Сердце подсказывало мне, что ситуация, на самом-то деле, гораздо хуже, чем это представлялось ранее. Что это за дорога, куда она ведет? Существует ли в самом деле Шозкупаринский район, есть ли в этом районе улица Шпалерная? Не выдумала ли толстая тетка – или я сам, моя голова? – всё это, в том числе и магазин трафаретов? Я ведь известный выдумщик – и мог себе просто нафантазировать всё это…
Что делать?.. как быть?
Я всматривался до рези в глазах вдаль, в то место, где широкое шоссе, став совсем узким, куда-то поворачивало. Есть ли там те самые домики – или мне это только показалось сначала?
Я вздохнул и пошел по шоссе вперед.
Отчаяние всё больше овладевало мною, пронизывая всё мое существо. Что со мной происходит?.. уж не сплю ли я – и не вижу ли какой-то кошмар?
Нет, не сплю. Всё реально – и темнеющее небо над моей головой, и пыльные обочины шоссе, и сама эта пустынная серая лента асфальта, уходящая вдаль. Ничего больше нет – только это шоссе да я на нем.
Правда, если приглядеться как следует, далеко впереди можно было заметить группу каких-то людей, идущих, как и я, по шоссе, но давно уже обогнавших меня на этом пути. Эти люди, одетые в серую одежду, были еле видны на фоне серого асфальта, поэтому-то я сначала их и не разглядел. Но эти люди там были. Если я добегу до них, – подумал я, – то смогу, наверное, гораздо больше узнать об этом странноватом месте, о цели нашего общего пути, вообще о причине нашего появления здесь.
Преодолевая тоску и отчаяние, я побежал по шоссе, пытаясь приблизиться к идущим впереди людям. Бежать мне было тяжело, вскоре я начал задыхаться. Но я бежал, бежал, бежал… и вдруг проснулся с колотящимся сердцем!
Слава Богу, это был только кошмар. Я спал всю ночь на левом боку, сердце мое тосковало – и голова моя создала за несколько часов тяжкого сна весь этот мираж, весь этот мир с его «Костромой», «вокзалом», «Шозкупаринским районом» и «магазином трафаретов»…
Я перевернулся на спину – и в течение нескольких мгновений лежал в этом положении, хватая ртом воздух и медленно приходя в себя.
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись девятнадцатая: «Игра в лапту»
Лицо у него было почти фиолетовое и желто-зеленое местами: неживое и в аккуратных, будто выведенных пером, длинных морщинах, не искажавших общего печального выражения, а уточнявших его, с сизым пеплом в подглазьях, и одет он был в черное, казавшееся на нем, ветхом человеке, траурным. Темный поношенный костюм, черный плащ, в черной кепке, из-под козырька которой глядели бледно-голубые, холодком уже нездешним тронутые, печальные, ясные и внимательные глаза.
Он, учитель математики, на улице, у магазина октябрьским холодным днем встретил меня вопросом:
– Что же ваш папаша так мало пожил? – и будто усмехнулся грустно на свои девяносто три или девяносто четыре года…
И пока я водил руками, отвечал невразумительно на безответный его вопрос, он поглядывал кратко по сторонам, на посаженные здесь лиственницы, уже пожелтевшие, и пустырь, поросший ивняковыми кустами, но слушал внимательно, понимающе, как добросовестно отвечавшего заданный урок ученика. И, слегка согнувшийся, опираясь на палочку, начал говорить быстрей: бледно-сизые губы его тряслись, подрагивали, как от холода.
Он вспоминал про жаркое, грозливое лето 1914 года перед началом первой мировой войны, и как они играли в лапту на родной здешней зеленой улице; и что в каждом почти доме тогда держали корову, и про соседа, колбасника Кузнецова, коптившего окорока, да и про какого-то юродивого Венечку, нищего из ближней деревни, к полудню проходившего с холщевой сумой за подаянием в город по той зеленой улице, где они играли в лапту.
Лицо учителя делалось грустным и значительным, похоже глядятся портреты на надгробных памятниках.
Сосед Кузнецов на той, их родной улице в те годы купил мясорубку большую и такой шприц – давить фарш в оболочку из кишок… Колбаса какая была!.. Он так рассказывал про это, что я даже ощутил запах и вкус во рту той домашней колбасы.
– Было трое друзей с нашей улицы, один – сын того колбасника. Погиб в последнюю войну с немцами. Другой умер. Теперь остался из них я один. Жена умерла и сын, осталась одна племянница… – Он слегка как бы призадумался, но быстро продолжил перечислять умерших, как на уроке, наверно, объяснял материал в цифрах, с какой-то странной печальной полуулыбкой, похожей на осенний луч ледяного заката.
– А теперь в нашем городе нет у меня ни одного сверстника, я один из всего поколения остался, – вдруг отметил он. И как-то подтвердил свои слова особым быстрым движением, будто показывая мне всех тех, скрывшихся во временной бездне людей: и колбасника, и юродивого с холщевой сумой, и бойких мальчишек, играющих в лапту, и председателя сельсовета, с ругательствами крушившего колом в церкви золоченый иконостас в 1930 году – всю полувековую скрывшуюся голосистую толпу.
Несмотря на полумертвую кожу лица и руки, будто тоже в серых холодных перчатках, местами обвисших – он говорил и вспоминал живо, помнил все цены начала прошлого века: и на хлеб, и на пиво, и на говядину; и на водку, не изменявшиеся с 1846 года по 1911-й… И глаза разгорались голубизной ясно, только такой отчужденной, далекой, какая бывает у звезд и уже не принадлежит земле, но не принадлежит и тому уездному городишку и исчезнувшим селам, где он полвека проработал в школах учителем математики. И что-то математическое, как отделяется число от бревен, коров и людей – в умственный свет, понятный не каждому – было в этих глазах, но порой смотрели они ласково и улыбались, точно видели в современных людях что-то свое, забавное. И жаловался на зрение: читать стало трудно – была у него лупа, но какой-то правнучек присвоил, реквизировал – необидчиво жаловался он, старик в черном плаще с серыми в складках кожи руками и сизым пеплом вокруг глаз…
И пока не ослеп, прожил еще два года, и еще два слепым, и жаркое грозливое лето 1914 года, зеленая улица, мальчишки, игравшие на ней в лапту, ничего еще не знающие о войне, революции, уничтожении крестьянской России – они были где-то рядом, здесь, в этом посаде, где я разговаривал с ним, стоит лишь оглянуться как-то по-особому, извернуться с приклоном и приглашением, позвать взглядом – и они нахлынут ярой явью. И радость, печальная пусть, но есть в том, что ты узнал об этом. Узнал, когда они уже – словно начали там выкликивать твое все громче имя и звать на свою, вечно зеленую улицу, где играют в полузабытую лапту, и где у всех – лазурные глаза ангелов.
Литературный процесс
Татьяна ЛИВАНОВА. «Серебряная лира» – литературно-музыкальная студия и одноименный альманах
Передо мной четыре книги одного названия – в твёрдых обложках благородных расцветок, изданные с 2011 по 2020 год с трёхлетними интервалами. Одного формата, объёмом от 252 до 336 страниц. Все отпечатаны в ярославском ООО «Аверс Плюс».
Авторов – от минимума 26 к максимуму 38. Но с завидным постоянством повторяются в каждом томе: поэты Людмила Николаева, Валерий Голиков, Ирина Финогеева, Вадим Губинец, Наталья Спектор, Вера Одинцова, Николай Дроздов, Вера Грачёва, Ольга Шуткина, Юрий Алёшин, Надежда Денисова, Виктор Камарский (он же и сочинитель музыки на свои и коллег по студии стихи), прозаик Александр Зотов. Он, Александр Александрович – профессор медицины, талантливый врач и не менее талантливый литератор.
А если прибавить к этим постоянным именам ещё 48 авторов стихотворений или прозы, за одиннадцать лет укрепившихся в гаврилов-ямских литературных студиях и альманахе «Серебряная лира», а в их числе – 13 совсем молодых авторов, в полном смысле молодых! Это школьники или уже студенты из юношеской группы «Крылатая строка». Тогда цифра литературно одарённых людей перевалит за шесть десятков. Но на занятия приходят не только пишущие, а даже просто читающие, любители и страстные поклонники живого слова, их несколько десятков!
Так что же получается? А то, что воочию убеждаешься, насколько велика тяга к творчеству, к прекрасному в небольшом городе с удивительным названием Гаврилов-Ям. Напоминает что-то? Не бесконечную ли дорогу, постоялые станции, перекладных, звон колокольчиков с бубенцами, протяжные ямщицкие песни… Вот-вот! Этим ямщицким своим уклоном и отчасти названием городок на реке Которосли, впадающей в Ярославле в великую матушку-Волгу, так же всероссийски знаменит, как и два столетия – льняной мануфактурой купцов Локаловых или заводом множественного значения «Агат»…
Всё литературное чудо Гаврилов-Яма выстроила бывшая ярославна Татьяна Владимировна Соломатина, выпускница филфака Шуйского государственного педагогического института. Неизменно руководит несколькими студиями литературного направления при Гаврилов-Ямском МУК «Дом культуры», основной из которых, «Серебряной лире», в январе 2021-го исполнится 12 лет. За это время здесь «окрылились» в Союз писателей России трое, столько же – в РОО «Союз писателей Крыма» Ярославского отделения, а также стал посещать студию член Союза российских писателей Н. Туманов… Занятия – дважды в месяц, не исключая и летнего сезона. Так же – без «каникул» – постоянные занятия литературной учёбой по «возрастающей» программе. Так же – занятия в юношеско-молодёжной студии «Крылатая строка» и периодический выпуск одноименных сборников. Да на каждом из перечисленных занятий не менее 10, а то и 20–30 человек и больше!
На презентацию 4-й книги «Серебряная лира», 6 сентября с. г., собралось под пятьдесят человек. В том числе почти все авторы сборника, их почитатели, представители городской и районной администраций. Из-за обстановки с COVID-19 не было возможности пригласить гостей из ярославских и районных литературных объединений, студий, клубов, а также из сопредельных областей… А поклонников «Серебряной лиры» в них сотни! Потому что таланты «лировцев» покоряют, а помогает их открыть и развить в своих воспитанниках Т. В. Соломатина в высшей степени профессионально.
Я полагаю, что приведённое ниже эссе покажет читателям «Паруса» основную «суть» и «соль» деятельности литературного лидера из Гаврилов-Яма и позиции ЛМС «Серебряная лира» в литературной жизни Ярославской области.
Эссе было подано на конкурс этого года «Любимый город, будь прекрасен!» – ко Дню Гаврилов-Яма. Номинация – «Проза»: о человеке, много сделавшем для Гаврилов-Яма. Итак:
Впечатление
Она входит в аудиторию – легка и подвижна. Всегда с улыбкой и добрым словом к каждому. И всякому кажется, что именно ему она уделила наибольшее внимание. Такая особенность общения даже с незнакомыми людьми очень удивила меня в японских гейшах при чтении книги Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры» ещё в юности. А теперь и я получаю это в общении, но – от современницы-землячки!
За ней и к ней идут. Она всегда в гуще людей. Для них создаёт праздники также в будни. Однако признаётся, что свои силы восстанавливает лишь в уединенье. Хорошо снимает стрессы лес вблизи города: просто прогулка или сбор ягод, грибов, но в пределах 2–2,5 часов. Дольше – усталость.
По делам не опаздывает, напротив, всегда – загодя, чем выкраивает время решить насущные вопросы. Выслушает, даст совет, посочувствует, ободрит, предложит альтернативу, расскажет что-то весёлое – общий смех поднимает и настроение всех.
На работе собрана, сосредоточена, в меру серьёзна – больше улыбчива. Регламент свой и выступающих блюдёт строго. А посему чётко успевает уложиться в запланированные часы своих занятий. Занятий руководителя в четырёх литературных студиях – в МУК «ДК» и психолога – в доме престарелых Гаврилов-Яма. Её работа – подобие айсберга. Частично – видимая: с её участием издано более 40 печатных книг (редактор, составитель, где-то и автор). Но превалирует невидимое – следствие каждодневного труда, его добрый посев: то, что духовно питает и обогащает читателей и слушателей, уловивших самое важное из строчек книг и сборников, из песен и видеороликов более чем полусотни подопечных Татьяны Владимировны, из её авторских статей и бесед. Многие люди живут этим обогащением, обретают радость и устойчивость в тусклой (зачастую) повседневности… Это – сильное воздействие, оно не имеет границ, физического веса, но дорогого стоит.
А на праздниках, в моменты «отдушин» тряхнёт кудрявой причёской и – в пантомиму либо перепляс, да так артистично, воздушно, вдохновенно. Скажешь – вот счастливый человек: всё-то у неё ладится, повсюду успевает, не жалуется, всех подбодрит и к радости приобщит, семья замечательная – опора прочная: муж в ней души не чает, два сына загляденье, и у самой, похоже, ничего не болит…
Это у неё-то не болит?!
…С момента знакомства, 21 октября 2018 года, постоянно «пишу» в себе портрет этой удивительной женщины, портрет-впечатление. Такой яркий, солнечный, как со светлых картин, человек! Её присутствие – приток свежего воздуха. В глаза заглянет – лучик солнца погладил. Улыбнётся – душу озарит. Слово молвит – колокольчик зазвенел! Рассказывает – заслушаешься. Информации, эмоций – море: заряжает! Задачу учебную поставит – не из лёгких, изо всех сил стараешься, выполняешь, обидеть и впросак попасть не желая. Кредо строгости: пристально посмотрит – будто пронзит взглядом. О порядке заговорит – повторять не надо…
Двенадцатый год, дважды в месяц, собираются поэты, прозаики и просто любители словесности в литературно-музыкальной студии «Серебряная лира» МУК «ДК» Гаврилов-Яма. Так же – на литучёбу и в студию юных. Руководитель начинает каждое занятие непременно с улыбкой и словами:
– Здравствуйте, дорогие мои!
Либо:
– Здравствуйте, мои хорошие!
И ответно от двадцати-тридцати присутствующих – улыбки, горящие глаза, возгласы, всем легко и радостно. Готовы, пожалуй, горы свернуть – ведь «доброе слово и кошке приятно».
Разделённая радость. Сострадание горю. Волнующие перспективы. Дни рождений – святое. Не пропустит никого из своих подопечных, поздравит яркой открыткой с сувенирами, найдёт проникновенные пожелания, даже если событие уже позади (причины разные)… А что имеем на сегодня?! Например: где кто побывал, что опубликовал. Введёт в курс новостей, литературных и театральных новинок. Кому есть что сказать, тем даст слово, чтобы в непрерывной череде занятий удавалось высказаться каждому.
Презентация новых авторских книг и коллективных сборников – высший пьедестал для авторов. Также честь – участие в городских праздниках, фестивалях и выступлениях: на сцене ДК, в школах, детских садах, доме престарелых (в нём 111 человек всегда с нетерпением ожидают «лировцев»). А поездки по области и за её пределы на встречи с коллегами по «цеху»? В Карабиху – на Некрасовские праздники поэзии, в Ярославль – к «Волжанам», «Жемчужине» и – непременно – на День поэзии 21 марта; в Некрасовское «Откровение», в «Многоцветие» Ростова Великого, в «Три свечи» Тутаева, в Рыбинск, Пречистое… В Ивановскую, Московскую, Костромскую, Вологодскую области… Оттого широка известность литераторов Гаврилов-Яма и – города! Великая радость – принимать собратьев по перу и у себя. Вопрос: организатор и исполнитель всего перечисленного – кто? Конечно же: вместе – сотоварищи, в единении!
Вот так через книги, литературные сборники, живые встречи, где бы ни побывали «лировцы», сеется «разумное, доброе, вечное». Оно задевает за живое, делает жизнь ярче и осмысленнее, проникает в сердца не сотен, а тысяч и тысяч современников – поди-ка сочти их: ведь даже одна-то книга и та попадает в руки десятков и десятков людей! Измеримо ли реально такое воздействие и что есть мерило? По какой шкале или системе?
Вообще, как измеряется вклад одного человека в другого, в семью, город, современность? Чем измерить и вещественное, и – духовное? Как сопоставить, сравнить эти две величины, вывести формулу относительности по критериям, а именно: что впечатляюще, больше, лучше, значимей?..
Есть ответ?
В таком случае, вот моя рука – за Татьяну Владимировну Соломатину!
София культуры
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ. Введение в философию Православия (продолжение)
(очерки о Любви, любви к Свободе и к Истине)
Добродетели
Следовать за Христом – значит противопоставлять страстям силу добродетелей. Недостатки наши чаще всего есть неестественное продолжение наших достоинств. Добродетель рождается в душе не просто так, ибо она есть сила, появляющаяся в результате стремления к умеренности, смиренности и совестливости. Добродетель – не только природное, но и приобретённое качество. Ведь когда в нас что-либо заложено от рождения и мы не прилагаем усилий к тому, чтобы это качество развить и умножить, оно становится если не пошлым, то тёплым, то есть не способным пробудить в других желание к избавлению от грехов.
Добродетелью является всё, что побуждает людей показывать силу, изменяющую их жизнь. Настоящие добродетели проявляются в нас будто бы тайно, сами мы не можем судить о том, что уже достигли какой-то степени совершенства. Ибо сколь велика ни была бы в нас сила преображения, она, во-первых, не гарантирует, что мы не можем попасть во власть зла и греха, а во-вторых, каких бы высот ни достигли в земной жизни, мы до окончания её будем лишь у подошвы горы, на которую предстоит взойти.
Делать добро – означает освобождать самого себя от того, что несёт нашим близким горе и зло; от того, что может ввести их в искушение любой из страстей: от чревоугодия до гордыни. Добро делать может только способный терпеть немощи близких, как, например, терпит врач, лечащий тяжело больного человека. Врач не гневается из-за того, что больной оказался больным. Так и несовершенства, и недостатки родных – это только болезни, которые следует терпеливо лечить. Конечно же, лекарством является сила нашего терпения, понимания; сила молитвы и примера порядочности.
Жизнь такова, что люди, находящиеся в равных условиях, тем не менее совершенно по-разному могут проявиться во времени. Поэтому качества, которыми человек наделён от рождения, есть только семена, что ещё должны дать всходы. Прежде чем созреют плоды, необходимо потрудиться на поле своей души. Задатки проявляются у всех по-разному. Чем большей внутренней силой наделён человек от природы, тем в большей опасности он находится. Ведь ему легче добиться желаемого. И если упустить момент в деле его воспитания, образования, а также цели, к которым он стремится, то когда он окажется во внешнем мире, может случиться так, что он не станет ограничивать себя в средствах достижения своих целей. Когда человеку нет дела до того, что происходит во внутреннем круге жизни, задатки быстро превратятся в страсти. Если не видим причин для того, чтобы отказаться от желаемого, границы наших притязаний будут расширяться. Рано или поздно возможность удовлетворения их станет ограничиваться внешними факторами.
Тот, кто не понимает, что необходимы внутренние усилия, обеспечивающие достижение меры, когда сталкивается с сопротивлением среды, в том числе с людьми, преследующими подобные цели, он неизбежно вступает в борьбу. Конечно же, это открывает границы для роста страстей. А они неизбежно привяжут нас к внешним явлениям и феноменам жизни. Если наши силы сосредоточиваются на попытках оформить под свои притязания внешний мир, мы перестаём обращать внимание на то, что происходит во внутреннем круге жизни.
Космос превращается в хаос, когда в хаос превращается душа Венца творения. Если в ней царит запустение, страсти не смирены, дух не обуздан, то все попытки навести порядок в окружающей действительности приведут к ещё большему внутреннему расстройству. Обстоятельства жизни человека отражают состояние его духа. Добродетель как качество проявляется в нас только в результате длительного, не прекращающегося во времени труда, обеспечивающего соответствие чувств, желаний, мыслей требованиям совести. Но для этого необходимо признание, что она существует. Достаточно много людей попадают в ловушку врага, придерживаясь мнения: «Бога нет, всё позволено». Такая позиция неизбежно приведёт к тому, что фундамент собственной жизни затрещит по швам. Но пока не придёт понимание, что причины всех поражений, жизненных неурядиц, несостоятельности и слабости близких скрыты в характере нашего отношения к миру, то есть в нашем сердце, до тех пор ничего изменить в своей судьбе не сможем.