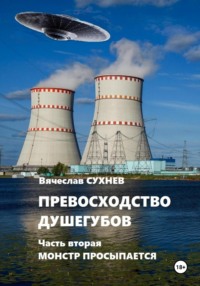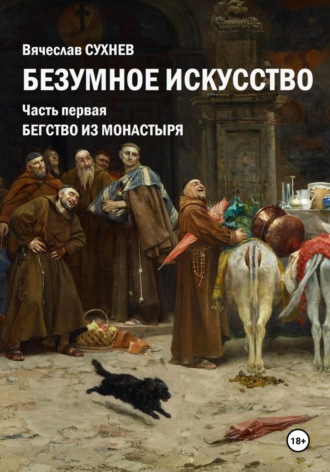
Полная версия
Безумное искусство. Часть первая. Бегство из монастыря
Но люди быстро устали от революционной фантасмагории и революционной трескотни, и когда через два года после переворота танки выходили на позиции для стрельбы по Белому дому, символу вчерашних надежд, тысячные толпы на Краснопресненской набережной уже не были движущей силой революции – они превратились в праздную толпу, пришедшую в театр абсурда.
Удивительно, как быстро общество перестроилось, как внешне органично восприняло новое. Люди не шарахались от обращения «господа», не дивились вывеске «Сейфы Кулебякина», не стеснялись креститься на улице. На коробке конфет знаменитой фабрики «Ударница» вместо работницы в кумачовой косынке появилась томная дама в вуалетке, и весь вид этой дамы навевал мысли о её ударничестве вовсе не на кондитерском фронте. Героями телевидения стали политики, певцы, бандиты и ворожеи. Телевидение выбрасывало в ошалевшее от свободы общество альковные похождения, криминальные новости и гороскопы. Реклама призывала мыть голову, красить ногти и жрать, жрать…
Отовсюду повылезали ловцы момента, проявлявшие изворотливость и предприимчивость, казалось бы, совершенно немыслимую для вчерашних пионеров и комсомольцев. Публицисты пошли в депутаты, уборщицы – в референты, преподаватели научного коммунизма – в губернаторы, инженеры – в магнаты, а графоманы – в издатели. Некоторых из этих героев революции я знавал по прежней жизни и по прежним жалким подвигам, а потому достаточно ясно представлял их способности и не обманывался в их возможностях сделать мир другим – более совершенным и справедливым.
Хамелеоны и прилипалы, они были подняты волной на поверхность, они успели насладиться великим чувством свободного и стремительного полёта на этой волне – с весёлыми брызгами, похожими на брызги шампанского, с солнцем и ветром, а потом либо пошли ко дну и затаились в тине, либо были сожраны чудовищами-мутантами, расплодившимися в радиоактивной воде переворота.
Вот в чём заключалась каннибальская сущность революции: она принесла надежду, как дождь после долгой засухи, но этот благословенный дождь превращал в бездонное болото вчера ещё твердую почву, и люди шли ко дну, а на плаву оставались только нелюди – земноводные и пресмыкающиеся.
Потом я прочитал в воспоминаниях Георгия Иванова нечто схожее в описании послеоктябрьской России – и тогда искали клочок суши в потопе, чтобы отсидеться, но жизнь убывала по капле и всё затопляла фантастическая советская действительность. Наша послереволюционная действительность была грязной, серенькой и скучной. Революционная дурь быстро выветрилась даже у самых неисправимых романтиков, и осталось долгое спорадическое похмелье.
Конечно, Королёв мог попытать счастья в новых газетах, которых тогда развелось, как клопов в перине. Работать в них было весело: восторженно повизгивая от страха собственной смелости, газеты лаяли на всесильного президента, на бессильное правительство и друг на друга. Грустно становилось только у кассы: месяцами забывали платить. Тратить мозги и время на работу с неопределённым конечным результатом Королёв не хотел. Можно было пойти к бандитам, потому что бандит в России больше, чем поэт. А что делать с жалкой хнычущей совестью?
Бердяев, говоря об одной книге Лосского, заметил, что проблема свободы имеет центральное значение в философии, но эта проблема в широком смысле обычно ставится как проблема свободы воли и сосредотачивается на взаимоотношении свободы и необходимости. Но глубже лежит проблема взаимоотношения свободы и благодати. То есть для Платона свобода сдохнуть с голоду соотносилась с благодатью работы.
Несколько месяцев, правда, Платоша пожировал: я устроил его на непыльную должность обозревателя в областной еженедельник, которым тогда заправлял мой приятель Сухов – публицист, романист, эссеист и так далее. Он посылал Платона в необременительные командировки по Московской области, и Королёв кроме постоянной зарплаты получал ещё и гонорары за статьи. Потом Сухов разругался с кормильцами, дававшими деньги на газету, и ушёл из еженедельника. А Королёв опять оказался на улице, потому что новый главный редактор вычистил все старые кадры.
Вернулся Платоша за рабочий стол на даче в Переделкино. Писал он по старинке – ручкой в большом блокноте. Потом отдавал на перепечатку тёще и глухой – у них все равно не было клиентов. Сначала, после первой же страницы, приживалка взошла свекольным румянцем, а тёща, наоборот, побледнела:
– Платон, это все ужасно! Такие скабрезности и непристойности нигде не напечатают. Нигде! Поверьте человеку, который больше тридцати лет живёт с писателем. Это во-первых. А во-вторых, текст надо серьезно редактировать. Серьезно! Я бы попробовала… есть некоторый опыт. Но не хочется заниматься бесполезным делом и изводить бумагу.
– Маманя, вы от жизни отстали, как корова от паровоза, – улыбнулся Королёв. – Сейчас всё печатают. Это во-первых. А во-вторых, парить сутками напролёт задницу перед телевизором – тоже дело бесполезное. Так что, маманя, будем дружно работать во славу новой русской литературы.
– Платон, вы животное!
– Как скажете, маманя, как скажете…
Только к тёще Королёв обращался на «вы».
Бунт на семейном корабле, тем не менее, был подавлен. Платон писал, теща с сестрой перепечатывали, привыкая к новой русской литературе – энергичной, хамоватой, воняющей потом и кровью. Артемий Иванович расщедрился на корректуру – не хотел оставаться в стороне от процесса. Русскую грамоту рабочий писатель знал хуже зятя, вчерашнего газетчика и студента, но текст вычитывал въедливо, не пропуская «блох». Сказано: мастерство не пропьёшь. Так и довели роман до ума общими усилиями. По секрету тесть признался Платону, что всю жизнь мечтал написать что-нибудь этакое… похожее. Раскованное! Да обстоятельства не давали, сам понимаешь, какие. И уронил мужскую слезу – крупную, как сопля на морозе.
Роман сразу взяли в новое, недавно сколоченное издательство. Оно пока пробавлялось пиратскими перепечатками переводных детективов, переваривало Биг-Маков – Макбейна, Макдональдса, Макалистера и Макинтайра. Королёв был первым отечественным автором, которого издательство решило осчастливить. Платону заплатили аванс – целых пятьсот американских долларов наличными. Остальные пятьсот обещали выдать после печати тиража.
Королёв купил с гонорара три килограмма бананов, литровую банку развесного сгущенного молока, бутылку шампанского и коробку куриных окорочков – ножек Буша. Отпраздновали всем семейством появление просвета на горизонте, затянутом тучами революции-контрреволюции. Артемий Иванович после рюмки шампанского рыгнул и поднял палец:
– Молодец, конечно, но не заносись. Одну книгу теоретически может написать…
– Папаня, стареешь, – грустно сказал Королёв. – Это мы уже проходили.
И отправился защищать диплом. Война войной, а обед, как говорится, по расписанию. Не хотел он из-за какой-то революции оставаться недоучкой.
Дипломная работа называлась «Публицистика Горького».
– По-моему, не очень удачная тема, – сказал бывший юный аспирант, принимавший некогда вступительный экзамен у Королёва – он успел стать кандидатом и отрастить брюшко. – Не современная тема. Вы не находите?
– Не ко мне вопрос, – сказал Платон. – Со временем не я пошалил. К тому же тема моей работы была запланирована заранее. Да и Горький как публицист интереснее многих нынешних буревестников. Я понимаю, роль газеты «Правда» в подготовке антигорбачёвского путча тоже любопытна…
– Зачем же бросаться в такие крайности! – не отставал кандидат. – Есть ещё роль молодой свободной прессы в становлении демократии, например.
– То есть вы на самом деле считаете, что в России уже установилась демократия?
– Вне всякого сомнения!
– Тогда почему же вы выкручиваете мне руки с темой? Это недемократично!
– Я не выкручиваю!
– Нет, выкручиваете!
– Товарищи, товарищи… – вмешался старый мудрый декан, пересидевший пятерых генеральных секретарей партии. – Если угодно, господа! У нас тут защита дипломной работы или симпозиум по демократии?
Пятёрку за диплом Платоша получил.
Через месяц нашего писателя позвали в издательство – посмотреть макет книги. Ничего себе оказался макет: на фоне закатных гор зверски скалился, задрав чёрную бороду, человек в скрученном полотенце на голове. Скалился он по необходимости: под бородой торчал стилет, который сладострастно сжимал курносый советский воин, – судя по панаме с красной звездой. А над этим страхом-ужасом гнездились кривые буквы, с которых капало алым: «Засада».
– Теперь хочу на художника посмотреть, – сказал Королёв.
Пришёл юноша, одолеваемый прыщами, с бородой, очень похожей на нарисованную в макете.
– Это что у него на голове, ты, Хуинджи? – спросил Платон и ткнул в полотенце.
– Тюрбан, – высокомерно процедил юноша.
– Сам ты чурбан, – вздохнул Королёв. – В Афгане тюрбанов не носят. А духи, что с нами воевали, ходили в пуштунках. Не знаешь, что это? Ну, я не виноват. Найди, посмотри и отрази. А это что за инструмент?
– Нож, – тоном ниже сказал художник.
– Такой пилочкой для ногтей только кота холостить, а не духов резать. Вот нож! Рисуй, пока я тут.
И Платон достал свой заслуженный тесак с потёртыми щечками рукояти. Прыщавый юноша икнул, взял нож двумя пальцами и понёс сканировать.
– А почему – «Засада»? – Королёв насел на редактора.
– Ну, завлекуха такая, чтобы читатель повёлся. Чтобы заинтересовался и купил книжку. Книгоиздание и книготорговля строятся на рыночных отношениях.
– Ладно, – сказал Платон. – Давай жить по-рыночному. Раз макет сделали, значит, серьёзно собираетесь печатать. Можно остальные деньги получить, благодетель? А то я до печати тиража не доживу, уже штаны на ходу падают.
Десять минут редактор рассказывал о больших затратах на аренду и ремонт помещения, на рекламу и взятки. Наконец, посетовал, что Королёва как молодого и никому не известного на рынке писателя ещё надо «раскручивать», что тоже – немалые вложения.
– Выходит, это я ещё тебе задолжал, – подвел итог Платон. – И остальных денег не увижу.
– Вполне возможно, – кивнул редактор. – Сами едва выкручиваемся. Так что придётся вам потерпеть, пока не реализуем тираж.
– То есть годик-другой, – вздохнул Королёв. – Жаль. Но смекаю, тебе уже не потребуются деньги на рекламу. Зато очень возрастут расходы на ремонт.
Он походил по кабинету, на улицу выглянул.
– Так, так… Второй этаж. И окна широкие. А когда у вас рабочий день кончается? Это я к тому, чтобы люди не пострадали. Окна можно вставить, стены покрасить, а человека не вернёшь. Как считаешь?
Редактор подумал-подумал и сказал:
– Это шантаж. И я его не боюсь.
– Не шантаж, а нормальные рыночные отношения. Ты ведь собираешься нарушить наш договор. А я собираюсь защитить свои авторские права. Или хотя бы наказать тебя за нарушение договора. Согласен, наказание предстоит не совсем адекватное, но ведь и меня надо понять: по бедности своей могу использовать только доступные средства и материалы.
– Повторяю, это шантаж! И нас есть кому защитить…
– Чудило из Нижнего Тагила! – засмеялся Королёв. – Кто ж тебя от гранаты защитит?
Тут и художник вернулся с ножом. Редактор посмотрел на это орудие кровавого производства, заглянул в сумасшедшие, голубые как весеннее небо глаза писателя, покосился на его боевой шрам и поднялся, покоряясь судьбине:
– Посмотрю, что можно сделать…
Вернулся с деньгами.
– Учтите, – сказал он Платону, – я подчиняюсь насилию. Не думаю, что на таком фундаменте может возникнуть наше дальнейшее сотрудничество и дружба.
– Ты мне ещё про совесть напомни, – сказал Платон, аккуратно пересчитывая деньги.
– Насилие и совесть – вещи несовместные.
– Ты, оказывается, философ! – засмеялся Платон. – Тогда я Ницше вспомню. Он сказал: наши учреждения не стоят больше ничего, но в этом виноваты не они, а мы.
Через два месяца роман появился на книжных развалах. Королёв купил десяток книжек – дарить друзьям. А друзей у него, понятное дело, было немного. Только те, с кем самоотверженно пил водку в крысятнике на Абельмановской.
Роман я прочитал за вечер.
Сюжет был прост. Главный герой, которому остаётся две недели до дембеля, отправляется со своей ротой в засаду на душманскую тропу, где должен пройти караван с оружием. И вот лежит он в холодных ночных горах, сжимая в руках верный калаш, и от нечего делать вспоминает свою такую короткую и такую долгую службу в Афганистане.
Кровь, грязь. Рейды по мятежным кишлакам. Сначала прилетают вертолеты и накрывают ракетным ковром рыжие домишки, растущие из земли, глинобитные заборы, куцые сады и крохотные огороды. Потом в кишлак заходит рота нашего героя, поливая свинцом все, что ещё движется. Сослуживец, губастый и конопатый парень из-под Саратова, застрелил маленького ишачка, с тоненьким жалобным криком бродившего по дымному пепелищу. Сержант дал стрелку в зубы и долго бил ногами. Еле сержанта оттащили.
В одном разбомблённом селении нашли единственную живую девчонку и увезли с собой в лагерь. Лет пятнадцати, не больше. Худая, как коза. И груди, как у козы, – только острые коричневые соски. Терзали её всю ночь, подбадриваясь водкой и травкой. Под утро, когда воинов сморила усталость, девчонка заколола полусонного караульного штык-ножом и убежала. Да недалеко ушла – напоролась на одну из растяжек, которыми обнесли лагерь для безопасности. Её нашли – с вывалившимися кишками, но ещё живую. Она ползла на боку, придерживая рукой сизые кишочки. Постояли, посмотрели в кровавый след и не пристрелили суку – пусть помучается перед смертью.
Прапорщик менял у афганцев патроны на шмотки и героин. Наркоту отправлял в Союз с «грузом-200», в цинковых гробах. Чтобы пацаны, значит, и в гробу кумарили, чтобы и на небесах им было в кайф… Ну, зашили прапора в мешок из-под сахара, насовав в рот первосортного герыча, да и бросили в кяриз – это такой у афганцев подземный канал для воды.
И так далее.
На последней странице с восходом солнца вершины гор посветлели, небо налилось зеленцой. Вдали раздалось осторожное поцокивание копыт по щебню. Главный герой нащупал на «лифчике» обоймы и спрятал под камень флягу с водой – день предстоял жаркий. О дембеле он больше не вспоминал.
Если бы Королёв ограничился только этими сценами… От них и так холодило в затылке, хотя воспоминания героя были выписаны нарочито сухо. Но Платон умудрился отразить такую бесконечную тоску и бессмысленность происходящего, открыть такие темные глубины человеческого естества, словно писал не мальчишка-студент, а уставший от жизни старик. Структура текста походила на абстрактный рисунок на ковре или на обоях – окружности, разводы, листья, световые пятна. Такой рисунок вроде бы не несёт никакой графической информации, а приглядишься – из сплетения линий и кружков, из пятен и сумрака проступают хари… Потом в любое время, стоит только чуть-чуть напрячь воображение, ты их увидишь. Эту манеру письма Платон в дальнейшем отточит до колдовского совершенства, и европейские критики назовут его «мастером проступающей реальности». Тогда же я весь день не мог отойти от романа, вообще не мог ни о чём думать – буквально заболел.
Он сам позвонил, не выдержал:
– Ну, Павел Иванович, посмотрел книжку? Что скажешь?
– Господи, Платоша… Неужели это было с тобой?
– Не бери в голову. Понравилось или нет?
– Напиться хочется, – признался я. – Просто невмоготу.
– А кто мешает? – засмеялся Королёв. – Давай в Переделки.
Потом я видел несколько фильмов, во многом повторявших сюжетные линии романа Платоши. В них тоже хватало грязи, крови, водки и дерьма жизни. Не было одного – бесконечной тоски, от которой леденеют волосы на затылке.
5. ЯКОВЛЕВ. «ДИСКУССИЯ ОБ ИСКУССТВЕ». 1946.
Странный ветер в переулках вокруг Маросейки – он всегда дует в лицо. Летом ещё терпимо, но зимой невыносимо. Пять минут прогулки – и мои глаза за стеклами окуляров превратились в ледышки.
Орел, стервятник, а также хрен Константиди дожидался меня и денег в небольшом кафе на углу Мясницкой и кривого переулка. Здесь было тепло и почти безлюдно. В полумраке, под тихое бормотание блюза так же тихо бормотала парочка неподалеку от Константиди, а за массивной стойкой из нержавейки парень в жёлтой курточке читал «Спорт-экспресс». С улицы в щели между оконными жалюзи пробивались серые полосы дневного света и лениво шевелились на полу из черной и белой плитки. Казалось, идёшь по шахматной доске.
Константиди времени зря не терял – перед ним стоял фужер с оранжевой бормотухой. Хрен обожал кампари с апельсиновым соком. А ведь когда-то я знал его как употребителя дешевого портвейна и вонючих сигарет без фильтра. Пусть теперь кто-то скажет, что наше благосостояние не растёт… Константиди ненавидели все официанты, обслуживавшие фуршеты разнообразных мероприятий, на которые тот неукоснительно являлся – от конгресса финно-угорских народов до симпозиума урологов. Константиди всегда требовал дорогущий кампари, который дул, как воду. По-моему, во всей Москве только он и пил этот итальянский аперитив. В качестве анекдота рассказывали такой случай. Один жадный официант, который из-за Константиди не видел перспектив украсть пару бутылок дорогого напитка, решил поддеть журналюгу:
– А вы знаете, что в кампари для цвета кладут червячков?
– Знаю. Неси самый большой фужер. Можешь и червячков подсыпать. А соку много не наливай!
Завидев меня, Константиди показал зубы – жёлтые и крупные, как у лошади:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.