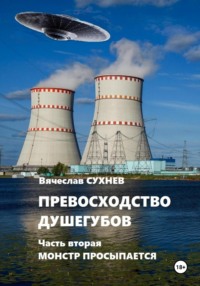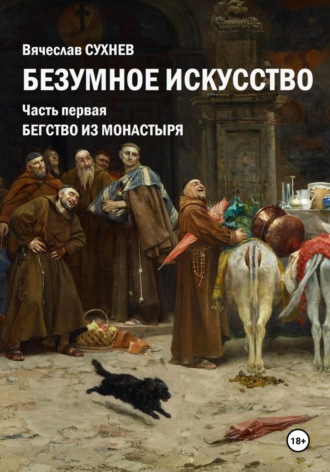
Полная версия
Безумное искусство. Часть первая. Бегство из монастыря
Потому и уничтожали Москву физически и географически, перестраивали, перекраивали, переписывали и переназывали. Но едва качнулась страна после отмены шестого пункта конституции, москвичи пошли брать Белый дом, где засели немосквичи. И взяли. А теперь власть думает: не дай Бог, ещё пойдут брать – не Белый дом, так Красный… Хватит! Значит, надо превентивно разжижать эту свободолюбивую кровь, разбавлять градус – запускать в столицу тех, кто рад и бублику в московской булочной, и рублику на московском тротуаре. Эти не пойдут брать. И москвичам не дадут. Поэтому, думаю я, приезжих становится всё больше, а москвичей всё меньше.
Возможно, я не прав, слишком завышая способность нынешней власти к стратегическому мышлению, но подобная иезуитская идея вполне могла нечаянно родиться за красивой зубчатой оградой средневекового архитектурного комплекса в центре Москвы.
Deme, por favor, en billetes de a cincuenta euros. Дайте мне, пожалуйста, купюрами по пятьдесят евро…
А ещё говорят, что толстые люди добрые, что злыми бывают только тощие. Может, оно и так. Нередко и я бываю очень добрым. Но поскольку довольно упитан, во мне вполне свободно умещается тот самый тощий и злой, который время от времени просыпается от столкновения с унижающей действительностью, высовывается и орёт на окружающих от тоски и бессилия. Суки!
Владимир Соловьёв – не помню, где именно, кажется, в «Оправдании добра» – говорит о толерантности как допущении чужой свободы. Нравственные начала терпимости проявляются, мол, по её внутренним мотивам: великодушию, уважению к правам и ещё какой-то чушью, связанной с высшей истиной. Всё это можно писать в уютном кабинете, в тишине и чистоте загородного дома, где лакей за дверью только и ожидает окрика барина, чтобы подать стопку настуженной водки. Если бы Соловьёв ездил на службу в метро, ему бы не пришло в голову искать среди внутренних мотивов толерантности уважение к правам других. Не воняй, не пихайся, не становись крестом в дверях, не разводи колени, словно у тебя там футбольные мячи, а не шарики для пинг-понга… И тогда, может быть, я проявлю терпимость. То есть не скажу: дай выйти, ты, паллиатив! Суки еще раз.
Пассажиры напротив сменились. На месте чёрного парня – сивый дядя в сивом же пуховике читал «Советскую Россию». А я-то думал, что она давно загнулась по примеру старшей сестры. Прямо на меня смотрел крупный заголовок «Коммунисты категорически против…». Против чего именно, я не разглядел – дальше шли мелкие буквы. Дядя читал газету и самозабвенно копался в носу, меняя руки. Подавив рвотный позыв, я уткнулся в учебник испанского. За семьдесят лет, за целую человеческую жизнь, коммунисты не смогли построить общество благоденствия, о котором самозабвенно дудели на всех своих съездах. А теперь они «против», хотя их об этом уже никто не спрашивает. Вот и остаётся только ковыряться в носу.
Через сорок минут потного путешествия я вышел из-под земли в самом центре столицы. Прямо передо мной простирался Ильинский сквер с кубышкой памятника героям Плевны, а над серыми домами Старой площади, где гнездилась власть, курилась метель – издалека казалось, что там на всех этажах, перед очередным дефолтом или внеочередным переворотом, жгут документы. Я двинулся по Маросейке к Садовому кольцу. Ветер высекал слёзы.
Испанские глаголы опять напомнили о Платоше Королёве, потому что именно его литературный агент Лев Давыдович привязал меня к Испании.
2. САРЬЯН. «ЛЮБОВЬ. СКАЗКА». 1906.
Чтобы получить Нобелевскую премию по литературе, надо либо написать очень хорошую книгу, либо, фигурально выражаясь, прилюдно снять штаны. В первом случае премию дадут за мастерство, во втором – за отвагу. Штаны можно снимать с себя, но гораздо предпочтительнее – с дорогого Отечества.
Эту, прямо скажем, незаезженную теорию мне как-то высказал Платон Королёв, известный романист.
В середине восьмидесятых он тоже приехал покорять Москву, покинув заволжскую глубинку, малую занюханную родину, которую ни на одном глобусе не сыскать. За плечами Платоши были Афганистан, ранение и два года работы в районной газете. Прямо с поезда, в чёрном погребальном костюме, сандалиях на босу ногу и с армейским вещмешком, он отправился сдавать вступительные экзамены сидячему Ломоносову – на факультет журналистики Московского университета.
Стояло жаркое лето, в маленькой аудитории, заставленной залапанными столами, были распахнуты все окна. Напротив белела стена, от которой наносило жаром. В тесном дворе лениво орали воробьи, а их перекрикивали рабочие, которые долбили асфальт.
Юный, но заносчивый аспирант, принимавший у Платоши устный экзамен по литературе, спросил, заглянув в билет:
– Ну-с, и что мы знаем о серебряном веке русской поэзии?
– Всё знаем, – ответил Королёв. – Например, вот Блок Александр Александрович…
Летун отпущен на свободу,
качнув две лопасти свои,
как чудище морское в воду,
вошел в воздушные струи.
Это из стихотворения «Авиатор». Подчеркну силу предвидения великого поэта. «Авиатор» написан до Первой мировой войны, но в конце стихотворения поэт спрашивает:
Иль омрачил твой взор несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?
Могу цитировать стихотворение полностью, могу вообще цитировать всего Александра Александровича, так что поверьте на слово.
– А Брюсова процитируете? – спросил юный экзаменатор.
– Валерия Яковлевича? А то!
Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!
По горбику тесной межи
Иду и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.
За полем усатым, несжатым,
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом…
Душа, насладись и умри!
И так далее. Стихотворение называется «По меже» и написано, кажется, в 1910 году.
– Замечательно, – усмехнулся экзаменатор. – Если ещё дадите характеристику это стихотворения… Ну, каким размером написано, как называется форма… Я вам сразу поставлю пять. Конечно, это к теме билета не относится, но вы ведь хотите получить пятёрку?
– А то! Это, во-первых, терцины, во-вторых, амфибрахий.
– Вы уверены, что амфибрахий?
– В поэтическом словаре Квятковского это стихотворение Валерия Яковлевича приводится в качестве примера терцин, написанных амфибрахием. В отличие от классических терцин, которые писались пятистопным ямбом.
Аспирант обалдел, но не захотел сдаваться и послал в библиотеку за словарём Квятковского. А когда словарь принесли, и экзаменатор убедился в правоте Платоши, поставил обещанную пятёрку. Но чтобы указать место зарвавшемуся колхозному лошаку, который так фамильярно обращается с классикой и классиками, заметил:
– Вообще-то, юноша, с вашими руками надо землю копать, а не с амфибрахием разбираться…
Королёв подождал, пока тот распишется за пятёрку:
– Вообще-то, юноша, это с твоей головой надо землю копать – не можешь запомнить какой-то амфибрахий!
На экзамене по немецкому языку он читал и говорил бегло. Бабушка, принимавшая экзамен, поджала синие губы:
– Странно, знаете ли, очень странно…
– Что-нибудь не так, мать? – обезоруживающе улыбнулся Платоша.
– Всё так… Но у вас несовременное произношение и много архаизмов. Устаревшей лексики, стало быть. Где вы учили немецкий?
– Да у нас там, – неопределенно развёл большими руками Королёв, и из рукавов повылезали крепкие загорелые мослы, – у нас в степи этих немцев с архаизмами – навалом.
Через год однокурсники больше не хихикали за спиной Королёва по поводу его несносимого погребального костюма: молодая преподавательница, умница и красавица, да ещё и дочь писателя-лауреата, положила, как говорят в народе, глаз на Платошу. Королёв в те годы, насколько я помню, представлял вымирающий типаж русской народной сказки, тоже вымирающей: косая сажень в плечах, непокорные русые кудерьки и пронзительно синие глаза на младенчески свежем лице. Не то Иван-царевич, не то Иван-дурак. Образ несколько портил тонкий лиловый шрам от левого виска к скуле, и это устрашающее украшение Платон по молодости и глупости прятал, отпуская жидкие рыжие бакенбарды. Лилия Артемьевна вела французский язык и была на несколько лет старше Королёва, но когда они колыхались рядом как молодой дуб и юная рябина, то разница в возрасте совершенно не бросалась в глаза.
На Новый год и свадебку сыграли. При этом свежеиспечённый тесть, грузный седой здоровяк, чуть не сыграл в ящик: он почему-то возненавидел будущего зятя и до последнего надеялся, что Лилечка, единственная кровиночка, умница и красавица, передумает выходить за этого вахлака. А ведь какие женихи, какие выдающиеся люди вились вокруг Лилечки! Молодой, но подающий большие надежды дипломат из хорошей московской семьи. Не очень молодой, но вполне ответственный работник горкома партии, вдовый и, что замечательно, бездетный. А ещё сын проректора известного московского института. А ещё внук генерала. Правда, последнего кандидата на руку дочери Артемий Иванович постарался отшить сам – мягко, неназойливо, со всевозможной тактичностью, памятуя о славном прошлом его дедушки. Артемий Иванович почему-то не любил военное ведомство.
И вот-те нате… Зятёк без роду и племени! На свадьбе с его стороны был только сводный брат. А может, молочный, никто толком не понял. Такой же вахлак в погребальном костюме. Не знал, в какой руке вилку держать, и ронял её под стол. Тесть напился со скоростью и неудержимостью протечки сорванного крана. Возвернувшись из больнички после гипертонического криза, он заявил Королёву, что нахлебников на своей шее не потерпит, что дурочку-дочь в обиду не даст и что в его годы порядочные молодые люди, женившись, шли работать.
Королёв рассудительно ответил:
– Полностью с тобой согласен, папаня. Мне и самому каждый день за партой – как серпом… Так что перехожу на заочное, устраиваюсь работать и сажусь писать роман. Пойду, значит, по твоим стопам. А чтобы тут не отсвечивать и не колебать твоё драгоценное давление, буду жить на даче. Давай ключи!
Оторопевший Артемий Иванович безропотно отдал ключи, а Королёв выполнил заявленную программу. Под рыдания молодой, уже беременной, жены он написал заявление о переводе на заочное отделение и устроился в журнал, где я тогда работал.
О журнале – отдельная сага.
Он был отраслевым изданием министерства культуры и назывался просто и мило: «Музейное дело». Выходил на шестидесяти четырёх страницах раз в месяц небольшим тиражом и распространялся исключительно по подписке и рассылке. Редакция журнала располагалась в полуподвале старого дома в районе Абельмановской заставы, аккурат напротив райкома коммунистической партии, куда меня иногда приглашали прочитать лекцию «про искусство» для партийных активистов. Полуподвал напоминал церковный придел – из-за толстых арочных перекрытий и неровно оштукатуренных белёных стен. Первому, кто входил в помещение редакции, надлежало хорошенько потопать и погреметь дверью, чтобы разогнать крыс. А ещё и под ноги посмотреть – однажды машинистка наступила на крохотного крысёныша, которого, вероятно, мать перетаскивала и потеряла в спешке. То-то было визгу…
Пять или шесть человек, представлявшие весь творческий коллектив, были, наверное, самыми незанятыми людьми в отечественной журналистике. Половину номера нашего журнала обычно составляли разнообразные нормативные документы, приказы по министерству и разъяснения, касающиеся музейного дела, а другую половину – статьи специалистов, «вести с мест» и байки старых музейщиков и коллекционеров.
Королёву поручили редактировать информацию и байки. Я ему помогал на первых порах, натаскивал, читал за ним. С тех пор Платоша смотрит на меня как на выдающегося наставника юношества вообще и на своего учителя в частности.
Материалы в редакционном портфеле скапливались сами собой: что-то приходило по почте, что-то приносил с коллегий министерства наш главный – редактор по должности и филателист по призванию. Мы были настолько не заняты в производственном процессе, что обнаглели и придумали график дежурств по редакции, молча одобренный главным. Кто-то один, согласно графику, сидел в конторе на телефоне, пугал грызунов и развлекал машинистку. А остальные – «только что вышли». Дежурить приходилось раз в неделю. Прочие дни мы употребляли по своим надобностям. Главный лизал марки. Его заместитель круглый год рыбачил на Конаковском водохранилище. Ответственный секретарь сражался на даче с колорадским жуком и фитофторозом. Я катался за счёт журнала по музеям всей страны, повышал экспертную квалификацию и собирал материал для кандидатской диссертации. Ещё один сотрудник сочинял исторические страшилки для дюжины газет. И неплохо зарабатывал. А Платон Королёв сидел на даче тестя в Переделкино и тачал роман.
Это продолжалось не месяцы – годы. И плавное течение нашей замечательной жизни не нарушали никакие брёвна и камни. Лишь один раз главного выдернули от кляссеров на внеплановую коллегию министерства, да ещё ответсекретарь как-то опоздал в типографию на подписание номера – утреннюю электричку отменили. Сколько потом было разговоров… Мы не бежали впереди паровоза перестройки и не лепили из ведомственного журнала герценский «Колокол», как некоторые коллеги в других таких же никчемных изданиях, поэтому нас и не трогали за жабры вышестоящие товарищи. О журнале вспоминали только в конце года, утверждая бюджет изданий министерства.
Собирались мы в редакции в дни незаслуженно высокой зарплаты, которую нам не в пример будущим временам регулярно выдавали. Это был и день гонорара, поэтому к нам стекались щедрые авторы. Набивалось полное подземелье. Сдвигали столы и посылали самых молодых за выпивкой. Поскольку в те годы идеология и здравый смысл переживали развод с выпивкой и закуской, то дежурный по нашему крысятнику обязан был занимать очередь в винный магазин у станции метро «Пролетарская». Подходила очередь, появлялись коллеги с сумками, и под матерный комментарий страждущей публики эти сумки наполнялись. А уж закусывали чем-нибудь, что из дому прихватывали. Вяленые подлещики с удочки заместителя главного и огурчики-помидорчики из банок ответственного секретаря шли за деликатес. Зато весело было!
Однажды в таком застолье Королёв и предложил «почитать кусочки» своего романа. Предложение было принято кисло – только разогрелись, только половину запасов прикончили. К тому же всякий журналист мечтает стать писателем, но не всякий способен родить хорошую прозу. Да и что толкового ожидать от сопляка, каковым, без сомнения, Платоша и был в те годы. Поначалу, слушая Королёва, мы ещё выпивали, а потом и о выпивке забыли – смеялись как нанятые. То, что читал Королёв, было, несомненно, прозой – умной, весёлой, гротескной. Конечно, хватало обычной для новичка велеречивости, некоторой несобранности текста, но в целом роман, судя даже по прочитанным фрагментам, был написан удивительно профессионально.
– Да ты у нас, оказывается, просто Чапек! – сказал главный редактор, когда Платоша дочитал свои кусочки.
– Это вряд ли, – скромно улыбнулся будущий романист. – Хватит и того, что я Платон Королёв!
– Где печатать собираешься? – спросил главный. – Если не определился – двинем в «Молодую гвардию», я своими званиями потрясу!
Не знаю, что поспособствовало – трясение званиями или статус зятя писателя-лауреата, но роман Платоши почти мгновенно по тому времени напечатали, буквально через год.
Конспективно о романе.
Один зарубежный учёный совершил научный подвиг – одомашнил жабу. И стал проводить над ней нечеловеческие эксперименты по перестройке мозга, прививая гуманистические ценности. Вскоре у него в квартире обитала целая колония симпатичных пучеглазых существ. Они быстро привыкли к людскому обществу, питались супом и остатками яблочного пирога, который пекла тёща учёного. Самые сообразительные притаскивали учёному тапочки, когда тот приходил, усталый, но довольный, с работы.
Насмотревшись телевизора, где показывали фильмы про секс и убийства, жабы быстро потеряли хрупкие начатки гуманизма. Они научились вырабатывать яд из собственной слюны. Особенно сильным был яд у жаб, которые питались шарлоткой. И вот однажды ночью они насмерть зацеловали учёного, давшего им кров, пищу и цивилизационную перспективу. Не пожалели также жену, тёщу и кота. А потом постепенно просочились на все этажи большого дома.
Через улицу жил другой учёный, философ. Он стал замечать, что у соседей с каждым вечером загорается все меньше окон. Философ назвал сокращение освещённости дома эффектом затухающей Вселенной. Наконец, он сделал в дневнике последнюю запись: сегодня в доме напротив загорелось только одно окно. И тут раздался звонок в дверь. Учёный открыл. На дверном звонке сидела большая пятнистая жаба и приветливо улыбалась.
– Добрый вечер, – сказала жаба. – Можно я у вас немного поживу?
Да, я забыл сказать, что первый роман Платоши назывался «Жабы-убийцы».
До сих пор помню фразу из рецензии известного критика Понукаева: «Молодой автор непримиримо, с большой художественной силой вскрывает антигуманистическую сущность буржуазной науки – служанки чистогана и политиканства». За непримиримость и художественную силу Королёва тут же приняли в Союз писателей. Неделю мы обмывали в редакции два события: роман Платоши и защиту моей кандидатской. Пьяненький главный редактор даже прослезился:
– Я горд и счастлив, ребятки, что живу в одну геологическую эпоху с такими монстрами разума!
И тесть-лауреат смягчился, пригласил Платошу в гости в писательский дом в Безбожном переулке, налил стопарь:
– Молодец, засранец, но не заносись, не заносись… И запомни: одну книгу может написать любой начитанный придурок. Две – тот же придурок, но очень сильно напрягаясь. А третью книгу выдает либо состоявшийся писатель, либо состоявшийся графоман.
– А двадцать третью книгу может выдать состоявшийся графоман? – спросил Королёв, невинно хлопая длинными ресницами.
– Истинный засранец, – сказал Артемий Иванович без выражения. – Ну и пошёл на хер!
Хрупкий мир в семье опять был нарушен: именно тесть и написал двадцать три книги, о чем не уставал поминать во всех статьях и интервью. Королёв снова безвылазно засел на даче и начал писать второй роман. Запала у него хватало, но тут кончился запал у перестройки.
3. МАКОВСКИЙ. «РАЗГОВОРЫ ПО ХОЗЯЙСТВУ». 1868.
Департамент, где я служу, стоит в узком кривом переулке, который одним концом упирается в такой же кривой переулок, а другим выходит на Маросейку. География здесь тесно переплетается с историей, если, конечно, знать то и другое. В нашем переулке стоит полдесятка старых и обшарпанных зданий времен Очакова и покоренья Крыма, с дворами-колодцами, где летом воняет мочой и плесенью, а зимой не пролезть из-за серых сугробов. Хоть и относятся здания к памятникам архитектуры, но перестраивают их в хвост и в гриву. Департамент расположен в небольшом, похожем на казарму, уродливом доме в три этажа без всяких декоративных финтифлюшек. К нему в конце шестидесятых пристроили коробку из стекла и бетона в семь этажей, которую с тех пор мыли только дожди. Это безобразие так и называется: старый корпус, новый корпус. Мой скромный кабинет – в старом, а начальство сидит в новом. Чтобы попасть в начальственные апартаменты, надо пройти вестибюль старого корпуса и подняться на лифте.
В Париже есть правительственное учреждение, по функциям схожее с нашим департаментом. Оно располагается в особняке на Елисейских полях. Там даже в коридорах – лепнина и полотна старых мастеров. Сразу видно, что попал в учреждение культуры. Ellos no tienen problemas. У них нет проблем.
В нашем департаменте – бетонные коридоры, вымазанные шаровой краской. Их украшают потёртый коричневый линолеум, грязные разводы на потолке и канцелярские столы, за которыми работать из-за ветхости уже нельзя, а выбросить жалко. Вот и выставляют в коридоры. Об эти столы посетители, протискиваясь, отшибают тазобедренные кости, пугая тощих и шустрых, как борзые, тараканов. По тараканам тоже сразу видно, что попал в учреждение культуры, потому что именно культура у нас финансируется по остаточному принципу, и на геноцид тараканов, на ремонт, а тем паче на разные украшательства денег в бюджете сроду нема. No tengo dinero.
На вахте сидел незнакомый молодой охранник с взглядом яичницы-глазуньи. Этот вполне мог застрелить при попытке прорыва к лифту. Пришлось покопаться в портфеле и достать удостоверение. Охранник долго сверлил зрачками документ, и я не выдержал:
– Что, буквы мелкие?
Он ничего не ответил, достал из стола довольно увесистый талмуд – список сотрудников департамента, и демонстративно повёл пальцем по строчкам, поглядывая в моё удостоверение. Начиналась отечественная клиника: маленький человек строил из себя большого. Зуб сначала заныл, а потом затикал, будто ходики, – так в нём отдавался пульс. Я тоже демонстративно сел на потёртый диванчик поблизости, достал вчерашнюю газету и загородился бумажной стеной от человечества.
– Проходите, – сдался охранник.
Ни в лифте, ни в коридоре не попалось ни одной знакомой души. И хорошо – иначе надо здороваться, интересоваться делами и всячески изображать приветливость и добросердечие. Я числюсь в департаменте человеком приветливым и добросердечным. Эти поверхностные, а не глубинные свойства характера образовались в годы моих занятий журналистикой, когда вилять хвостом и показывать дёсны надо было, чтобы расположить к себе любого обладателя нужной информации.
В приёмной Клюшкина признаки жизни подавал только древний факс, из которого со скрежетом и стоном выползал очередной циркуляр. Секретарша Леночка, по всей видимости, уже обедала. Либо пила кофе в буфете старого корпуса. Либо курила на лестнице. В общем, вела активную деловую жизнь. Леночку сегодня мне тоже не хотелось видеть.
Поэтому я без помех просочился в мрачный кабинет Клюшкина, заставленный тёмными полированными шкафами с заплесневелыми папками, коробками и неподъёмными фолиантами. Возле стола с приставкой стояло четыре стула с высокими спинками, обтянутыми серой гобеленовой тканью. На стульях лежали бумаги. Клюшкин никогда не выбрасывает приказов, распоряжений и разного рода отношений, которые сыпались на него, словно из рога изобилия. Вернее, из двух рогов сразу – из канцелярии министерства и канцелярии департамента. Прочитав бумаги, он раскладывает их по всей территории кабинета – в шкаф, на стол, на стул. Только не на подоконник. Потому что единственный, широкий и длинный, подоконник занимают разнокалиберные горшочки с кактусами. Иногда очередной кактус зацветает, и тогда Клюшкин радостно над ним кудахчет, словно лично снёс колючее яйцо.
Клюшкин как раз ковырялся в горшочках красным детским совком, подсыпая субстанцию, похожую на сенную труху.
– Здравствуйте, ваше высокопревосходительство, – поклонился я спине патрона, обтянутой строгим серым пиджаком.
Диплом в университете он защищал в жёлтой блузе – под Маяковского косил. У меня карьера как-то не задалась, я всё больше искусством занимался. А Клюшкин, комсомольский активист, успел поработать в разнообразных государственных структурах ещё в советские времена. И сегодня оказался востребованным вместе с остальными комсомольскими активистами. Теперь Клюшкин возглавляет наше Управление и тоже занимается искусством. Как может, так и занимается. Жёлтую блузу он сменил на костюм с галстуком и из этой шкуры больше не вылезает. И китайское проклятье «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!» не про него…
В начале революции-контрреволюции, когда я последний хлеб без соли доедал, когда мои высокоучёные статьи о колористике никому не были нужны, когда жена с сыном и тёщей уехали в Германию, Клюшкин нашёл меня и предложил Дело. Поначалу оно показалось достаточно мелким и грязным, если не сказать, мерзким… Но по здравому размышлению, судари мои, решил: не я, позвольте заметить, начал все эти радикальные преобразования. Я любил свое дело, оно кормило, меня уважали в профессиональной среде. И в одночасье, из-за социальных экспериментов, которые затеяли недожравшие сукины дети разных народов, я потерял всё: работу, семью, средства к существованию. Поэтому и пошёл к Клюшкину. Полностью наша шестая палата называется так: Управление по контролю Департамента охраны исторического наследия государственного Комитета по вопросам интеллектуальной собственности. Заходите… Я числюсь в Управлении главным инспектором. Такую должность Клюшкин сам выдумал и пробил в штатное расписание. В остальных управлениях департамента подобных синекур нет. В Москве, где инспекторов, в том числе и главных, – до субботы не перевешать, моим званием никого не напугаешь. Зато оно очень выручает в командировках – наша провинция ещё трепетно относится к титулам.