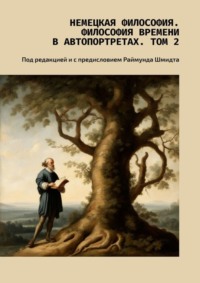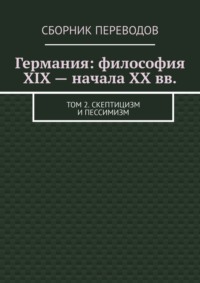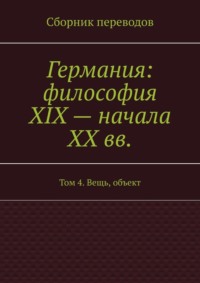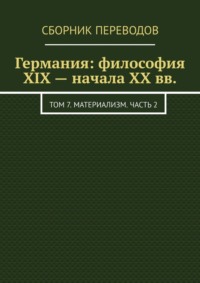Полная версия
Неокантианство. Десятый том. Сборник эссе, статей, текстов книг
На французской почве монизм представляли Фуйе (1838—1912) и Гюйо (1854—1888). Первый из них обнаруживает несомненное родство с Вундтом. Он учит эволюционизму силовых идей, т.е. волюнтаристскому спиритуализму. Второй – привлекательный поэт-философ, в некотором роде французский Ницше. Монизм, по-видимому, менее влиятелен в англосаксонском мире, что, вероятно, связано с его меньшей восприимчивостью к чисто мирскому пониманию жизни. Там теизм имеет большое значение в философии гораздо дольше, чем в Германии, где в последние десятилетия он был совершенно незначителен. Однако сегодня его положение там отнюдь не остается прежним. За последние двадцать лет пантеистический монизм проник и в англосаксонский мир, консервативная культурная стабильность которого в последнее время также претерпела значительные изменения. Не менее известный человек, чем Джемс, свидетельствовал в 1907 году: «В последние годы в наших британских и американских университетах дуалистический теизм приходит в упадок, сменяясь более или менее явным или скрытым монистическим пантеизмом. У меня сложилось впечатление, что со времен Т. Х. Грина (1836—1882 гг.) абсолютный идеализм в Оксфорде заметно усилился. То же самое можно сказать и о моем Гарвардском университете». В качестве особенно эффективных представителей «монистического идеализма» Джемс имеет в виду Брэдли в Англии и Ройса в Америке. Форма, в которой монизм проявляется в англосаксонском мире, обычно больше напоминает современный немецкий пантеизм, чем немецкий диалектический монизм столетней давности. Этот англосаксонский монизм сохраняет также понятие абсолюта, до недавнего времени исчезнувшее из немецкой философии, и понимает его как единство сознания, в котором отдельные человеческие сферы сознания содержатся как части. – Немецко-американский Пауль Карюс имеет ярко выраженную позитивистскую окраску и оказал влияние на развитие философии благодаря основанным им журналам «The Monist» и «The Open Court», а также многочисленным философским трудам и переводам.
Хотя пантеизм все еще имеет значительную популярность в Германии, его уже нельзя назвать авторитетной метафизикой. Даже в период своего расцвета он не был всемогущим. Вундт, который был во многом близок к нему и чьи труды фактически проложили ему дорогу, создав волюнтаристско-спиритуалистический монизм, всегда отвергал его лично как последнее слово. По его мнению, основание мира можно только постулировать. Мы ничего не знаем о его свойствах, можем только предполагать, что наш нравственный идеал человечества возникает как его следствие. Еще дальше от монизма отошел Юккен, которого следует рассматривать как метафизического предтечу новой эпохи. Некоторые другие мыслители, такие как Либманн, Фолькельт и Кюльпе, также продолжали идти своим путем.
То, что давно зарождалось в глубине души, в последнее время проявилось с особой силой: новая метафизика – это относительно замкнутое философское течение. Его породила сама научная ситуация, и именно потому, что речь идет не о сугубо личных убеждениях, а о мыслях, являющихся результатом позитивного исследования, они обладают неодолимой силой продвижения и победоносного распространения. Весь монистический мир мысли сейчас тонет в науке. Его основной тезис: механический характер мира – выкорчеван самим физическим исследованием. Основные механические законы, которые десятилетиями прославлялись как универсальные законы мира, действуют лишь в ограниченных областях, даже в неорганической природе. На смену монизму приходит новый дуализм или даже плюрализм, пантеизму – теизм. Таким образом, речь идет о весьма глубокой трансформации, фундаментальный характер которой практически не осознается ни в специализированных кругах, ни тем более широкой общественностью. Основные мотивы трансформации метафизических убеждений по-прежнему исходят от дисциплин, ориентированных на жизненный мир, поскольку круг идей теории относительности пока не оказал глубокого влияния на философию.
Уже некоторое время существует непосредственный и убедительный повод для формирования новых метафизических гипотез, особенно в биологии. Прошло то время, когда на основе дарвиновской доктрины отбора очевидные различия между органическими и неорганическими образованиями (особенно простыми агрегатами) легко игнорировались и объявлялись образованиями, принципиально не отличающимися от неорганических. Сегодня в биологии вновь преобладает убеждение, что организмы имеют свои собственные законы. Их телеологическая структура не может быть объяснена механическими случайностями. Именно их существование в первую очередь порождает метафизические гипотезы. Необходимо постулировать факторы, формирующие структуру организмов, и попытаться уточнить их природу и способ действия.
Сформулировать такие гипотезы взялись, в частности, два исследователя: ботаник Рейнке и философ, первоначально работавший как зоолог, Дриш. Рейнке опирается на теизм. Считается, что первые организмы были прямым творением Бога, дальнейшее развитие происходило без специального вмешательства Бога и было вызвано специальными целенаправленными, разумными, органическими силами, которые используют неорганическую материю и лишь изменяют направление неорганических сил, так что конфликт с энергетическим принципом исключен. Дриш сформулировал и обосновал новый витализм логически гораздо более четко и к тому же раньше, чем Рейнке, который в некоторых отношениях еще проявляет себя философским дилетантом.
Точность его мышления даже неоднократно вызывала обвинения в схоластике. Повторяя аристотелевские идеи и выражения, он предполагает наличие особого биологического «природного фактора», который он называет «энтелехией». Хотя она действует в пространстве, сама она непространственна, является интенсивной множественностью высшего рода. Сама она не имеет психической природы, но ее действие может быть понято только по аналогии с целенаправленным действием человека (поэтому Дриш называет ее также «психоидной»). Предполагается, что сама жизнь души является оттоком психоида. Углубление, которое внес Дриш в концептуальную фиксацию природы организмов, заключается, в частности, в преодолении теории машин, которая во многих случаях продолжает действовать даже среди противников механистического взгляда: организм – это гораздо больше, чем машина, поскольку ни одна машина не производит себе подобных и обладает способностью к регенерации и другими удивительными свойствами организмов. Дриш также тщательно избегает конфликта с принципом энергии, в то время как Бехер и Остеррейх уже не избегают такого конфликта. Дриш также ссылается на идею высшей мировой телеархии, хотя его позиция менее решительна, чем у Рейнке, поскольку строгое доказательство здесь невозможно.
Влияние этой неовиталистической метафизики распространяется уже глубоко в кругах позитивных исследований (Якоб фон Уэкскюлль, Визнер, Р. Х. Френке, Хертвиг и др.).
Эдуард фон Хартманн уже предвосхитил теории неовитализма в существенных моментах, с вполне соответствующими обоснованиями, но не произвел никакого впечатления на науку в эпоху механицизма.
Пока импульсы, идущие из духовного мира для формирования метафизических идей, носят не столько теоретический, сколько религиозный характер. Однако ситуация для метафизики необычайно облегчается, ей прямо и наглядно способствуют изменившиеся взгляды в области психологии. На смену прежним попыткам привести психическое в максимально возможную аналогию с физическим пришло осознание того, что эти два явления совершенно различны по своей сути. Особое значение для метафизики имеет возврат к предположению о наличии специфического эго-фактора, отказ от «психологии без души», а затем повторный отказ от теории психофизического параллелизма и переход к теории взаимодействия физиса и психики. В обоих случаях произошедшее изменение означает повторное признание опыта и отказ от конструктивных теорий, которые были обязаны своим возникновением исключительно потребностям механистического мировоззрения. Свобода также вновь признается (Вентшер, Герман Шварц, Р. Манно, Джоэл, Остеррейх) и даже пытается быть доказанной с помощью экспериментальной психологии (Ач).
Другой поток новой метафизики исходит из исторических гуманитарных наук.
Речь идет не столько о создании полной каузальной связи между реальностями через допущение метафизических потенций, сколько об интерпретации смыслового контекста реальности, которая невозможна без метафизических гипотез. Основной метафизический мотив смысловой интерпретации реальности с наибольшей ясностью проявляется в наиболее влиятельной современной немецкой метафизике Эйкена, которая имеет влияние далеко за пределами страны и носит ярко выраженный антиномистический, дуалистический характер. С самого начала она предстает не как строго доказуемая доктрина, а как гипотеза. В качестве недоказуемой и недоказуемой основной догмы Эйкен ставит во главу метафизики то же положение, на котором уже покоился немецкий идеализм (с которым Эйкен в целом имеет явное родство), а именно: реальность имеет смысл. И его метафизика призвана показать, при каких условиях мир обладает таким высшим смыслом. В итоге ему представляется необходимым, чтобы в мире существовало не только известное нам из опыта обилие человеческих личностей, но и высшая надличностная духовная жизнь, в которой они участвуют или, по крайней мере, могут участвовать. Если бы существовал только духовный мир чисто эгоистически-эвдемонистически ориентированных индивидов, как это так часто подтасовывают биологические наблюдения, то мир сам по себе был бы бессмысленным. Над ним должен существовать высший духовный мир. Но человек не участвует в нем по своей природе, он должен сначала обрести это участие. А это возможно только в том случае, если он коренным образом порвет со своим природным эгоцентризмом. Только глубокое внутреннее обращение, метанойя, духовное обращение может привести к этому. Однако это участие ни в коем случае не ограничивается моральной или религиозной сферой в узком смысле слова, но везде, где человек поднимается над собой, т.е. также в научной и художественной деятельности, в той мере, в какой она является подлинной, происходит участие человека в высшей духовной жизни. С преданным энтузиазмом Эйкен неоднократно отстаивал эти основные идеи в различных вариациях в своих многочисленных работах с энергией реформатора, скорее проповедующего, чем преподающего науку. Таким образом, он гораздо ближе к христианству, чем к монистическо-пантеистической метафизике современности. Он не обожествляет ни мир природы, ни человека; напротив, его метафизика содержит тона, которые звучат резко дуалистически и напоминают трансцендентальный, немировоззренческий мистицизм Средневековья, столь же мало согласуясь с традиционным, теологически позитивным христианством наших дней.
С убеждениями Эйкена тесно связаны убеждения Троельцха. Он – немецкий метафизик, вышедший в эпистемологическом поле из неокантианства, в частности из Бадена, поскольку неприятие метафизики в этой ветви немецкого неокритицизма выражено несколько слабее, чем в других течениях. Троельцш также исходит из того, что в религиозной сфере, а также в познании, морали и эстетике существуют априорные принципы разума, которые в эмпирической реальности, правда, смешиваются с чисто фактическим и иррациональным, но тем не менее составляют эти области в той мере, в какой они разумны, рациональны и необходимы, и подлежат определению философией религии. В отличие от остальных представителей неокантианства, Троельцш отрицает чисто механический характер мира. Духовный мир не подчиняется научной причинности. Да, существуют и эмпирические переживания божественного: всякая религиозность имеет своей основой мистический опыт. – Эпистемологическая проблема, заключенная в религиозных состояниях, была разработана Остеррейхом. Она заключается в вопросе о том, может ли божественное быть непосредственно пережито и каким образом.
Метафизическая школа мысли, которая сегодня постепенно одерживает верх в Германии, вновь стала теистической. Поразительно, что теистические идеи вновь появляются с самых разных сторон. Среди психологов Кюльпе долгое время преподавал монадологически ориентированную теистическую метафизику. Фолькельт тоже долгое время отдавал дань теизму, основанному, по сути, на эстетических идеях, и имел явное родство с ХР. Х. Вейссе (1801—1866), учителем Лотце, для которого он имел огромное значение, и Германном Шварцем. В последнее время теизм получил поддержку в кругу Брентпано, Гуссерля теистическая идея стала научно неотъемлемой. Эренфельс и Шелер, находившийся на этапе перехода к неосхоластицизму, также приняли теистическую гипотезу. Главное теистическое сочинение Брентано, как только оно появилось в печати, по всей видимости, на некоторое время осталось основным метафизическим произведением, в котором он увидел главный философский плод своей долгой жизни и которое, как можно предположить, защищало теистическую идею со всей изобретательностью, которой он обладал. Однако говорить о влиянии теизма на более широкие круги пока не представляется возможным. Тем не менее, уже нет сомнений в том, что теистическая проблема в ближайшем будущем станет одной из основных в философии религии. Современная метафизика, таким образом, ведет к школе мысли, занявшей ведущее место в середине XIX века и представляющей собой важное философское развитие, значение которого сегодня еще не осознано, к которой принадлежал и самый выдающийся немецкий мыслитель постгегелевского периода Лотце. Разница, прежде всего, в том, что сегодня проблема теизма продумывается во всех направлениях более смело, чем тогда, и без заранее принятых решений. В частности, предметом дискуссии является отношение Бога к миру: является ли мир творением Бога или стоит рядом с ним как самостоятельное существо. Именно проблема теодицеи [оправдания Бога – wp] вновь начинает рассматриваться с пристрастием. Эренфельс пытается реализовать трансцендентальный дуализм на основе эмпирического характера мира. Дриш и Остеррайх также вновь ставят эту проблему на обсуждение.
О силе новой метафизической волны лучше всего говорит тот факт, что она отразилась и на тех кругах, которые долгое время были настроены враждебно по отношению к метафизике, прежде всего на неокантианстве. Наиболее ярко это проявилось у Виндельбанда. В полном противоречии со своей теорией познания, исключающей допущение трансцендентных вещей как таковых, он выдвинул в философии религии постулат о трансцендентном существовании некоего бытия, «священного», состоящего из ценностей абсолютно истинного, абсолютно доброго и абсолютно прекрасного. Абсолютные нормы, таким образом, должны существовать не только в форме ought, но и иметь более осязаемое существование в трансцендентном. Неокантианство Марбурга было гораздо более сдержанным.
Но и Коген в своей последней работе, посвященной «понятию религии», демонстрирует гораздо менее враждебное отношение к метафизике, чем прежде. У Наторпа метафизический момент присутствует, хотя и неосознанно, в его идее «непосредственного» опыта», предшествующего всякому знанию, что чрезвычайно напоминает мысли Бергсона. Метафизическое влияние в более позднем развитии Зиммеля еще более выражено, поскольку в эпистемологическом отношении он недалеко ушел от марбуржцев. Его последние работы полны метафизических идей, хотя, как всегда, он избегает делать окончательное утверждение. Тем не менее, достаточно очевидно, что эти идеи в конечном счете имели для него совершенно иное значение, чем в прежние времена. Даже в рамках позитивизма наблюдается стремление приспособиться к метафизическому течению. В Германии Вайхингер требует метафизической свободы мысли. Даже если наше научное знание – не более чем биологические акты цели, ничто не мешает нам сохранить или сформировать новые религиозные мысли, имеющие биологическую ценность. Адикес также принимает метафизику как веру.
В связи с обновленным формированием метафизических гипотез тенденции современности, направленные на обретение целостного, научно обоснованного мировоззрения, проявляются в непосредственной форме через попытки синтезов более всеобъемлющего характера. Замыкание философии на эпистемологию уходит в прошлое. Во всех областях вновь проявляется стремление к содержательному мышлению. В последние два десятилетия к эпистемологии естественных наук присоединилась новая объективная философия природы (Оствальд, Бехер). Остеррейх попытался разработать мировоззрение, охватывающее как материальный, так и духовный мир с точки зрения настоящего времени. За ним последовали другие (Коппельманн и др.).
С пробуждением осознания общей задачи философии культура также вновь стала объектом философского осмысления, к которому ее впервые привлек Гегель. Однако мы еще не имеем дело с фактически новой философской дисциплиной. Для этого работы в этой области все еще носят слишком замкнутый и субъективный характер, равно как и достаточно широко распространенный в ней философский дилетантизм. Доминирующая базовая проблема – это проблема культурных ценностей. Каковы ценности нашей европейской культуры и соответствует ли ее нынешнее состояние тому идеалу культуры, который мы имеем в виду? Таковы основные вопросы, волнующие современную философию культуры.
Таким образом, общая теория стоимости стала философской необходимостью. До сих пор она несомненно находилась на заднем плане философской дискуссии. Эстетика даже в значительной степени отделилась от других философских дисциплин. В этике позитивистский релятивизм уже давно преодолен. Успешную борьбу с ним уже на заре современной философии начали, с одной стороны, неокантианство почти во всей его полноте, а затем Брентано – с другой. Разумеется, в том же направлении движется и феноменология. В Англии также успешно возникла абсолютная этика, направленная против традиционной утилитарно-эвдемонистической тенденции, представители которой также принадлежат к английской феноменологии (Moore, Russell). Виндельбанд даже хотел видеть сущность философии в том, что она является наукой о ценностях. Если все позитивные науки, по его мнению, имеют своим объектом факты, то философия должна отвечать за установление стандартов. Она должна определиться между фактическими суждениями, сказать, что в действительности является истинным, хорошим и прекрасным или ложным, плохим и непривлекательным. Однако Виндельбанд, по сути, ограничился позицией задачи. Затем Мюнстерберг и Риккерт предприняли попытки разработать системы ценностей. Попытки поднять тотальность культуры до соответствующего философского сознания предпринимались, однако, лишь более поздними мыслителями (Jonas Cohn, Hammacher). Без осознанной методологии, но с инстинктом большого таланта к гуманитарным наукам и философии культуры, все это поле с конца семидесятых годов восьмого десятилетия прошлого века перепахивал филолог Ницше. И до сих пор его труды являются самым живым брожением в немецкой философии. Он сразу же поставил перед философией высочайшую задачу: быть учителем всей культуры. И в страстной реакции против злоупотреблений времени он предпринимает попытку «переоценки всех ценностей», причем скорее в тоне интеллектуального диктатора, чем исследователя, не вдаваясь в логические основания своих попыток переоценки. Его ненависть направлена прежде всего на христианство и социализм. И в том, и в другом он находит преобладающей тенденцию сделать нормой действия массу менее или совсем не ценных индивидов, а не заботу о ценной личности. Христианство представляется ему разрушителем древней культуры, социализм – ее прямым преемником в настоящем. И то, и другое привело к тому, что ценности власти и силы были полностью вытеснены идеалом альтруизма и жертвования своей индивидуальностью. В противовес этому он призывает вернуться к якобы аристократически-античному идеалу человека-хозяина, который «вне добра и зла». Эта идея доведена до безудержного прославления преступника, а в адрес христианства выливается поток ругательств. Почти внезапно рядом с ней возникает другое течение мысли, которое делает Ницше прямым наследником культурной идеи классической немецкой эпохи. Полностью игнорируя политическую жизнь, он, как «последний антиполитический немец», считает духовную культуру единственно ценной в жизни народов, и эта идея переходит у Ницше непосредственно в культурный космополитизм, важнейшим представителем которого он является сегодня. Эта вторая сторона его философствования до сих пор оставалась почти незамеченной по сравнению с первой, хотя она, безусловно, более ценна.
Полностью развитая философия культуры включала бы в себя и содержательную философию истории, задающуюся вопросом о ходе исторического развития – вопросом, на который исторические исследования, становящиеся все более фрагментарными и детально проработанными, и горизонт которых обычно не выходит за рамки отдельного процесса, не дают ответа. Выше уже подчеркивалось, что современная философия истории по большей части остается эпистемологией. В настоящее время философия все еще не имеет полного представления о своей общей задаче в области интеллектуальной истории. Она явно страдает от переизбытка исторического материала, что создает чрезвычайные трудности для любых попыток синтеза. С другой стороны, можно сказать, что подлинно творческий дух высшего порядка никогда не был подавлен обилием материала. Наиболее значительная попытка интеллектуального освоения общей массы исторического материала была предпринята Якобом Бюркхардтом (она была опубликована совсем недавно, значительно позже его смерти). Несмотря на принципиальное неприятие Бюркхардтом всякой философии истории, его «Weltgeschichtliche Betrachtungen» представляют собой наиболее глубокую философию истории со времен Гегеля, поскольку в них развиваются общие положения о взаимоотношении трех великих сил исторической жизни, которые он выделяет: государства, религии, культуры. Кроме того, следует отметить идеи Дильтея о ценностных контекстах и смысле истории, которые также выходят за рамки чисто эпистемологических. Школа Лампрехта выдвинула новые идеи, вызвавшие резкий отпор со стороны позитивистов, поскольку была сделана попытка показать общие типичные формы развития культуры у всех народов, что должно даже позволить по аналогии определять общее состояние соответствующей культуры по мельчайшим культурным фрагментам. В последнее время Вундт предпринял попытку создания философии истории и нового структурирования хода истории. Тем не менее, его попытки страдают от того, что первобытным народам уделяется относительно больше внимания, чем цивилизованным. Философия истории Наторпа и Шпенглера появилась еще позднее. Общая убежденность в разрешимости исторических событий в отношениях между людьми, безусловный отказ от предположения о наличии каких-либо индивидуальных духовных потенций, действующих в исторической жизни (пусть и при посредничестве людей) и представляющих собой аналог виталистических факторов биологии, обусловили и заметное отсутствие крупных попыток философии истории в эпоху историзма. Есть признаки того, что эта гипотеза, получившая широкое распространение в романтизме под названием «идея», может вернуться к жизни (Дриш и др.).
Поворот к метафизике начался гораздо раньше, чем в Германии, во Франции, процесс философского развития которой не был прерван в своей исторической непрерывности материалистической реакцией на пышность натурфилософии, как это было в Германии. Так, мы видим, что даже самый значительный французский неокритик XIX века Ренувьер сохранил многие метафизические идеи, заложенные в системе Канта, тогда как немецким неокантианством они были фактически устранены все без исключения. В частности, Ренувье сохранил идеи свободы и бессмертия; более того, свобода, которую Кант допускал только в отношении нуменального мира, была вновь заявлена для мира феноменального. Другие французские мыслители также придерживались идеи свободы. Сегодня она является одной из общепризнанных доктрин французской метафизики. Бутруа предпринял проницательную попытку доказать, что случайность отнюдь не ограничивается человеческой волей, а является широко распространенным явлением в природе. Своей вершины французская метафизика достигла в лице Бергсона, самого влиятельного мыслителя в современном мире. Его философия представляет собой своеобразную смесь эмпириокритицизма, спиритуализма и неовитализма. Он учит, что наше восприятие совпадает с самими вещами, что за миром стоит нечто духовное, жизненное, которое движет мир вперед в свободных творческих, непредсказуемых действиях, особенно в органическом развитии; для него Бог не есть завершенное существо, но для него Бог также находится в постоянном процессе становления: Dieu se fait [Бог становится – wp]. Таким образом, идея эволюции распространяется на самого Бога. В особых актах интуиции должно быть возможно вернуться к этому жизненному импульсу и таким образом проникнуть во внутренние механизмы мира. В отличие от материи, пространственно протяженной и прежде всего количественной, актуальная психическая жизнь, к которой Бергсон, по-видимому, относит и жизненный импульс, должна быть чисто качественной или, как он скорее говорит, чисто интенсивной и чисто длительной. Бергсон также полностью пересматривает отношения между телом и душой. Жизнь души не ставится в полную зависимость от тела, напротив, «чистая память» описывается как полностью независимая от мозга. Предполагается, что с помощью этого органа организм просто делает биологически целесообразный выбор из бесчисленных воспоминаний, доступных разуму. Представленные блестящим ярким языком, эти идеи оказали необычайно большое влияние, несмотря на множество несомненных двусмысленностей и на то, что они не являются ни биологически, ни психопатологически убедительными.