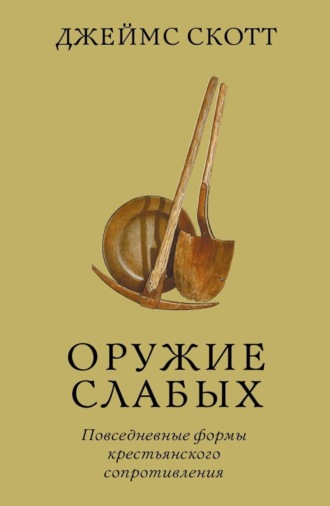
Полная версия
Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления
После того как простой гроб был почти готов, Амин, лучший плотник в деревне, стал добавлять какие-то небольшие декоративные штрихи на его торцах. «Не нужно никаких украшений», – сказал Ариффин, и Амин ушёл. Когда они несли гроб к дому Хамзаха, где лежала Мазнах, кто-то из селян оценил работу Амина словом «убого» (лекех)[35].
Когда я возвращался к себе домой, мне повстречалась небольшая компания подруг жены Пака Хаджи Качура, которые обсуждали смерть ребёнка. Все они, кажется, были согласны с тем, что Разак и Азиза во многом были сами виноваты в случившемся. Ведь это они позавчера взяли свою больную дочь на пиршество к Рокиах, накормили её едой, которую ей не следовало есть, и не давали ей спать до самого утра. «Они совсем плохо едят, вот им и приходится таскаться по чужим пирам» (Maканан так джемух, кема тумпан кендури оран), – сказала жена Тока Касима. Я попросил, чтобы они подробно описали для меня скудный рацион семьи Разака. На завтрак, если в доме имелись хоть какие-то деньги, у них были кофе и, возможно, маниока или немного холодного риса, оставшегося со вчерашнего дня. А если денег не было – только вода. А воду, добавил кто-то из женщин, семья Разака пила из той же канавы, которая предназначалась для купания. Какая-нибудь каша появлялась на их столе редко, молоко – никогда, а сахар – в считанных случаях, лишь когда Азиза привозила его от своих родственников в Дулане. Для сравнения, староста деревни Хаджи Джаафар, обычно завтракавший в городской кофейне, ел там кашу или жареный плоский хлеб с сахаром либо карри, разнообразные пирожные и сладости из клейкого риса и пил кофе с подслащённым сгущённым молоком. Обед – основное время приёма пищи среди селян – у семьи Разака, как правило, состоял из риса, овощей, которые можно было бесплатно собрать в деревне[36], и, если позволяли средства, небольшого количества сушёной рыбы или самой дешёвой рыбы с рынка. Никто никогда не видел, чтобы Разак покупал овощи. Свежую рыбу, когда она была доступна его семье, обычно готовили на открытом огне, поскольку они редко могли позволить себе купить самое дешёвое растительное масло за 30 центов. Полуденная трапеза Хаджи Джаафара, напротив, была выражением и его богатства, и довольно шикарных вкусов: аппетитное карри из самой дорогой рыбы и рыночных овощей, а также, по меньшей мере два раза в неделю, мясо – позволить себе эту роскошь за деньги Разак не мог никогда.
Домашнее хозяйство Разака, как и его пищу, отличало не столько то, что в нём было, сколько тем, что в нём отсутствовало. У супругов не было москитной сетки – вот почему руки и ноги их детей часто были покрыты струпьями от старых укусов. Возможно, раз в год они покупали кусок самого дешёвого мыла. За столом им приходилось делить на всех три оловянные тарелки и две чашки. У них не было даже традиционных циновок для сна – вместо них они использовали старую, выброшенную кем-то пластиковую простыню, которую Разак нашёл на рынке. Что касается одежды, то Азиза не покупала саронг[37] со дня своей свадьбы, обходясь вместо этого изношенным куском ткани, который дала ей жена Басира. Одна пара брюк и единственная рубашка Разака были куплены три года назад, когда в ломбарде проходила распродажа ношеной одежды, которая не была выкуплена у ростовщиков. Как заметил Сик Путех, ответственность за эту плачевную ситуацию полностью лежала на Разаке: «У него есть земля, но он не хочет её возделывать… Он всегда ищет кратчайшие пути (Селалу чари джалан пендек)… Он сначала берёт деньги, а потом не хочет приходить молотить рис… Сейчас те, кому тяжело, умнеют; в наши дни стало больше мошенничества».
Звук мотоциклетных двигателей неподалёку сообщил, что тело уже подготовлено к погребению и похоронная процессия вот-вот начнётся. Когда хоронят взрослого человека, гроб обычно несут пару миль до мечети, а позади его сопровождают люди, идущие пешком или едущие на велосипедах и мотоциклах. Но поскольку Мазнах была слишком маленькой и лёгкой, Хамзах, её дядя, взял её тело, завёрнутое в новую батиковую ткань, перекинул его через плечо, как патронташ, и пристроился пассажиром позади Басира, ехавшего на своей «Хонде 70». Простой гроб везли на мотоцикле Амина – его держал поперёк сидения Гани Лебай Мат. Вся процессия, включая Разака и меня, включала одиннадцать человек, и это был первый на моей памяти случай, когда похоронный кортеж полностью состоял из мотоциклов. Жители деревни, а затем и китайские лавочники в Кепала-Батасе ненадолго останавливались, чтобы поглазеть на проезжающую мимо процессию.
Когда мы прибыли на кладбище, расположенное рядом с мечетью, её смотритель Ток Сиак и его помощник всё ещё копали могилу. Тело Мазнах, накрытое хлопчатобумажной простыней, осторожно извлекли из батиковой ткани и положили в гроб на бок таким образом, чтобы её лицо было обращено к Мекке. Чтобы тело не сдвинулось с места, к спине прижали большой ком глины, вынутый из могилы. Затем Ток Сиак стал вычерпывать воду из ямы старой жестянкой из-под печенья: место погребения находилось на земле, осушённой для выращивания риса, а в это время начинались сезонные дожди. Молитвенная церемония, которую возглавил Лебай Сабрани, заняла менее десяти минут. После того как она завершилась, большинство мужчин вошли в мечеть, чтобы помолиться за душу Мазнах. Когда они вышли, Басир вручил им конверты, в каждом из которых, согласно обычаю, находились деньги – один ринггит[38]. Шестеро молившихся мужчин вернули конверты. Жители деревни верили, что эти молитвы помогают облегчить бремя греха и ускорить путь души на небеса – чем больше людей участвуют в молитве, тем быстрее душа совершает этот путь. На обратном пути в деревню я спросил Амина, почему на похоронах было так мало людей. По его словам, поскольку Мазнах была совсем маленькая, на ней было немного грехов, и поэтому не так уж важно, чтобы за неё молилось много людей. Однако это был деликатный вопрос, ведь оба мы помнили, как месяцем ранее, когда хоронили внучку Ток Саха, людей на кладбище пришло в два-три раза больше.
В тот вечер в доме Хамзаха снова были устроены небольшие поминки[39]. На них пришло не более пятнадцати человек, под началом Хаджи Кадира были совершены короткие исламские молитвы и песнопения. На кофе, плоский хлеб с сахаром и крестьянские сигареты ушло меньше 12 ринггитов – эти расходы частично удалось покрыть «мгновенными» пожертвованиями монет. На Разака, как обычно, не обращали внимания – он был незаметен. Позже, когда мы с Яакубом возвращались домой по деревенской дороге, он спросил, не обратил ли я внимание на то, что закончился табак, поскольку Разак припрятал немного, чтобы потом выкурить его самому. «Мелочный человек», – резюмировал Яакуб.
Три или четыре дня спустя Разак рано утром объявился у ступеней моего дома, ожидая, когда я попрошу его подняться. Всякий раз он приходил ко мне достаточно рано, чтобы никого не было поблизости, а если кто-то действительно появлялся, он замолкал и при первой же возможности уходил. Несмотря на то, что сплетни о Разаке давно пробуждали моё любопытство, я уже стал избегать много говорить с ним на людях, чувствуя, что это может лишь раззадорить языки селян. Неужели он использует меня в своих интересах? Какие небылицы и клевету он собирался мне поведать? Неужели я и правда испытывал симпатию к этому ничтожеству?
Разак пришёл поблагодарить меня за значительное участие в расходах на похороны. В день смерти его дочери я незаметно передал пожертвование прямо ему в руки, зная, что, если бы я положил 20 ринггитов прямо на тарелку рядом с телом, меня бы обязательно отругали[40].
Вскоре мы перешли к теме, которую я недавно поднимал в беседах с жителями деревни – к тем гигантским изменениям, которые произошли в Седаке после того, как восемь лет назад там начали внедрять двойные урожаи. Разаку было ясно, что сейчас ситуация в целом хуже, чем до начала программы ирригации: «Раньше было легко найти работу, но теперь в деревне работы нет, а на плантации [каучука и масличных пальм] брать никого не хотят… Бедные беднеют, а богатые богатеют (Оран сусах, лаги сусах; оран кая, лаги кая)»[41]. По словам Разака, проблемы возникли в основном из-за комбайнов, которые теперь убирают и обмолачивают рис одним махом. Раньше его жена могла заработать более 200 ринггитов за сезон на уборке риса, а сам он – 150 ринггитов на обмолоте, но в последний сезон им удалось заработать только 150 ринггитов на двоих[42]. «Люди были недовольны, когда появились машины… Теперь нельзя даже подбирать остатки жнивья (Ла 'ни, каток пун так болех буат)»[43]. Вдобавок Разак был раздосадован тем, что из-за машин деньги исчезали из деревни и доставались каким-то другим людям. Деньги, которые могли получить селяне, занимавшиеся уборкой и обмолотом риса, а затем потратить их часть на местные пиры в Седаке, теперь уходили напрямую хозяевам этих дорогих машин. Как выразился Разак, «они забирают деньги, чтобы пировать самостоятельно (Бава батик кендури депа)».
Теперь селянам было не только всё труднее найти наёмную работу, но и почти невозможно найти землю, чтобы взять её в аренду. В прежние времена, утверждал Разак, землевладельцы сами хотели, чтобы крестьянин брал землю для обработки, и едва ли беспокоились об арендной плате. Сегодня же они обрабатывают всю землю сами либо сдают большие участки в долгосрочную аренду богатым китайским подрядчикам с техникой: «Они не дают [землю] своим людям… Они и пяти центов не дадут тем, кто нуждается (Лима дуит пун так баги сам оран сусах)».
А затем Разак вошёл во вкус и принялся за одну из своих любимых жалоб, которую высказывают и многие другие деревенские бедняки – на растущее высокомерие и скупость богачей. По мнению Разака, это отражается в том, как богачи относятся к благотворительности. То, что Разака должна беспокоить благотворительность, неудивительно – при его-то крошечном участке земли под выращивание риса, четырёх (а после недавних событий трёх) маленьких детях и тщедушной комплекции (а многие ещё и добавили бы – с его нежеланием трудиться). Официальный доход на грани уровня бедности для такой семьи, как у Разака, должен составлять 2 400 ринггитов[44]. Однако в предшествующем году их фактический доход без учёта поступлений от благотворительности составил менее 800 ринггитов – заведомо самый низкий показатель в его деревне. Вряд ли справедливо утверждать, что семья еле сводит концы с концами, ведь смерть Мазнах может выступать свидетельством того, что это не так. Но без небольшой благотворительной помощи, которую они получают, без постоянных поездок Азизы с детьми в деревню её родителей в Дулане, когда заканчивается еда, а возможно, и без выходок Разака, оскорбительных для всей деревни, сложно представить, как остальным их детям вообще удаётся выживать.
Когда другие винили в той ситуации, в которой оказался Разак, его собственные моральные недостатки, он отвечал им той же: «Среди малайцев много бесчестных людей[45]… Теперь малайцы, которые зарабатывают хотя бы три-четыре сотни ринггитов, стали высокомерными (сомбон)[46]… Они не помогают другим. В деревне они вам даже чашки кофе не нальют». Такое обвинение не совсем верно. Судя по тем подсчётам, которые я вёл на протяжении года, семья Разака получила в качестве подарков достаточно риса-сырца и дроблёного риса, чтобы этим можно было прокормиться в течение примерно трех месяцев. В конце Рамадана каждый мусульманин обязан выполнить фитру – религиозный дар в виде риса. Помимо обычных подарков мечети, имаму и деревенскому молитвенному дому, люди часто дарят по одному галлону [4,5 литра] риса своим бедным родственникам и соседям – в особенности тем, кто работал в сезон на крестьянина (farmer)[47], делающего такой подарок. Так вот, Разак получил в качестве фитры почти десять галлонов риса, хотя и не без неприятного осадка. Вместо того, чтобы смиренно ждать, пока его позовут за фитрой – именно так принято себя вести, – Разак ходил от дома к дому и просил отсыпать ему риса. Отказывались лишь немногие[48]: в конечном итоге, в главный мусульманский праздник возможность есть рис должна иметь каждая семья, а благотворитель рассматривает такие подарки как способ не бросать тень на собственное имущество. Правда, через месяц, во второй главный исламский праздник, Разак собрал меньше подарков[49]. Третьим поводом для таких религиозных подарков выступает время сбора урожая, когда всем мусульманам предписано отдавать закят – 10 % от урожая. Несмотря на то, что официальная ответственность за сбор этой десятины не так давно перешла к региональным властям, неформальные выплаты закята по традиционным схемам сохраняются. Этот дар, выступающий важным дополнением к доходам бедных безземельных семей, предоставляется рисом-сырцом (paddy), а не дроблёным рисом (rice). Используя свои привычные агрессивные методы, Разак получал мешок риса-сырца от жившего в городе Яне старшего брата, у которого он работал на молотьбе, и ещё четыре-пять галлонов от односельчан. Время от времени Разак также обращался к своим потенциальным заказчикам с просьбами подарить ему немного риса. Обычно он утверждал, что речь идёт об авансе за его услуги, используя выражения, маскирующие суть предлагаемой сделки, хотя налёт фикции тут был предельно тонким. Люди, которых донимает Разак, говорят, что он «просит милостыню» (минта седеках)[50].
Напористость приносит свои плоды: Разак получает гораздо больше продовольствия, чем многие другие бедняки в деревне, – больше, чем Мансур, Дуллах, Мат «Халус» (Тощий Мат), Пак Ях или Таиб. Для репутации Разака это оборачивается минимальными дополнительными издержками: его положение и так практически соответствует определению человека «на дне»[51]. С другой стороны, дела у Разака и близко не идут так же хорошо, как у его младшего брата Хамзаха, которого часто ставят в пример как достойного бедняка. Хамзах, как и его жена, имеет общепризнанную репутацию трудяги: он служит смотрителем мадрасах и неизменно приходит на помощь в приготовлении пищи во время праздников, помогает людям перемещать свои дома (усун румах)[52] и участвует в починке деревенской дороги. После сбора урожая в прошлом сезоне Хамзах получил от односельчан и родственников восемь мешков риса – отчасти в знак сочувствия к тому, что он проболел целый месяц и из-за этого не мог работать, как обычно. Басир называет его «первым по закяту» (джохан закат), противопоставляя то, что получает Хамзах, мизерным результатам более агрессивного подхода Разака: «Мы не хотим подавать милостыню Разаку – он лжец. Будем давать только честным беднякам наподобие Хамзаха (Kита тa' мау баги седеках сама Разак, диа бохон, мау баги саджа сама оран мискин ян бетул, мачхам Хамзах)». Фадзил, ещё один влиятельный житель деревни, высказывает похожее мнение: «Многие бедняки лгут, обманывают и ленятся… Они ищут тенистое дерево, чтобы под ним пристроиться… Они хотят слопать тех, у кого всё хорошо (Мау макан оран ван ада)»[53]. Однако, поразмыслив, Фадзил отмечает, что в этой ситуации может возникнуть замкнутый круг: «Если мы не подаём им милостыню, потому что они воруют, то, возможно, им придётся воровать и дальше». Среди всех селян, с которыми я беседовал, Фадзил наиболее близко подошёл к открытому признанию того, насколько важна благотворительность для социального контроля над деревенской беднотой.
На политическом фронте Разак поступил так, как должен действовать осмотрительный бедняк, стремящийся защитить свои интересы и интересы своей семьи. Четыре или пять лет назад он сделал взнос в один ринггит за возможность вступить в сельское отделение правящей партии, которая доминирует в политических вопросах и в распределении «хлебов и рыб» на деревенском уровне. По его словам, «если идти вместе со всеми, то можно многое получить. С меньшинством это будет сложно. Я думал своей головой. Я хочу быть на стороне большинства (Себелах оран рамаи, баньяк. Себелах сикит, лаги сусах. Кита пунья фикир отак, кита мау себелах оран баньяк)»[54]. Логика Разака, которую разделяют некоторые, хотя и далеко не все деревенские бедняки, принесла ожидаемые дивиденды. Когда в предшествующем году ирригационный сезон выращивания риса был сорван из-за засухи, правительство разработало программу помощи в трудоустройстве крестьян. При выборе работников для участия в этой программе большое значение имел политический фактор, и Разак оказался в выигрыше. Местное отделение Ассоциации земледельцев наняло его на срок 40 дней ухаживать за домашней птицей за 4,5 ринггита в день, а также ему заплатили 50 ринггитов за помощь в очистке от сорняков участка оросительного канала. Ни у кого из деревенских бедняков, оказавшихся по ту сторону политической линии фронта, дела не шли столь же хорошо. Дерево, при помощи которого был частично отремонтирован дом Разака, появилось благодаря политической влиятельности Басира. Дополнительные бесплатные дрова и тот самый унитаз, проданный Разаком, предоставлялись в рамках программы субсидирования, доступ к которой – по меньшей мере в Седаке – имели только последователи правящей партии. Можно сказать, что Разак знал, с какой стороны намазывать хлеб маслом – хотя эта идиома совершенно не соответствует малайскому рациону питания.
Поскольку Разак извлекал выгоды из местной системы патронажа и благотворительности – пусть эти услуги ему и оказывались с неохотой, – можно было бы ожидать, что он станет придерживаться благоприятного мнения о своём «социальном начальстве». Однако дело обстояло совсем не так. Помимо всего прочего, Разак ощущал, что именно эти люди говорят о нём за глаза: «Я не вхож в дома богатых людей, они не приглашают меня к себе. Они думают, что бедняки – это убогие [вульгарные] люди. Они думают, что мы собираемся просить милостыню. Они говорят, что мы ленивые, что мы не хотим работать; они наговаривают на нас»[55]. Но больше всего Разака оскорбляло то, что те же самые богатые люди не брезговали звать бедняков на помощь, когда в ней нуждались – а когда требовалось ответить взаимностью, этого не происходило: «Они обращаются к нам, когда нужно поймать их [убежавшего] буйвола или помочь перенести их дом, но не приглашают нас на свои пирушки».
От внимания Разака не ускользнуло и то, что и он сам, и многие другие ему подобные являются «людьми-невидимками»: «Богатые высокомерны. Мы здороваемся с ними, а они не здороваются в ответ. Они не разговаривают с нами – они даже не смотрят на нас! Если богатые услышат от нас такие слова, они придут в гнев»[56]. В некоторых отношениях Разак – персонаж особенный, но не уникальный. Вот для сравнения с его высказываниями такое четверостишие, сочинённое сельскими батраками из Андалусии:
Был богачом, но бедным стал —И что им мир даёт, познал.Теперь я вижу, что никтоНе смотрит бедняку в лицо[57].Через неделю после похорон, вернувшись домой с рынка, я обнаружил на дорожке перед домом Хамзы внедорожник, на двери которого присутствовала эмблема министерства здравоохранения Малайзии. Вскоре из-за дома Хамзаха, где жил Разак, вышли две медсестры. По их утверждению, им было поручено проводить расследование каждого объявленного случая смерти маленького ребёнка и пытаться помогать семьям советами по питанию. Они оставили Разаку немного сухого молока, но, кажется, были глубоко обескуражены тем, что увидели и выяснили. «Что же можно поделать с такими людьми?» – задавались они риторическим вопросом, когда садились в машину, чтобы отправиться обратно в столицу.
Хаджи по прозвищу МетлаПрежде чем мы перейдём к рассмотрению значения такого персонажа как Разак, для понимания классовых отношений в Седаке стоило бы представить читателю его символического зеркального двой ника Хаджи по прозвищу Метла – столь же отверженную фигуру, но располагающуюся на противоположном конце социальной пирамиды. Всё, что будет рассказано о нём ниже, я узнал с чужих слов, поскольку этот человек умер лет за пять-шесть до моего приезда в деревню, – но историй о нём ходило много.
Вскоре после моего прибытия в Седаку её житель Лебай Хуссейн пригласил меня на торжество по случаю свадьбы его сына Тахи, который женился на женщине из деревни неподалёку от города Ян Кечил, расположенного в шести милях к югу. Чтобы разместить множество гостей, семья невесты обустроила возле своего дома крытый павильон, где сидели пришедшие на свадьбу мужчины. Основной темой их беседы были виды на предстоящий урожай основного сезона, а также говорили о том, что из-за засухи, погубившей урожай предыдущего ирригационного сезона, многие свадьбы были отложены до того момента, пока не появится возможность собрать урожай основного сезона.
Заметив вдали некий объект, напоминавший огромный новый склад, я поинтересовался у сидевшего рядом человека, что это такое. Тот сообщил мне, что это рисовая мельница, которую строят Хаджи Расид и его брат Хаджи Ани. При упоминании двух этих имён большинство других разговоров в павильоне прекратились – было ясно, что я каким-то образом затронул тему, вызывающую живой интерес. В течение примерно следующего часа мужчины рассказывали друг другу истории о двух братьях, а в особенности об их отце – Хаджи Аюбе. Вообще-то, как я быстро выяснил, имя Хаджи Аюба было беспроигрышной темой, на которую можно было перевести разговор в любой компании, – этого было достаточно, чтобы на вас хлынула небольшая лавина историй.
Тот факт, что Хаджи Аюб в своё время стал самым крупным владельцем земли под выращивание риса, который когда-либо появлялся в штате Кедах – а возможно, и во всей стране, – вызывает мало сомнений. К тому моменту, когда он умер, ему принадлежало более 600 релонгов (426 акров [172 гектара]) рисовых полей, а кроме того, у него были и другие владения – каучуковые плантации и фруктовые сады. Масштабы свершений Хаджи Аюба необходимо рассматривать в контексте общей ситуации в сельском хозяйстве: средний размер земельного надела составляет менее трех релонгов [0,86 гектара], а крестьянин, владеющий землёй площадью 20 релонгов [5,7 гектара], считается довольно богатым человеком. Парламент Кедаха, встревоженный поразительной скоростью, с которой рисовые угодья в этом штате переходили в руки Хаджи Аюба, в какой-то момент фактически запретил ему приобретать новые земли.
Однако истории, связанные с карьерой и деяниями этого рисового барона из Кедаха, касаются не столько его баснословных владений как таковых, сколько его образа жизни и тех способов, которыми он строил свою империю. Столь популярным персонажем разговоров Хаджи Аюб сделался благодаря своей вошедшей в легенду аскетичности. Судя по народной молве, с которой я познакомился в тот день, самый богатый землевладелец Кедаха по собственному желанию вёл образ жизни, который едва ли можно было отличить от образа жизни Разака. Хаджи Аюб точно так же жил в поломанном доме, который никогда не ремонтировался и не перестраивался[58]. Вместо того чтобы покупать фабричные сигареты, он до конца жизни продолжал сам сворачивать крестьянские самокрутки с самым дешёвым табаком и гильзами из листьев нипы, которые он срезал с собственных растений[59]. Подобно беднейшим из бедных, Хаджи Аюб покупал всего один саронг в год, а человек, проходивший мимо него, мог подумать, что это деревенский нищий. Рассказывают, что питался он только сушёной рыбой, за исключением праздничных дней – в этом Хаджи Аюб оставил позади даже самого Разака. Хотя он мог позволить себе роскошный автомобиль, а рядом с его домом проходила асфальтированная дорога, передвигался он пешком или на велосипеде. В этот момент своего рассказа Хаджи Кадир заставил всех присутствующих утихнуть, изображая, как Хаджи Аюб мотался туда-сюда на своём древнем велосипеде «Рейли», сопровождая эту пантомиму громкими скрипящими звуками, которые способны издавать только самые ржавые двухколёсные колымаги. Именно в таком виде рисовый барон Кедаха выдвигался собирать арендную плату с десятков арендаторов, которые ещё не принесли ему деньги добровольно. Дух самоотречения затронул все стороны его жизни, кроме одной: он мог позволить себе иметь трех жён[60].
Шутки по поводу прижимистых повадок Хаджи Аюба, разумеется, были связаны с тем, что они контрастировали с его баснословным богатством. Этот человек определённо стал легендой, поскольку представлял собой эталон богатого скряги – недосягаемый стандарт, в сравнении с которым можно было судить обо всех остальных богатых скупердяях. В этом отношении он был полной противоположностью Разака – но если молва о Разаке не выходила за пределы его деревни, то Хаджи Аюб задавал тон во всей округе, а то и во всём штате Кедах.
Когда рассказчики дошли до описания того, как Хаджи Аюб приобрёл все свои земли, разговор оставался столь же оживлённым, но уже не был таким благодушным. Вероятно, весь этот процесс лучше всего отражало прозвище, под которым этот человек был известен всем – Хаджи Метла (Broom). В данном случае крестьяне предпочли английское слово, поскольку, надо полагать, его звучание («брум») напоминает единое энергичное и размашистое движение. Хаджи Метла в буквальном смысле сметал все земли у себя на пути. О силе этого слова говорит и его добавочное значение, когда говорят, что кто-то «зачистил» покерный стол (то есть смёл с него все фишки в свою пользу) или «очистил поляну» от своих противников[61]. Этот образ приобретает ещё большую силу именно потому, что к нему присоединяется термин хаджи, демонстрирующий уважение к тем, кто совершил паломничество в Мекку. Таким образом, прозвище Хаджи Метла обеспечивало Хаджи Аюбу примерно ту же самую репутацию, что и прозвище Тун Разак для Разака.



