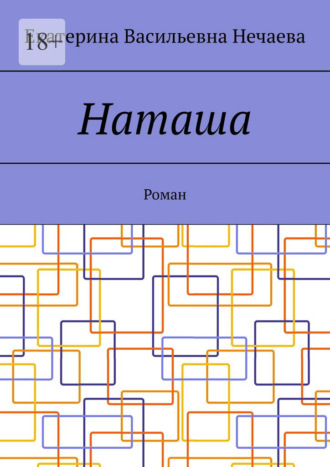
Полная версия
Наташа. Роман
Одевался Павел Иванович всегда по моде: во времена малиновых пиджаков, в те самые – девяностые – прошлого столетия, когда надо было обозначить свою принадлежность к определённому слою, носил малиновые пиджаки разных оттенков, когда вскричало о себе горчичное – перетёк в горчичное, если требовалось заузиться – заужался, если надо было расшириться – расширялся. Нынешняя мода была ему не совсем понятна, поэтому в ход шло всё, что бережно хранилось в его гардеробе со времён малиновых пиджаков.
По вечерам Павел Иванович непременно выходил на прогулку и внимательно следил за тем, чтобы нагулять никак не меньше нужного количества шагов, но при том – и никак не больше, чтоб изрядно не утомляться. Для прогулок выбирал места людные и вглядывался без стеснения в лица, пытаясь нарисовать себе картину быта каждого, с кем сталкивался, и высокомерно думая о людских слабостях, избавление от которых вряд ли будет сулить счастье, рецепт которого знают многие, но пользуются единицы. Вот он, к примеру, верно применил этот рецепт и счастлив сполна, потому что у него есть не только цель в жизни, но есть – сверхзадача, позволяющая ему чувствовать свою глобальную миссию на обёрнутой пороками и слабостями Земле. Обеспечение будущего дочери – вот в чём был смысл существования Павла Ивановича, а для этого надо копить, копить и копить. И накопительство стало способом для решения сверхзадачи «состояться хорошим отцом, о котором никто никогда не скажет дурного слова». Моменты же воспитательного характера оставались за кадром, с ними прекрасно справлялась Наташа, реализуя свои материнские потребности. И в этом, по нерушимому мнению Павла Ивановича, он оказал ей огромную услугу – подарил радость быть матерью.
***
Но большой любви, о которой может мечтать мать, не получилось. Катя любила Наташу, искренне считала её своей матерью, но более тяготела к отцу, принимая заботу матери как должное и стараясь не докучать ей. Наташа чувствовала себя неприкаянной и почему-то отвергнутой, хотя Павел Иванович заверял её, что всё не так, что она всё себе надумала, что Катюшка – самая лучшая дочь и любит её не меньше, чем его. Наташа успокаивалась в его объятиях, растворялась в поцелуях и снова принимала жизнь такой, какая она была, не желая и не умея находить её противоречивости. В голове женщины не вспыхивало мечтаний о собственном ребёнке, до такой степени она боялась разрушить иллюзорную гармонию, вытканную собственноручно. Её время было взвешено на самых точных весах, расфасовано и распределено по полкам. Дни пролетали пулями, за неделями тянулись недели, и неспешно текли годы.
***
На горизонте маячили каникулы. Со дня на день ждали с вахты Павла Ивановича. Наташа ждала, чтобы без зазрения совести отправиться к деду, а Катя предвкушала очередное маленькое путешествие с отцом на Байкал.
Свой отпуск в деревне, как ранее и каникулы, Наташа не могла разменять ни на что, а потому она никогда нигде не бывала, даже за пределами родного края. Выучив однажды одну-единственную дорогу, она исправно ездила только по ней. Павла Ивановича такой поворот более чем устраивал, и он не раз отмечал Михаила Ивановича званием «мировой дед, правильный», хотя и видел-то его всего два раза: на свадьбе, когда тот выбрался из своей берлоги, чтобы поздравить внучку, и в свой единственный приезд в деревню, когда «правильный дед» задал правильный вопрос, чем, мол, мил человек, тебе Наташка-то так не угодила, за что ты её так не любишь? Другой на месте Павла Ивановича взъелся бы, но он устоял и с премилой улыбкой ответил, что в современном мире любовь – явление совсем иное, нежели в мире прошлом, и проявление её крайне затруднено из-за множества факторов: потока и объёма информации, скоротечности времени, множества дел и при этом – нехватки ресурсов. «Ну, ежели, ресурсы… да нехватка…» – Михаил Иваныч, присовокупив к ресурсам «побрякун и есть побрякун», хмыкнул в подрастающие усы, чем смял разговор, что немало обидело Павла Ивановича, уже было разошедшегося в своей громогласной исповеди. Виду он не показал, но больше недавно явленный муж в деревне не появлялся, а дед, в свою очередь, никогда о нём не расспрашивал, лишь сожалел о нескладной Наташкиной судьбе. Но что он мог? Лечь поперёк решения внучки? Волком выть? Собакой лаять? Так человек же он, а не зверь какой, чтоб судьбу другого выламывать, под себя выкраивать. А Наташа разберётся, сбросит пелену с глаз и увидит истинное неприглядное лицо своего избранника. Всё однажды вскрывается…
Дождь усилился, но бил не дробно, а как-то по-стариковски дрябло, словно вода проливалась из шамкающего рта неба и неряшливо падала вниз. Наташа после долгого настраивания наконец-то выскользнула из-под одеяла, накинула халат, привычно воткнула ноги в тапочки и прошуршала на кухню. Пора и чайку горячего себе организовать, а то день пройдёт зря. Как там говорит деда Миша? День без чая, что год без мая. Она поставила чайник и в задумчивости уставилась в окно. На лице её как будто недавно блуждала мысль, но остановилась в своём движении, не понимая, на какой предмет или явление ей перекинуться. Прядки ещё не прибранных волос не смели падать на лоб, чистый и высокий, выдающий немалый запал ума и воли, применения которым в привычной накатанной жизни не находилось. Однообразные действия, однообразные мысли, однообразный пейзаж, знакомый с детства, – всё неизменно.
Внизу раскинулись улочки, по ним разбежались деревянные домики, на огородах сквозь голые ветки деревьев чернеет земля, из труб тоненько, ещё не в полную силу, поднимается к небу дымок. Нет, ни осень, ни дождь не могли испортить эту картину, как не могли стереть из памяти и слова деда, фантазирующего о том, что осенью домишки, некоторые уже ветхие, а иные – крепкие новые, стараются разбежаться по тёплым местам, а весной – наоборот, они все, как горошины, сбегаются в кучу, перемигиваясь и пересмеиваясь. Да, дед – фантазёр, поэтому самым серьёзным образом воспринимал всегда и её фантазии. Как он там, в своём медвежьем краю? Неспокойно почему-то за него. Надо, надо ехать! Отставить горизонтальное валяние и ехать.
Наташа выключила чайник, плеснула себе душистого кипятка и стала пить поспешными глотками, будто куда-то опаздывала и по пути не успевала насладиться ни ароматом знойных трав, ни вкусом их, ни жизненной силой. Она уже давно знала, что это есть и это неизменно, и жила прежними эмоциями и прежним восприятием.
С детства она купалась в материнской опеке и кожей чувствовала поддержку отца и деда, особенно – деда. До шестнадцати лет ни полы, ни посуду не мыла – мама говаривала, что, мол, всё к тебе придёт, и посуда тоже. И всё пришло, но опека, которая теперь вроде бы была не нужна, осталась, причём опекали Наташу все, кто с ней сталкивался. Может быть, поэтому она стала такой чувствительной и любое действие ощущает как физическое? Иначе как объяснить, что, выходя замуж, она чувствовала, как с неё сдирают фамилию, будто это кожа, и тело при этом ныло, зудело и покрывалось пятнами не в её воображении, а на самом деле, и она боялась, что покроется ими вся и что многоопытный жених от неё сбежит. Но Павел Иванович не сбежал. Он был рядом. Держал за руку, сыпал жизнеутверждающими фразочками и томно смотрел на неё. Он и сейчас так смотрит. Наташа в этом не сомневалась. Она же в день бракосочетания рисовала себе мысленно, как на её надгробии будет не фамилия «Потапова», а совершенно иная, пока ещё чужая и непривычная, разительно отличающаяся не только от фамилии с глухой медвежьей поступью, но и от любой привычной слуху русской фамилии. Да, нелегко она вросла в Гужевар, в яркость и сочность каждого звука. Позднее она смеялась над своими ощущениями, делясь ими с мужем и подрастающей дочкой. А они поддёвывали её, сравнивая со змеёй, сменившей кожу. Катя, тогда ещё дошкольница, выпалила, что мама – кобра, потому что любит вещи с капюшоном, но Павел, милый, добрый Павел Иванович, опроверг мысль дочки и заверил, что она – маленькая удобная и совершенно не ядовитая змейка. А на следующий день они отправились в террариум глазеть на змей. Наташа, не любившая этих тварей до дрожи в душе, долго сопротивлялась, чтобы прикоснуться хоть к одной из них. Мозг отпечатывал на ладонях ужасающую холодность и брезгливую склизкость, но, как только она, под напором мужа и дочки, дотронулась до спины маленькой серебристой змейки, всё сразу перевернулось, и страх в глазах сменился удивлением, а потом хотелось ещё и ещё гладить этих невероятно тёплых шелковистых существ. По дороге домой Павел Иванович и Катя смеялись над её плоским представлением мира и не имеющими под собой оснований страхами. Наташа прятала лицо в капюшон. Понимая комичность ситуации, она не могла заставить себя вписаться в общий фон и привычно излиться самоиронией – смех куда-то запропал, и на его месте зияла чёрная дыра, величиной в рост. С каких пор ей, удобной во всех отношениях, стало не до смеха? Почему? Она не отдавала себе отчёта. Всем было хорошо, и это – главное. А она… что она? Улыбнётся, прижмёт к себе Катюшку, если та позволит, прижмётся к мужу, если он не будет в командировке, и в очередной раз прокрутит в голове мысль, что счастье – это когда тем, кто рядом с тобой, хорошо, когда они смеются по-доброму, легко и непринуждённо, потому что такой смех – исцеляет.
Раньше Наташа часто смеялась. Потому что рядом был смешащий её отец. Потому что она видела всё иначе. Самостоятельная же семейная жизнь сделала её принципиальной и правильной, вытравив смех: от подчёркнуто прямой осанки и стучащих молоточком в голове мыслей «нет-нет, так нельзя даже думать!» до выверенных поступков, соответствующих видению Павла Ивановича, – и что-то ушло из неё, что-то неправильное, ошибочное, неразрешимое, и чудесное заменилось ресурсным, замечательное – реальным, ошибочное – правильным. То, что было позволено Потаповой, не дозволялось Гужевар. Новая кожа внесла коррективы, и роль жены и матери сгладила все поверхности и оставила только прямые линии, как грани дедовых кубиков. Всё было ясно и понятно, как дважды два. Всё стояло на своих местах и занимало свои полки. Окончательные метаморфозы произошли после того, как в тёплые края отчалили родители, чтобы жить там своим хозяйством, снимая по два, а то по три урожая в год. Наташа наполнила семейный быт и мир вокруг себя новыми смыслами и прорисовала всюду идеально прямые линии. Или это не она, а Павел Иванович стёр из неё всё неправильное, дозволенное родителями? Коварный вопрос пронзил грудь. Наташа чуть не задохнулась, почувствовав резкую боль в подреберье.
Да, странная у неё нынче меланхолия. К чему бы это? Может быть, жизнь заготовила для неё новую кожу, и грядёт перерождение? Наташа ухмыльнулась, вспомнив, как Павел Иванович назвал её маленькой удобной змейкой, и в голове случился дерзкий кульбит: если она что-то где-то хоть немного изменит, то произойдёт ли что-то глобальное? После этого вопроса мозг выкрутил следующий элемент. Как там у Архимеда? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю: небольшой рычаг способен изменить углы, сместить плоскости, повлиять на картину мира и управление им. Римляне, к примеру, по словам Плутарха, легко овладели бы Сиракузами, если бы нашёлся умник, решившийся выкрасть из города старца Архимеда, уже тогда понявшего путь оптимизации, на котором минимум усилий приносит максимум пользы. Далее мысль совершила сальто с тройным переворотом и перепрыгнула на закон Парето, применяемый в современном мире не только в экономике, но и в быту. Двадцать процентов усилий от всего задуманного могут дать восемьдесят процентов от поставленной цели – чем не красота? Вот и Павел Иванович говорит, что красота, что в его жизни так и происходит, с той лишь разницей, что усилия его иногда имеют не более десяти или даже пяти процентов, а результат – скачет за девяносто. И ещё он говорит, что в жизни важно поставить главную цель и идти к ней, несмотря ни на что, и что у него такая цель есть – это сделать для дочки максимально возможное, чтобы потом, в будущем, она не смогла упрекнуть его, что он – никудышный отец. А однажды он спросил у Наташи, есть ли у неё самая главная цель в жизни, и она не нашлась, что ответить. Мимолётная грусть пролетела тогда над ней, чуть задела своим крылом, навеяла ещё более мимолётные мысли, но так и не стряхнула пыль с души её, не привыкшей к борьбе ни с собой, ни с внешним миром. Получилось – хорошо, не получилось – значит, так надо, так и было задумано где-то свыше. Зачем перечить судьбе, если она и так всё даёт?
Свернувшись аппетитным колечком на тёплом семейном камушке, пригретая солнцем, из-под полуприщуренных век смотрела Наташа на мир и не ждала, да и не хотела никаких
перемен. У них растёт прелестная дочь, не доставляющая хлопот своим переходным возрастом. У неё – заботливый муж, обеспечивающий должным образом семью. «Всё в дом, всё в дом, ни капли мимо», – всплыли проникновенные слова Павла Ивановича и тут же заполонили всё вокруг, как разошедшиеся по воде круги.
Не задумываясь о душистости дедова чая, Наташа вдруг воспроизвела ставшую обыденной картину, как муж входит в квартиру, как разувается возле самого порога и ставит аккуратно ботинки возле стены, как поправляет, хмурясь, небрежно стоящие кроссовки Кати, как придирчиво оглядывает обувь жены. В отличие от женщин, кричащих, как они устали от раскиданных носков мужей, ей не на что было жаловаться. Она была довольна мужниной аккуратностью, считала это актом уважения к своему труду. Вот мама с отцом вечно боролась – он мог затоптать весь пол, даже если тот был только-только вымыт, он никогда не ставил обувь на место, а оставлял посреди коридора, а что уж говорить про носки! Эти создания рук человеческих можно было обнаружить в любом углу, под любым предметом мебели! Ругались ли родители на эту тему? Нет, конечно! Всё всегда решалось полюбовно и с улыбкой, потому что в запасе у отца был целый набор искромётных шуточек и ласковостей для «ненаглядной супруги». У Павла Ивановича такой набор тоже имелся, но применял он его с искусным подвывертом, как бы исподтишка, но, впрочем, Наташа довольствовалась звучащими в её адрес словечками.
Она попыталась воспроизвести хоть одну шутку отца, но память как отшибло! Вспомнилось только про те же пресловутые носки, про которые отец говорил, что это такой предмет, созерцание коего говорит о наличии мужчины в доме, и, чем устойчивее этот предмет в пространстве, тем длительнее пребывает указанный мужчина в указанном доме и не помышляет о домах других, потому что мужчине достаточно метить только одну территорию, а потом добавлял: «Так ли, Настасьенька, так ли, чересчурьинька моя?», и на щеках мамы появлялся румянец, губы расплывались в улыбке, а взгляд, и без того тёплый, становился ещё теплее. Наташу особенно умиляло «чересчурьинька». Это слово было наполнено такой нежностью, что напоминало шелест молодой листвы после негромкого дождичка. К матери приклеилось это словцо, потому что она слишком часто спрашивала у домочадцев, а не чересчур горячо или холодно, а не чересчур ли громко, много, цветасто? Однажды (в память врезался этот момент так ярко, что ничем и никак его невозможно теперь извлечь), когда она наливала по цветастым тарелкам наваристый борщ, у неё вырвалось «ой, чересчурскнула, кажись», и у отца зазвучало, раскинувшись радугой, «чересрурьинька». Слово ласкало слух и крепило день ото дня и без того крепкие семейные узы, а в голове Наташи отложилось, что, чем больше ласковых тёплых слов, тем крепче отношения.
Она не хотела, чтобы родители уезжали. Ей было хорошо и спокойно, когда они жили рядом, но отцовское «земля, доча, тянет, душа по крестьянскому труду стонет» заставило её смириться с этим решением, главным козырем в котором стала трёхлетняя Катя, нуждающаяся, по словам отца, в собственном пространстве. Оба объяснения сплелись в такой тугой ком, что для Наташи так и осталось неведомым, что потянуло сугубо городских жителей к земле. Она лишь видела, каким радостным огнём горели глаза матери, как весело бегал по квартире, укладывая вещи, отец, чтобы переехать в край тёплый да благодатный, в край, куда ехали все, кто не просто годами мечтал о солнце, о тепле или о том, чтобы снимать по несколько урожаев за сезон, но кто осмелился и рискнул сделать столь важный шаг в своей жизни. «Ну что? Лыжи навострили, но с собой не возьмём, в данном предприятии крайне сомнительная поклажа, вряд ли нужная в своём прямом значении в южных краях», – пошутил отец, бросая беспризорный взгляд на квартиру, прежде чем ступить за порог.
Родители уехали в октябре. В безмятежном октябре, вобравшем в себя тепло и безветрие бабьего лета, щедро дарящего всем нежные прикосновения ветра и солнца.
В очередной раз в квартире сменился хозяин, и, как когда-то с высоко поднятой головой Раис щёголем ходил по «двухкомнатному дворцу», так прошёлся по ним и Павел Иванович, примеряя под себя хозяйство. С тех пор мир раскололся на до и после жизни под родительским началом. С тех пор осенняя тягомотная тоска усилилась в разы, и Наташа стала впадать в какую-то болезненную меланхолию, но сегодня всё воспринималось ещё тяжелее, превращалось во что-то иное, пока совсем не ясное, но уже томящееся в груди и ищущее выход. Тоска. Тоска. Надо уезжать в деревню – там есть лекарство от тоски.
Последний глоток чая, и уже набран номер мужа, и в неведомом пространстве понеслись гудки, и родной голос на её «что-то тревожное на душе, волнуюсь, всё ли хорошо у деда» успокаивающими нотками проник в голову:
– Хорошо, дорогая, поезжай, – муж не перечил, но удивился, что жена собирается в деревню, не дождавшись их с дочкой отлёта, что готова расстаться с первой неделей отпуска, когда можно деградировать качественно и со вкусом дома, не меняя горизонтального положения. Напомнив Наташе, что домой он будет только завтра к вечеру, Павел Иванович выразил сомнение, а к деду ли она едет?
– Я – однолюбка, – заверила его жена и добавила: – За Катю не волнуйся, одну я её не оставлю, уеду завтра с утра.
Павел Иванович выдохнул:
– Поезжай. Будь аккуратна. На дорогах, наверное, чёрт-те что творится. Позвони, как доберёшься.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.


