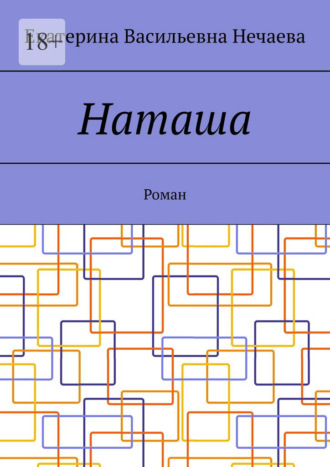
Полная версия
Наташа. Роман
Давно отпели деревенские петухи, высохла роса, на затухающем костре дымился суп из тушёнки. После обеда ребята свернули палатки, уложили вещи в байдарки. Мишка легко, по-свойски, впрягся в общую суету и, чем мог, помогал. Люция, несмотря на подтрунивания остальных, много смеялась, порхала, как бабочка, поддерживая коллективный дружелюбный фон и не совершая при этом никаких нужных действий…
Когда байдарки отплыли на середину реки, и, кроме всплеска вёсел, ничего не стало слышно, Мишке показалось, что у него вынули сердце. Придя домой, он первым делом смастерил сестре рамку для семейного фото, сделанного пару лет назад. Рамка, сварганенная на скорую руку, не отличалась особым изяществом, но до того ли было только-только вкусившему любви? Мишка знал, что следующая стоянка у ребят будет через двадцать километров, возле Молокова камня. Ощущая на губах горячие поцелуи Люции, дрожа до сих пор от прикосновений к ней, слыша её влекущие слова, мол, поехали со мной, в город, он не смог скрыть от Дарьяши своего состояния. Сестра, утирая глаза, сказала всего одно: «Беги!». Она с трудом уковыляла на непослушных ногах за переборку, в свой угол, через минуту появилась с увесистым полотняным мешочком, хранящим горсть монет и несколько прозрачных камешков, которые он находил на берегу ещё мальцом. Сестра обмолвилась, что собирала монетки просто так, без умысла, что ей они никуда не пригодятся, а камешки – так и подавно его. Он нашёл, он пусть и распоряжается этим богатством, она же про это никому не сказывала. Потом Дарьяша немного помялась, подняла на брата слёзные глаза и засунула руку в карман длинной юбки. Когда она выпростала руку и протянула её Мишке, то у него даже немного закружилась голова: в хрупких, почти прозрачных пальчиках Дарьяши желтел небольшой самородок. «Откуда?» – вырвался вопрос, и в ответ прозвучало, что нашла пару лет назад возле бани и припрятала, как будто знала, что пригодится.
Мишка опустился на колени, обнял сестру и прильнул на мгновение золотой головой к её тщедушной груди, потом расцеловал Дарьяшу в побледневшие щёки и, вскочив на ноги, кинулся собирать нехитрые пожитки, чтобы бросить к ногам очаровавшей его девушки «всё злато мира»!
Бежать надо было, пока с лесоповала не вернулся отец. Мишка бросил взгляд в окно и заприметил мать, идущую с реки. Походка её, перекошенная под тяжестью прополосканного белья, была осторожной и медленной. Обычно Мишка кидался ей на помощь и так быстро доносил таз с бельём до крыльца, что мать не поспевала за ним, но сегодня… Сегодня его неудержимо влекло к той, чьи глаза похожи на лежащие в мешочке алмазы, чьё кукольное личико казалось фарфоровым, а точёная фигурка напоминала статуэтку балерины, что единственным украшением много лет стоит у них на жёсткой накрахмаленной белоснежной салфетке в самом центре комода. А чего стоит её необычное имя! Люция – это же, как песня! Как Шаганэ!
Мишка в несколько прыжков пересёк огород, из-за баньки ещё раз глянул на родительский дом и юркнул в кедровую сень, опоясывающую деревню дорогой оправой. Знакомыми тропами, срезая крутой извилистый поворот реки, кинулся он догонять туристов, и то, что у ребят вылилось в двадцать с малым километров по реке, Мишка сократил до восьми по суше. Благо, тайга с малолетства была его родным домом, и её тайнопись он знал и понимал.
***
Так жизнь Мишки, жителя таёжной деревни, превратилась в городскую, мало ему понятную. Как сам чёрт в голову влез, напустив помрачение какое-то! Люция же, к чьим ногам были брошены алмазы и золото, вдосталь нахваставшись трофеем, вдруг поняла, что беременна. Сыграли скромную свадебку (к тому времени от Мишкиного царского подарка и след простыл – растворился в гуляниях, приёмах, вещах, попытках стать светской львицей) и на полном ходу въехали в семейные будни, растеряв охладевших к ним друзей, возникших по случаю внезапного богатства.
Рожая первенца, Люция прокляла всё на свете. Димка оказался богатырём пяти с половиной килограммов. Он, буравя себе дорогу в свет, рвал всё на своём пути и вырвался в мир с таким громогласным ором, что Люции показалось, будто в городе взвыли все сирены разом. Так он потом и взрослел – с телосложением отца и характером матери, а в один из пасмурных дней, тех, что едва-едва заслоняют лето от осени, он вышел из квартиры и назад уже не вернулся. Его сестрёнке Насте, родившейся на три года позднее, тогда было шестнадцать. Была она щупленькой, маленькой, белобрысенькой – вся в мать внешне, но нрав унаследовала от отца. В свет Настёна выскользнула так, что никто и глазом не успел моргнуть; ожидания боли не оправдались, и этим фактом ставшая во второй раз матерью женщина оказалась весьма недовольна – она готова была показать во всей красе трагизм своего нелёгкого существования. В отличие от сбежавшего от вечных материнских упрёков Дмитрия, Настя всегда была рядом с матерью и, подобно отцу, никогда не сомневалась в искренности её чувств, болячек и настроений. Она любила мать так, как положено любить дитяти своего родителя, но отца она – боготворила, и этот «благовредный» факт считавшая себя центром мироздания Люция переживала почти так же, как отсутствие боли при рождении дочери.
Любил ли Михаил Иванович свою жену, сказать трудно. Для этого надо дать точное определение, что такое есть любовь. Страсти, перегоревшие в нём ещё до рождения детей, не кипели – по природе своей он был настолько спокоен и сдержан, что сие человеческое, однажды его коснувшись, обходило теперь стороной, но он был предан, заботлив, терпелив, вынослив, умел молчать, и – он безгранично уважал Люцию как мать своих детей. В моменты истеричных состояний жены он сгребал её в охапку и, качая на руках, ходил с ней по комнате, как с младенцем. Люция какое-то время всхлипывала, потом мелко дрожала (но не дольше, чем нужно) и успокаивалась, кончиками пальцев нежно теребя ворот его рубашки и поглаживая короткую мощную шею. Нет, не понимал Михаил Иванович, но тонко угадывал состояние подаренной ему тайгой женщины. Точно так же, как свою хрупкую жену, он качал на могучих руках и детей. Тихой лупоглазенькой Настеньке, внимательно следящей из кроватки за манипуляциями брата, частенько впадающего в детские истерики, отцовской заботы доставалось больше. После того, как Димка успокаивался, отец непременно брал на руки свою любимицу и ходил с ней по комнате, пока та не засыпала, посасывая большой палец своей худенькой ручонки. Годам к десяти истерики Димки резко прекратились, он замкнулся, и всё общение в семье свелось к упрёкам со стороны матери, грубости со стороны сына и полного непонимания, что делать, со стороны главы семейства. Насте же стало перепадать всё больше и больше «мамкиной любви»: Люция, сетуя, что у дочери нет никаких шансов стать чем-то путним, что она никогда не познает, что такое настоящая большая мечта, то легонько подпинывала её в зад, когда та корячилась, вымывая до блеска полы, то шипела, что её надо, как котёнка, тыкать всюду носом, чтобы не гадила где попало, то просто закрывала её в комнате, пока не одумается или не вспомнит какой-либо сущей мелочи, из-за которой любящая мать не станет не то что крика поднимать, но и внимания этому не придаст.
Михаил Иванович, в думах своих перекатывая родниковое название родной деревни Чизма, спрятавшейся в горной тайге на границе двух миров, и вспоминая своё бегство, мужественно пережил холодное отношение жены к Дмитрию, который, внезапно покидая отчий дом, бросил с порога, что он теперь сам по себе и что искать его не надо. Последнее услышанное от него было «достали». Или «достала»? Здесь мнения обитателей квартиры, окнами своими выходящей на разбросанные внизу деревянные домики, расходились. Люция настаивала на первом варианте, Настя слышала второй, а Михаил Иванович обыденно молчал, сославшись на медвежий слух. Чутьём, свойственным людям добрым и отзывчивым, он понимал, что не холод сквозит в душе жены, а защищается она так от отчаянья утраты. А может, это способ скрыть облегчение, как-никак мучилась она с сыном-то. Сам же он долго и безутешно сокрушался по нему, даже несколько раз прикладывался к спиртному, чего ни раньше, ни позднее за ним не водилось.
После бегства сына Люция совсем слетела с катушек, закрутив головокружительный роман с импозантным седокудрым красавцем. Адюльтер длился несколько лет. Люция то переезжала к любовнику, то, вся в слезах, возвращалась домой. Она не только не скрывала своих чувств к другому, более утончённому, интеллигентному и подтянутому во всех смыслах этого слова, но открыто говорила о них мужу. Что он чувствовал при этом, её не интересовало. Она была полностью уверена в том, что «этот нагулявший жирок недотёпа с дремучими мозгами» ничего чувствовать не может. «Ах, зачем, зачем я спилила этот кедр и испортила себе всю жизнь? Ведь человек рядом со мной должен быть изящен! Ты понимаешь? И-зя-щен!» – причитала она, привычно заламывая руки и колотя мужа в широченную грудь.
На фоне этой драмы разыгралась ещё одна, в которой «движимая любовью» Люция прилагала массу усилий, чтобы дочь была с ней и только с ней, но Настя, несмотря на податливость и безотказность, жить хотела с отцом и оказалась в этом непреклонна. Она наотрез отказалась переезжать с матерью к «возлюбленному всей её жизни». Намучавшись, вдосталь погоревав на плече, обременённом седыми кудрями, блудница вернулась в семью окончательно, сетуя на нелёгкое расставание и трудное возвращение к родному очагу. Пока Люция вздыхала о своём бренном существовании, о непонимании со стороны домочадцев, о мире, чёрством и никчёмном, Наська (другую конфигурацию имени трудно подобрать в данном случае) собралась замуж. Не желая её от себя отпускать, Люция виртуозно устроила жизнь дочери подле себя, мужа же её, худосочного невысокого паренька с кривенькими ножками, невзлюбила всей душой, о чём откровенно говорила на каждом углу, кои водились не только в их квартире. Нелюбовь эта распространилась и на его татарскую фамилию, и Люция приложила все силы, чтобы «незаконно возникший зять» взял фамилию жены. Наверное, наличие хоть какого-то жилья у Раиса (имя тоже стало предметом злословия новоявленной тёщи) спасло бы ситуацию, и новоиспечённая родственница не имела бы возможности всюду совать свой нос, но квадратных метров у Раиса не было. От съёмной квартиры дочь удалось отговорить, внушив ей, что добросовестная работа на заводе, или рождение ребёнка, или то и другое в совокупности сделают своё дело, и молодые вскоре получат собственное жильё от государства, но чего не случилось, того не случилось. Государство жилыми метрами не разбрасывалось, и верившая безоговорочно матери Настя вместо очереди на квартиру получила дулю под нос. Чиновники, отказывающие от лица государства, аргументировали тем, что в их квартире ещё пара человек спокойно может разместиться и что не надо (ну не надо выпрашивать то, что тебе вообще не полагается и не светит никогда) по пустякам беспокоить «их вышестояшество». Люция в тайне, скрываемой неумело, этому факту радовалась, хотя тему «жмотства чиновников» обсосала со всех сторон и подвергла ругательствам, состряпанным не из самых высокохудожественных словечек, кои приобрела в течении жизни, чаще не глубоководной, с наносными отмелями и стоячими, покрытыми тиной заводями. Может, и были на берегах этой жизни и расписные луговины, и мшистые валуны, и суровые камни, и изумрудные леса, да потерялось всё, спряталось за тяжёлым туманным пологом кулис, не желающих раскрывать тайны сцены. Люция чувствовала то ли задним умом, то ли левой пяткой, что что-то есть ещё в жизни, но не могла понять – что, и тогда начинала страдать. Любовь к страданиям, страстным и долгим, увлекала так, что Люция и вовсе переставала замечать что-либо вокруг. В такие времена она перемещала себя по квартире, сурово сжимая кулачки и выпячивая маленький подбородок. Потом страдание отпускало, накатывала съедающая остатки сил пустота и навязчиво стучала в голове, что жизни-то и нет, что жизнь кончена, и тогда Люция, привычно заламывая руки и ломая старую комедию, восклицала, что на всё множество людей во всём свете нет никого (никого!), с кем можно было бы поговорить, и что она так и останется не понятой простыми обывателями, заселившими её квартиру.
А тем временем у Насти и Раиса народилась Наташка и стала «слишком активно размахивать своими ручонками и слишком выразительно глазеть своими глазёнками», и всё внимание и забота «несносной Наськи» доставались только ей. Люции пришлось невзлюбить и внучку. Но, словно в противовес бабкиному негодованию, с самого рождения в жизни Наташки был человек, который компенсировал все злобные взгляды и слова. В тёплых сильных руках этого человека она с наслаждением засыпала, эти руки поднимали её под самый потолок, в этих руках ей было так спокойно и так хорошо, что всё остальное меркло. Руки деда. Большие, крепкие, они умели всё. А ещё от деда всегда пахло деревом. Этот запах, полюбившийся Наташке навсегда, он приносил с собой из столярной мастерской.
Так они и жили в малогабаритной двушке с раздельными комнатами до тех пор, пока у Люции не диагностировали саркому, проникшую уже своими метастазами, словно щупальцами хищного чудовища, всюду. На тот момент едва минул год, как Люция разменяла свой юбилейный полтинник, как снова задышала полной грудью от нахлынувшего на неё любовного жара, как тайно забилось сердце в молодых объятьях, несмотря на то, что хотелось, ох как хотелось снова порисоваться перед мужем, что она – нужная и любимая женщина! А как кружилась голова, когда она приходила домой и, глядя на неуклюжего супруга, вспоминала… Гладкое, без намёка на морщинки лицо, ярко-синие глаза, упругое тело, играющие мускулы… Он был невыносимо хорош! О, этот мальчик, пожелавший зрелую женщину, её герой, её утешение и услада! В этот раз Люция не желала делиться своим счастьем ни с кем. Она хотела напиться им допьяна, словно это был последний глоток кислорода. «Увидеть тебя и умереть», – шептала она в сладострастии, обхватывая молодое горячее тело коченеющими ладошками. Она, понимая, что недолго суждено длиться этому роману, вполне искренне, но словно со сцены произносила, что они обречены, что это трагедия – знать, что времени у них нет, ведь она постареет намного раньше, и что рано или поздно он оставит её, обречённую задыхаться в старости, безысходности и унынии… Ах, как жестока судьба, как нелепа… как несправедливо она бросила между ними пропасть в целое поколение! Страдая от любви к самому страданию, Люция насиловала свои чувства, рвала в клочья свою животворящую страсть, не давая ей возможности развернуться с волнующей правдивостью и естественностью, напротив – поправ самое глубинное, она обездвиживала себя эмоционально, она загоняла свой ум в тиски, а своё тело – в навсегда заученное судорожное движение, в котором руки скорее напоминали шлагбаумы, а ноги – ходули неумелого циркача с искажённым лицом, на котором установились каменные черты вкруг выпученных замутнённых глаз.
На прощание с любовником Люция заготовила душераздирающую, не раз отрепетированную сцену, но она даже не предполагала, что всё, тщательно продуманное и множество раз мысленно произнесённое, ей сыграть не удастся… Не будем вдаваться в подробности, жизнь лишила её этого, воспротивясь такому небрежному к ней отношению, или же смерть, словно играющий судьбами доктор, прописала иное лекарство. Важно ли это для того, кто, с парализованной чёрствостью душой, приговорён к мучениям завершающих земное существование дней? Нужно ли это, если болезнь хватает в свои силки и давит, давит, давит. Давит до такой степени, что в этой давильне меркнут любые дела земные, стираются любые поступки, гаснут любые слова. Может быть, кто-то где-то, страдая от боли, способен думать о других, но не Люция. Болезнь удобрила в ней самую тёмную почву и взрастила самые ядовитые семена.
После обследования Люцию сразу же выписали: не операбельно, не излечимо, метастазы всюду, месяц-полтора, может, и меньше, готовьтесь, мужайтесь. Несколько дней оплакивающая себя бродила по квартире, едва волоча ноги, а потом легла умирать. На белоснежной (иных цветов в постельном белье она не признавала) подушке серело маленькое сморщенное лицо, поверх белоснежного одеяла лежали безвольные руки, и только пальцы с крашеными в ядовито-нервный цвет ноготками выдавали глубинные переживания. Люция приготовилась умирать, пеняя всем на то, что её мечта о театре так и осталась мечтой, а у них – дармоедов, и мечты-то настоящей никогда не было и не будет, им, недотёпам, простым обывателям, ни черта не смыслящим в изяществе, не понять, что такое высокая мечта. Свою роль Люция играла до тех пор, пока свет софитов высокой мечты однажды не погас – пришла боль, жгучая и мучительная. Боль, от которой хотелось бросаться на стены и вгрызаться в железо, ломая зубы. Боль, ставшая неожиданной для пьесы Люции.
Настя на заводе с трудом выбила бессрочный неоплачиваемый отпуск. До последнего дня она ухаживала за матерью, терпя её склочность. Она почти перестала общаться с дочкой. Спала урывками, когда отец пытался подменить её у постели больной. Но каждый раз в такие минуты Люция тут же требовала вернуть дочь к «смертному одру», при этом она то вытягивала руки-шлагбаумы вверх, то вскрикивала «о, жизнь моя, я умираю, не уходи!», то призывала смерть, то проклинала всех. Последнее случалось чаще.
Больше всего Наташке запомнились слова «изыди, исчадие ада». Она не поняла в брошенной в неё фразе ни единого слова, но глубоко прочувствовала весь жуткий смысл, которую та в себе несла. Быть исчадием Наташка не хотела и в последствии прилагала много усилий и стараний, чтобы не вызывать ни у кого сомнений, что она – не такая, что с ней удобно.
Когда дед взял её за руку и вывел из комнаты, то объяснил, что они заходили к бабушке попрощаться, но почему-то (здесь дед горько вздохнул и опустил глаза) не получилось. Какое-то время из-за двери были слышны крики, стоны, путанная речь, потом всё стихло, и дом пронзила острая металлическая тишина. Весь вечер Настя провела с впавшей в беспамятство матерью, ближе к ночи вышла, сказала, что всё кончилось, криво улыбнулась и накинула простыню на зеркало. Дед смахнул слезу, вздохнул, обнял Наташку и попросил её не обижаться на слабого человека. Наташка не обижалась, она боялась, но раз всё кончилось, и истошных криков больше не будет, то она пойдёт спать.
В доме погасли все шумы, и что-то странное ползало по стенам. Наташа хорошо помнит ту ночь. Она лежала на диванчике, натянув одеяло до макушки и слушала, как тихо-тихо поёт мятель. Дед всегда говорил «мятель», и, хотя бабка Люся его и ругала за это привезённое с отрогов гор «не позволительное нормальному человеку словечко», Наташе оно нравилось. Ей чудилось в нём, как ветер нежно мял снежинки, придавая им самые разнообразные формы, как вдыхал в них жизнь, и они, напитанные запахами мяты и разлапистых елей, под самые сладкие звуки на свете падали на землю. «Тебя убаюкивает», – сказала бы мама, но мамы рядом не было, да и папа был на работе в ночь – охранял объект. Наташкино воображение рисовало папин объект в виде сложенных высокой, сужающейся кверху, башней кубиков. Наверное, мог с ней побыть дед, но слишком странная тишина. В такой тишине дед нужен маме. Маму легко обидеть, а она справится, потому что, как говорил дед, она родилась Наташей и все последствия вытекали из её рождения и её имени. Ей было непонятно, что вытекает из её рождения и уж тем более – из имени, но она чувствовала значимость дедовой фразы и почти с пелёнок верила в свою исключительность, которая сейчас никак не мешала ей дрожать от страха.
Ночь, обычно многоголосая, успокоила вьюгу, заглушила голоса соседей, затмила все шорохи и вздохи, заставила замолчать весь мир. Наташа, сжав в кулачок всю свою волю и упразднив нервные волнения, бесшумно выползла из-под одеяла, натянула на себя снятые перед сном колготки, сверху нацепила носки, закуталась в мамин халат и чуток приоткрыла дверь. Свет прочертил тонкую полоску на детском столике, сделанном для неё дедом, и упал на вырезанные им же небольшие кубики с выжженными буквами. На этих кубиках дед объяснил внучке, как складывать слова. Сейчас шесть кубиков высились трёхэтажной башенкой, и на них сверху вниз по слогам было написано НА-ТА-ША. Глянув на своё имя, девчушка снова влезла под одеяло. Теперь, когда свет выхватывал имя, а тело было упаковано в несколько слоёв одежды, словно она была не девочкой, а капустой, пришла уверенность, примиряющая с несносной тишиной. Наташа улыбнулась, представив себя ровненьким кочанчиком на огромной грядке, и тут же перенеслась в другую мысль: как всё-таки хорошо, что у всего есть свои имена и у неё тоже. Интересно, как жили бы люди, если бы у них не было имён? Наверное, всё было бы по-другому… Да, обязательно было бы по-другому. Все бы обращались друг к другу «эй!», и это портило бы картину мира. Бабушка Люция частенько говорила, что ей портят картину мира, а после злилась на испорченный мир, такой грубый и такой бесчувственный. Размышления сгущали сон, и Наташа, маленькая полноватая девочка, прозванная бабкой исчадием ада, в столь нежном возрасте умеющая обуздать свои страхи, чувствующая ответственность за других и понимающая уже значение имени, заснула. И, наверное, многое сложилось бы в её судьбе иначе, если бы не события, привлечённые в жизнь семьи Потаповых смертью бабки.
***
После похорон Люции Эдуардовны родители стали опекать Наташку так, как будто старались изжить из её детской головки все злобные взгляды, все несправедливо брошенные в неё словечки, все тычки и подзатыльники, без стеснения отпускаемые бабкой. Больше всех усердствовала Настя. Ей было стыдно перед дочкой за свою взбалмошную мать, и она всеми возможными способами старалась облегчить ей жизнь. Раис, почувствовав себя полноценным хозяином в доме, Настино отношение к дочке подхватил, и между родителями началось негласное соревнование по сглаживанию углов, натыканных Люцией по всей площади их семейной жизни. Наташка, получая отныне поощрения любым своим действиям, каталась в безмерной опеке родителей как сыр в масле. Ещё не успевало оформиться у неё желание, как его тут же утыкивали частоколом желание-заменяющих предложений. Ей многое позволялось, но за неё всё решалось, и всепозволенность выглядела тонким бархатистым и всё смягчающим флёром, через который подрастающая особа с умилением смотрела на мир, всё реже и реже вспоминая бабкины колкие слова.
Особого достатка в семье не было, но стабильность была. Раис, раз в трое суток надевая отутюженную форму, уходил «сидеть на проходную», через которую Настя по утрам спешила на работу – в отдел технического контроля, в тот самый, где «провела свои лучшие годы, пытаясь заработать на корку хлеба», её мать, стремившаяся вырваться из «цепких лап сжирающего её нежную душу и хрупкое тело безжалостного монстра». По поводу своего графика работы Раис постоянно отпускал одну и ту же шутку, что работает он на птичьем дворе с утками, с курами, с гусями и прочей мелкокалиберной живностью, и единственная крупная мишень во всём этом предприятии – это его Настасьенька.
Михаил Иванович, выделяясь огромным ростом и мощным телосложением, чувствовал себя дома неловко, как медведь, с трудом поместившийся в теремке. Пока жива была Люция, такого чувства у него не возникало – с ней он ощущал свою значимость, а не свой рост. Не разбираясь в психологии, он понимал «выкидоны» жены, сочувствовал ей, как мог – жалел. После её ухода в мир иной, нить, связывавшую его с городской жизнью, перерезали, словно пуповину, и он повис в воздухе в ожидании, что кто-то вдруг шлёпнет его и он обретёт возможность кричать и дышать полной грудью. Но шлепков не было. Настя и Раис всё своё внимание с лихвой отдавали Наташке, а он получал лишь положенное ему почтение. В душе Михаила Ивановича было неспокойно, и он, не отдавая себе отчёта, погружался в работу. Из его медвежьих лап с массивными ладонями и короткими, словно обрубленными, пальцами выскальзывали способные украсить любой интерьер изящные замысловатые вещицы, детские игрушки, деревянные скульптурные изваяния. В столярке его уже давно прозвали деревянных дел мастером. Его любили равно как за добрый нрав, так и за великодушное молчание. Когда же он, спустя полгода после смерти жены, объявил о своём решении уехать в деревню, его назвали недотёпой, не способным понять, какое имя и какую славу он может себе обеспечить, но проводили по-хорошему, с почестями. И даже выдали грамоту за добросовестный труд, приложив к ней скромные премиальные. Михаил Иваныч неуклюже потоптался, поблагодарил всех и, не оглядываясь, вышел вон. Ему здесь нечего было терять: приятелями он не обзавёлся, должностей себе не заработал – уходил налегке.
Долго подбирал слова, как сказать детям о намерении вернуться в родной медвежий угол, поманивший вдруг своей мохнатой лапой, но и это оказалось не так уж трудно. Они поддержали его в таком решении, заверив, что будут к нему наведываться. Сборы были недолгими. Раис сразу стал выше ростом и по квартире ходил, щёгольски осматривая – теперь уже свои – владения. Настя по-дочернему повздыхала и смирилась с решением отца. С Наташей оказалось сложнее. Поняв, что самый родной человек хочет сбежать, она всплакнула, прильнула к плечу, исцеловала его лицо и взяла честное-пречестное слово с родителей, что она будет «все лета у дедушки жить, начиная вот прямо с сегодняшнего». Так всё и сталось. Наташа не мыслила каникулы ни в каком другом месте – только здесь, рядом с дедом, на берегу «реки всех рек», под сводами девственного леса, на скальных отрогах она чувствовала себя окрылённой и по-настоящему свободной.


