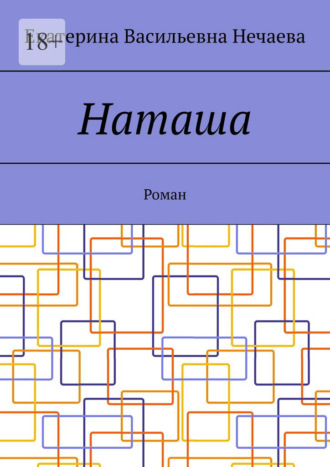
Полная версия
Наташа. Роман
***
Возвращение в родные места далось Михаилу Ивановичу тяжело. Воспоминания угнетали. Родной деревни уже не было – всё до последнего дома слизал пожар. Как корова языком. Он знал об этом из писем, приходивших какое-то время от матери, написанных тайком от отца.
Письма
Первые лет пять, пока юношеское восприятие мира нагоняло страх за совершённый поступок, Мишка даже думать боялся о том, чтобы показаться в родительском доме. Потом, когда Димка уже вовсю научился истерить, а Настенька уверенно встала на ножки, решился, отпросился у Люции и поехал. Жена оказалась настолько благосклонна, что разрешила взять машину. Он даже удивился, а как же она? Неужто пешком ходить будет? Но Люция потрепала его по щеке и коротко бросила царственное «поезжай!».
Крутя баранку, Михаил представлял, как расскажет родителям, что у него теперь есть дети, а у них, стало быть, внуки. Правда, момент этот от него ускользал, потому что, прежде чем о детях говорить, надобно покаяться, но готов ли он к покаянию? Готов ли склонить голову? Пожалуй, что – да, готов, ведь он и сам уже дважды отец и в глубине души понимает, что если не испросит прощения, то трудно будет беречь своих детей – бельмом ляжет на род будущий и суровое молчание отца, и опущенный робкий взгляд матери.
Август кропил мелким дождиком, не умея выдавить из роящихся серо-палевых туч более увесистые и частые капли и прибить дорожную пыль. Со взгорка открылся вид на растянувшиеся вдоль чудесницы Чусовой чизменские дома, за которыми плотной зелёной стеной высились богатыри-кедры, дарящие покой и непоколебимость в том, что завтрашний день непременно будет. Сердце клокотало, кровь пенилась от до боли знакомого вида. Михаил припрятал машину возле ивовых кустов, скрывающих в своих густых шапках речушку Чизму, огляделся, словно боялся быть застигнутым врасплох, смерил взглядом пасущееся в отдалении стадо и удивился, как оно измельчало: пяток коров взаместо полусотни с лишком. Что стало с его деревней? Неужели деревенский люд отказался от такой необходимой животины, как корова? Разве ж можно в деревне без этой кормилицы? Странное томление сжало грудь тисками, и Мишка ощутил такое скверное и жгучее одиночество, что захотелось плакать. Негодуя и на самого себя, и на поредевшее значительно стадо, и на тех, кто это допустил, он закатал штанины, скинул обувку и перешёл реку там, где когда-то гонял вброд коров. Дно реки по-прежнему было испещрено многочисленными коровьими следами, словно время, не сдавая своих позиций, не желало стирать натоптанное за два века.
Нежаркий день клонился к вечеру, и солнце играючи путалось в широких кедровых лапах. Он и сам бы сейчас в них запутался, пробежался бы по лесу, наведался на знакомые речушки, на звенящие ручьи, на источающие пряные летние ароматы поляны и растянулся бы во весь рост на пологой стороне Мельничного лога. Или лучше затаился бы в тени едва слышного ручья с громкоговорящим названием Бедька, привалился бы спиной к суковатому дереву с давно облезшей корой и смотрел бы ввысь, сквозь листву, сквозь иголки… и видел бы, как по-телячьи, немного обиженно и томно, выпячивает небо полные белые губы, цепляется к ползущему с низин туману и бесконечно долго пьёт сбитое прохладой молоко. Но – как будто кто-то невидимый и всемогущий провёл нерушимую границу между жизнью до и после, и нарушить эту границу было невозможно.
Плачевно выглядела деревня: окна многих домов были заколочены, а те, что ещё смотрели из-под тоненьких ситцевых занавесок, выглядели неживыми. Стояла гробовая тишина. Не сновали по делам бабы, не мельтешили дети, не велись после рабочего дня мужицкие разговоры подле чьей-нибудь калитки. Вымерла деревня, сократилась с двухсот человек до девятнадцати…
Подходя к дому, Мишка думал, что вены не выдержат и лопнут от напряжения. Потом увидел, как вышла на крыльцо мать, склонилась над… (его сестрой? как изменилась, не узнать!), рванулся к ним, но от неприступного вида внезапно появившегося отца замер, держа в руках зашарканные ботинки со свисающими змейками-шнурками. Из-под брюк выбилась новенькая рубаха в мелкую красно-белую клетку. Мишка сначала опустил глаза, глядя на клетчатую рябь, потом несмело посмотрел на родных, готовый вот-вот кинуться, чтобы обнять их, но под стопудовым взором отца не мог сдвинуться с места. Ему казалось, что он врастает в землю, что ещё немного, и его поглотит полностью, сдавит, ломая рёбра и грудь, сожмёт горло, выдавит из черепной коробки мозг. Мишка задыхался. В голове сделалось так горячо, будто в неё по капле вливали расплавленный металл. Тело онемело. Не чувствуя ни рук, ни ног, лишь – кипяток в голове, нерадивый сын с мольбой смотрел на родных.
Отец в дом не пустил. Мать стояла за его спиной, сдерживая слёзы, но кинуться навстречу сыну не решалась. Рядом громоздилась старшая сестра, рябая Дарьяша. Она, исхудавшая, еле стоявшая на ногах, опираясь на костыль и близоруко щурясь, что-то сказала отцу, но тот зло отмахнулся и велел обеим уйти в избу.
Михаил уехал, так и не обняв мать и не сказав сеструхе доброго слова. Больше он не приезжал, но в конце лета, подгоняемый надеждой, написал матери нескладное письмо. Так завязалась скупая переписка. Ответы были редки, потому что писались тайком от отца, проклявшего сына. Мать писать не умела, поскольку была малограмотной и могла лишь читать «по складам», письма же не разумела вовсе.
Первое послание, ожидаемое долгие месяцы и прилетевшее перед Новым годом, было длинным и обстоятельным. Дарьяша под диктовку матушки писала на листочке из школьной тетради в широкую линейку неровным скачущим почерком о том, что они готовятся переезжать в соседнюю, чуть выше по течению, деревню, «потому как нашу-то Чизму порешили стереть с лица Земли», написала, что дом уже выбран, и сообщила адрес, по которому они с матерью будут ждать его весточек. От себя добавила душераздирающее об угрюмости отца, запечатавшего свою боль под проклятием, о болезнях матушки, надорвавшей и поясницу, и ноги и тщательно скрывавшей истинное положение дел, о зарезанной на мясо Глашке, которую она, Дарьяша, есть не может, потому что помнит её глаза, запах и исходящее от неё тепло, в конце черкнула об оставшихся жителях деревни, по-разному относящихся к «отлучению от родины».
Люцию письма, приходящие из деревни, не интересовали, поэтому она попросила избавить её от вникания в чужой семейный вопрос, и Михаилу было не с кем обсудить, что делать и как жить с этой ношей дальше.
Следующее письмо, короткое, с сальным пятнышком в левом нижнем углу, по весне принесло горькую весть: «померла Дарьяша, отмаялась вековуха, отболела сердешная». Было ещё несколько писем, таких же коротких и печальных, выведенных ровным округлым почерком, а через какое-то время переписка стихла, пока несколько лет назад приходской батюшка, изредка объезжавший жителей деревень, не написал, что Иван Потапов упокоился с миром, что окна на доме заколочены, а ключ от избы хранится у него, отца Алексия, который и писал все письма «по просьбе рабы божьей Федотьи, а потому стал невольным свидетелем горькой материнской любви и сыновьей привязанности». И ещё: «…то ли по великому промыслу божьему, то ли по столь же великой случайности, хозяйство моё скромное находится в той же деревне и почти на той же улице, не отвечающей духу эпохи, но отражающей характер деятельности и дух жителей древних гор».
***
Очевидно, последние слова батюшка вставил для красоты словесной, потому что деревня давно уже не отражала ни промысел человеческий, ни любой другой промысел. Дух времени, требовавший когда-то для страны алмазов, золота и платины, выветрился так же, как ещё до него обнищал дух, поддерживающий то ценное в человеке, что не измеряется ускользающей сквозь пальцы золотой пыльцой. А что до духа жителей древних гор… Пусть это остаётся непреложной истиной, незыблемостью. Не станем его трогать, ибо это основа основ, вписанная в наш генетический код и помогающая тогда, когда самим нам уже не справиться.
Михаил Иванович, приехав в деревню, которая никогда не была ему родной, застал батюшку, несмотря на сомнения «дома-не дома, жив-не жив», копошащимся в ограде. Он был уже «привесьма состаренный», службу не служил и более теперь воздавал хвалу земле, что кормила и поила его и немногочисленную скотину, но слава «международно-известного по деревням» преследовала его весь остаток жизни. Народ любил поговорить с ним, послушать его мудрое доброе слово, не навязывающее религию, но заставляющее обратиться вглубь себя и отыскать там нужный ключик.
Отдав ключ от дома и красочно расписав местоположение оного, старичок возвёл кристально-синие глаза к небу и выдохнул, что выполнил он последнюю свою миссию и что, видать, заканчиваются его дела земные. Легко вдохнул и долго смотрел вслед удаляющемуся, хоть и нерадивому, но всё же божьему сыну, с которым ещё не раз будет вести разговоры на житейские темы, сидя где-нибудь на берегу реки с удочкой, или возвращаясь из леса с ягодами-грибами, или без суеты шагая с деревенского кладбища. Дед Лёша или, как его прозвали деревенские за буйно растущие кустистые брови и весёлую торчащую во все стороны бородку, дед Лешик, неприхотливый, всегда в благостном настроении, готовый помочь в любом «не сильно сложном вопросе», про окончание земных дел ошибся и прожил ещё лет пятнадцать после приезда Михаила.
– Это как ведь получается? – скрипел он теряющим басистость голосом. – Думал, все дела сделал, а вишь, как вышло, держит меня история ваша семейная. Не могу я взять и бросить тебя с твоими думами горькими, жду, когда всю вину изживёшь из себя и духом окрепнешь.
Михаил сначала думал, что дед Лешик к вере его приучить хочет, и твердил, что крестов в жизни не клал и сейчас тоже рука не поднимается, но получил ответ, что дух добром крепится, словом ласковым, помощью в делах разных: скорбных и радостных.
– А как же! – восклицал он, видя непонимание. – Радость тоже участия требует. Скорбеть с другим проще, а ты поди порадуйся радости другого, да так, чтобы без зависти! На этом многие ломаются: в горе пожалеют, а в радости обзавидуются. А дух ни на жалости не крепится, ни на зависти. Это для него, как водка или табак, только силы отнимает. Радость же – как вода родниковая, через толщи земли прошедшая, а потому – кристальная чистая, холодная, освежающая мозг и душу исцеляющая. Как нахлынет такая радость, так сразу понимаешь, как велик мир и как удивителен промысел божий!
Михаил каждое слово впитывал от деда Лешика, всем сердцем к нему прикипел, за отца почитал и однажды уловил-таки в его глазах добрый взгляд своего бати. И горько ему тогда стало, и сладостно. После одного из таких очищающих разговоров пришёл он как-то домой и достал из огромного сундука Дарьяшины книги. Весь вечер тогда просидел над ними, перебирая, перелистывая, рассматривая… чувствовал, как будто душа сестры витала над ним и улыбалась. Когда к нему в руки попал томик стихов Есенина – тот самый! С Шаганэ! – он не смог от него оторваться. В ту ночь он запоем прочёл свою первую книгу.
Глава вторая. Первый снег – как первый поцелуй
***
Был один из тех пасмурных дней, мелко и ехидно стучащих по стёклам холодной дробью, когда не хотелось вылезать из-под одеяла. В такие дни, затяжные и беспросветные, на Наташу нападала меланхолия, вгрызалась в самое нутро и не оставляла надежды на будущие дни, где могло бы случиться солнце. Тогда ей хотелось снова стать маленькой. И чтобы дед носил её на руках и качал, качал, качал. И чтобы пахло сосной, липой, берёзой. Чтобы мама и папа пересмеивались на кухне, а она, в ожидании первых снеговых промельков, – с нетерпением бы всматривалась в переливчатую от дождя заоконную картинку. Наташа любила зиму, ждала с тайным трепетом первого снега, как будто первого свидания. Или первого робкого поцелуя, который случился в её жизни под первый снег. Она училась, кажется, в седьмом классе. Невысокий паренёк из соседнего дома конфузился и никак не решался поцеловать её. Так длилось несколько недель. Он вздыхал. Она ждала. Но в тот раз, обжигая лицо, пошёл первый снег, и Наташа не выдержала полыхающего внутри пожара! Она стянула с мальчишки шапку, резко наклонилась и поспешно поцеловала в потрескавшиеся от холода губы. Потом они бесконечно долго стояли в вихрящихся хлопьях и целовались, целовались. Как давно это было! Она даже имя его вспоминала с трудом… Как сон, в котором правдивыми оставались только снежные хлопья. Наташа от захлестнувших её эмоций, ранее не ведомых, заболела и три недели просидела дома… Она не знала, что сталось с тем пареньком, но больше она его не видела. А может, и не было ничего, кроме завораживающей мистерии первородной белизны, в преддверии которой теперь неизменно приходила печаль. Даже несмотря на то, что жизнь сложилась счастливо и что все вокруг её любили, она не могла превозмочь себя и полностью отдавалась внутреннему позыву.
Это было важное время, поэтому много лет подряд Наташа брала отпуск ближе к концу октября. Над этим фактом подтрунивали все: и горячо любимый муж, которого она называла не иначе как Павел Иванович, и здравствующие родители, и коллеги по работе. И даже дочь научилась с малолетства поддерживать большинство. Наташа не обижалась – она и сама подтрунивала над собой, говоря, что продуктивный год ей необходимо балансировать качественной деградацией, а обиды рассматривала как пустую трату времени. Но был в её жизни человек, который никогда не подшучивал над ней. Она вспомнила деда, следом вспыхнула картинка коробки с кубиками, из которых складывались самые значимые слова в её жизни. Интересно, куда они делись? Она их так любила! Наташа бросила невольный взгляд на свой стол, деловой, официальный, серый. Как в офисе. На полках солдатскими рядами выстроились папки. Она и не заметила, как работа переехала в дом и оккупировала часть комнаты. В отпуске эти папки, этот стол, этот официозный порядок выглядели так же нелепо, как выглядит на раскалённом пляже вырядившийся в костюм-тройку представитель какой-нибудь фирмы. Отпуск на рабочем месте. Странное ощущение полонило Наташу и крепко удерживало в своих застенках. До неё вдруг дошло, что она несколько месяцев не заглядывала в комнату дочери и понятия не имеет, как там у неё? По-прежнему? Или что-то изменилось? Дорожный знак на двери Кати красноречиво говорил, что проезд воспрещён. Когда это случилось? В суете она и не заметила, как отдалилась от неё. Теперь они… как соседи? Иногда милые, иногда скупые на приветствия соседи, у которых и время ужина не всегда совпадает, и завтраки проходят в такой спешке, что пары слов сказать не успеваешь сквозь светящиеся экраны телефонов. Как бы Наташа ни обожала Катюшку, как бы ни баловала, та предпочитала свободное время проводить с отцом. Нет, между ними не существовало непонимания, не пробегало никаких кошек, но появилась некая, задаваемая ироничным тоном мужа и общей недосказанностью, прохладца с редкими проблесками тепла. Отношения с малолетним ребёнком изживали себя, отношений с формирующимся подростком не получалось. Говорят, женщине труднее, чем мужчине, принять чужого ребёнка, но Наташа приняла, полюбила и искренне считала Катю своей дочерью.
Павел Иванович
Как только Павел Иванович, человек неопределённого вида деятельности и такого же неопределённого возраста, услышал от жены «я беременна, ты станешь отцом», он воспылал к ней ещё большей любовью, если, конечно, существуют какие-либо степени проявления любви, кроме той единственной, которую пророчат мерилом всех вещей. С самых тех слов он, окрылённый, с сияющими глазами, готов был носить «свою женщину» на руках, но случилось непоправимое: сложная беременность обернулась родами ещё большей сложности, и Павел Иванович остался один с младенцем на руках. Такое не привидится даже в самых страшных снах, но реальность – штука упрямая и, в отличие от сна, чересчур категоричная: из неё не вынырнешь, от неё не очнёшься. Обстоятельства, приложив обухом по голове, затребовали ответственности, и новоиспечённый отец, терзаемый великими сомнениями, взял декретный отпуск.
Он честно пытался справляться со всем, что на него свалилось, но получалось плохо. Катя всё время плакала, часто мучилась животом, одну за другой ловила простуды. Соседи по общежитскому коридору стали пенять ему то на одно, то на другое, но особенно на крики ребёнка по ночам, которые он, измученный и надорванный, перестал слышать, младенчески посапывая под дочкины вопли. Устав бороться с соседями, совсем отчаявшись, Павел Иванович малодушно подумывал о детдоме, но однажды недалеко от общаги, в скромной аллейке удалённого от центра района, подвернулась одинокая, симпатичная, с квартирой.
Он доставал из пакета бутылочку с питьём вечно орущей Катьке, но оказался так не ловок, что всё содержимое вывалилось из рук и шлёпнулось на асфальт. Бутылочка откатилась на край тротуара. На помощь подоспела девушка. Он нечаянно коснулся её руки, и дальше они пошли вместе. Получилось ли само собой или это был мгновенно созревший план, но он излил всю душу первой встречной. Завести разговор, очаровать и даже влюбить в себя – этот навык у Павла Ивановича был развит прекрасно, хотя пользовался он им исключительно под настроение. Язык подвешен – говорят про таких. А язык Павла Ивановича был ещё и себе на уме, и потому пускал он его в ход только при таких обстоятельствах, которые складывались в заранее планируемую выгоду. Когда-то он обаял славную девушку и переехал к ней в общежитие, в большую светлую комнату, выходящую двумя окнами на юг. Для человека, заложившего своё жильё под сомнительное предприятие и не сумевшего его вернуть обратно, это был выход. Или вход. Всё зависит от того, как покрутить вопрос, в чём Павел Иванович, без сомнения, был дока.
Околдовать одинокую и симпатичную, как по мановению волшебной палочки очутившуюся на его пути, оказалось делом настолько плёвым, что Павел Иванович едва ли успел и дважды рот открыть! Его жена (царствие ей небесное!) мурыжила его значительно дольше – бастионы пали только тогда, когда она забеременела. Эта же, Наташа, оказалась совсем простушкой. Она была отзывчива, мила в общении, вникала в каждую деталь его многострадальной жизни, при этом – весьма и весьма хорошенькой на лицо и приятной на фигуру, о чём Павел Иванович не замедлил ей сообщить. Ему даже показалось, что он полюбил её, и не мудрствуя лукаво он поспешил объясниться ей в своих чувствах. Она обрадовалась, потому что тоже полюбила отчаявшегося мужчину, на чьих плечах лежало и непомерное горе, и великая ответственность.
Их знакомство длилось около трёх недель. Павел Иванович не любил тянуть кота за хвост, о чём честно сказал своей новой возлюбленной, добавив, что пылкость чувств – явление моментальное: она либо есть, либо её нет, – и в ожидании нет смысла. Наташа, к тому времени ещё не знававшая глубоких искренних чувств (если, конечно, не причислять к этому первую влюблённость), прониклась речевыми оборотами, соломкой подстеленными под её полыхающий от всего нахлынувшего мозг, объявила родителям, что выходит замуж за мужчину с ребёнком, и – не встретила никакого противоборства. Впрочем, она никогда его не встречала. А если не встречаешь никаких препятствий, то можешь ли противостоять чему-либо? Можешь ли почувствовать и поддержать борьбу, что разворачивается внутри души твоей, распознать обличия сомнений, увидеть метания слабостей среди сильных сторон твоих? Наташа цвела цветком тепличным, оранжерейным, в ней было так много всего светлого и чуткого, что она не различала теней и в каждом видела только хорошее, искреннее, светлое.
Павел Иванович с восьмимесячной дочкой переехал в квартиру Потаповых ещё до свадьбы, расписаться же официально с посланной самим богом избранницей договорился, когда минует год со дня смерти первой (на этом слове он делал особый упор) жены – он чтил традиции, заведённые предками, и это ещё больше впечатлило Наташу и добавило уважения к личности будущего мужа. Её смущало не то, что о своих предках он говорить не любил, даже морщился при вопросах о них, а её собственная несдержанность и бестактность при задавании подобных вопросов, поэтому очень скоро она перестала интересоваться родословной Павла Ивановича, и его туманное прошлое оставалось покоиться под плитой с грифом «секретно». Мы тоже не станем задаваться этим вопросом и будем считать сам образ Павла Ивановича, его характер, его склад ума и жизненную позицию неким грубым фактом, принимаемым учёными-физиками за истину, не требующую доказательной базы. Пусть плита эта остаётся неподъёмной, и пусть там, под ней, почивает и радость, что жизнь преподнесла сюрприз в виде Наташи и теперь ему можно вздохнуть с облегчением, скинув заботы о дочке на женские плечи. Негоже выказывать радость там, где тебя могут уличить. И, вместо искренней благодарности, выплывали из уст Павла Ивановича старательно оформленные шуточки, вытекали прибауточки, бутафорски выкатывались анекдотцы. Наташа смеялась. Павел Иванович сквозь речи свои внимательно наблюдал за ней и думал, действительно ли он любит новую жену, или это её лёгкий облик творит этакое подобие любви, или ему уже хочется остепениться и зажить долгой счастливой семейной жизнью? Как бы там ни было, ему и впрямь казалось, что он стал другим. Где-то глубоко-глубоко, в самых тайных кладезях души, замаячил слабый огонёк щедрости, готовый расцвести и озарить лучшие человеческие качества Павла Ивановича, уже почти принявшего решение объединить доставшуюся ему комнату и квартиру Потаповых в приличную трёшку поближе к центру. Но… не созрел огонёк, не пролился пламенем души – скрыл Павел Иванович от Наташи эту малую скромность своего наследства, сказав, что комнату-де они снимали, а он – гол как сокол, и коли любишь – принимай так, как есть. Наташа приняла.
Изменился ли характер попавшего в трудности человека или остался такой, как был, можно сказать лишь в сравнении, что не представляется возможным сделать: пасмурное прошлое Павла Ивановича неведомо, сам он о нём никогда и никому не рассказывал, вопросов на эту тему удачно избегал и городил о себе только разные околесицы да оконечности, не прибавляющие знаний о жизни прошлой.
Может быть, Наташа оказалась не первой, с кем он так себя проявил. А может, действительно, не властен человек над обстоятельствами и при неудобствах готов на лицемерность разного рода и подличания невиданных склонений? Не нам судить Павла Ивановича Гужевара, поставленного самой жизнью в неудобное положение, выкрутиться без посторонней помощи из которого – пойди попробуй! Что же до его характера нынешнего, проявившегося в супружестве с Наташей, то пару слов добавить можно. Павел Иванович натурой был не очень понятной с характером уклончивым, имел много скрытного, прямолинейных решений не принимал, но на принятие их влиял самым непосредственным образом. Ему удалось очень деликатно и тонко подвести Наташу к замужеству. Он очаровал её родителей, людей простых, без особых изысков, а потому удобных и славных для проявления его житейской хитрости, такой необходимой и ему, и его дочери, нуждающейся не только в материнской любви и заботе, но и в участии бабушки и дедушки.
С уверенностью о Павле Ивановиче можно сказать, что вредными привычками он не страдал, переживая за долголетие своё и свойства здоровья, не сквернословил, ежечасно памятуя о том, что «откуда слова выходят, туда пища заходит», умел поразить высокопарным слогом (когда надо), мог поправить и даже одёрнуть, не терпел словесной белиберды и поэтической шелухи, зато чертыхался охотно и в чёрте осквернителя уст не усматривал. Считал для себя благим делом откушать не только вкусно и полезно, но с чувством, растревожив каждую струночку души. Наташа, так и не освоившая «трапезу» и всегда доедавшая всё, что было на её тарелке, не раз отмечала, что бабушка Люция колдовала над пищей точно так же, как Павел Иванович: никуда не спеша, не отгораживаясь даже от чая газетой, журналом или книгой – она позволяла себе недоедать, предаваясь ощущениям сытости, а не наслаждения, хотя ни тот, ни другой ни за что не стали бы есть что-то не по вкусу. В отличие от Наташи и её родителей, поглощавших всё без разбора.
Особенно прельщал Павла Ивановича аромат и хруст гренок в каком-нибудь супчике-пюре, куда он их насыпал маленькими порциями, чтобы не расквашивались, и, когда они рассыпались на зубах, он вспоминал хруст полуистлевших, почти невидимых взору морских ракушек, маленьких, дыроватых, с тонюсенькими от времени стенками. И тогда, от приятности этакой, начинали зудеть у него пятки, прося хруста ещё и ещё, и Павел Иванович так налегал на блюдо, которому должно было оставаться горячим на всём протяжении трапезы, что смотрящий со стороны мог бы подумать, что это последняя в жизни тарелка такого изумительного супа. Отделавши суп, знаток гастрономических изысков минут десять-пятнадцать сидел, опрокинувшись на спинку стула, вытянув ноги и глядя в окно в неохватную небесную даль. В это время он старался ни о чём не думать, а лишь слушать свой организм и чувствовать те приятности, что разливались по нему вместе с супчиком. После того, как первое блюдо укладывалось в желудке, Павел Иванович брался за второе, в коем непременно хотел видеть отменный кусок мяса, вымоченный в пикантном соусе с остротцой и обжаренный до румяной корочки, чтоб тоже хрустела. Чаем или другими напитками после трапезы не баловался – берёг фигуру, склонную расползаться и вдоль, и поперёк, а потому позволял себе сладость только в полдник, и то – небольшой кусочек, дабы побаловать вкусовые рецепторы, но не утомлять желудок. После вкушания блюд обычно мягко выкатывал из себя: «Спасибо всем, кто кушал, приготовить каждый может».


