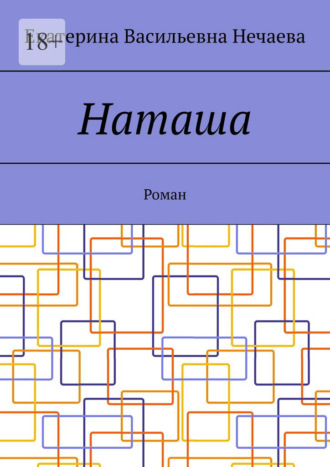
Полная версия
Наташа. Роман

Наташа
Роман
Екатерина Васильевна Нечаева
Редактор Владимир Николаевич Нечаев
© Екатерина Васильевна Нечаева, 2024
ISBN 978-5-0065-0560-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Философское послепрочтённое
Альберт Камю в «Мифе о Сизифе» говорил о том, что единственно важный философский вопрос – это «стоит ли жизнь того, чтобы её прожить?». По большому счёту, это вопрос о счастливой жизни – как быть или как стать счастливыми?
Вы держите в руках третий роман Екатерины Нечаевой. Каждый из них так или иначе связан с ответом на этот вопрос. Первый роман «На другой стороне лжи» – по сути, об истоках человеческого счастья и несчастья. Второй, «Юрфак», – о том, что мы обязаны быть счастливыми из любви к себе и другим, которая только одна и способна преобразить и залечить детские травмы.
Данный роман поднимает тему счастья из самых глубин присущего всему живому желания жить, которое на уровне человека порождает проблему смысла жизни. Причём, очень важно, что это желание жить здесь показано и в его минимализированном виде – «лишь бы выжить», и в своей предельной полноте – «жить в полное дыхание, даже стоя на краю пропасти». Ещё Данте в своей «Божественной комедии» писал о том, что все человеческие желания ведут к счастью, но при одном условии, если мы не соглашаемся на малое. Согласие на малое – из страхов или лени – и является источником всех несчастий человека, согласие на малое замораживает жизненные силы, вызывая в человеке чувство усталости, скуки, приводя к тому, что ты живёшь не свою жизнь.
Главная героиня романа оказывается в целом букете негативных экзистенциальных переживаний – одиночество, ужас, отчаяние. Кого-то эти переживания окончательно отправляют на дно, а в ком-то они пробуждают чистое желание жизни – сильное до такой степени, что на меньшее, чем на счастье, он уже не согласен. И этот, последний, ни в коем случае не желает становиться источником боли ни для других, ни для себя. Не желает быть пулей, не способной увернуться от действия физических констант и законов, но – желает быть существом, свободно и играючи конституирующим себя в мире. Он, как змея, которую героиня однажды подержала в руках, жаждет освободиться от старой – пусть и шелковистой – кожи, и вырастить новую – со-причастную себе.
Сбрасывать кожу – наросшую шелуху —
змеиная драма, но как без неё сбываться (?!):
бескожной – больней, но – верней обновлять судьбу,
застрявшую меж узоров сверкающим глянцем,
чья яркость скрывает нательные письмена…
Таинственность знаков не терпит власти и славы.
Вглядеться же в них – обрести средь иных себя,
кожею вновь обрастая в любви и… забавах!
Экзистенциальная интенция романа хорошо видна в описаниях линий жизни разных героев: кто-то существует, а кто-то бытийствует. По Мартину Хайдеггеру, личностное бытие возможно только в горизонте времени, которое переживается человеком не столько как факт изменчивости всего и вся, сколько в качестве временности, преходящести, конечности и мира, и себя. Именно осознание и принятие человеком в себе этой базовой уязвимости и даёт желанию жить накал. Снижение же этого накала неизбежно умаляет ценность самой жизни.
Роман заставляет вспомнить и переосмыслить периоды жизни, в которых желание еле-еле теплилось, он запускает и инициирует важную внутреннюю работу по пониманию того, а как ты живёшь сейчас, не поступился ли своим счастьем ради мнимых целей? какие «обратки» ты получаешь от прошлого, владеющего тобой в момент их получения? по кругу ли ты ходишь или смог его разомкнуть своим жизненным порывом?
Чаще всего, болезнь – это крик уже-ослабленной воли-к-жизни о помощи. Можно сдаться, закрыться от этого крика, а можно сказать жизни «Да!», о чём писал в своё время Пауль Тиллих в «Мужестве быть». Мужество сделать первый шаг, дав в себе место трём вечным сёстрам: вере, помнящей о величии человека, причастного вечному и высокому; надежде, деятельно ожидающей грядущего, усматривающей в каждой встрече с Другим красоту и перспективу себя-иного (ибо любая встреча нас меняет); и, конечно, – любви как силе, оживляющей настоящее (стоящее в качестве стоящего).
Всё познается в сравнении. Прошлые романы легки в чтении своим стилем вплетения сюжетов, героев, исторических сведений в канву повествования, своей – и в нынешнем тексте явленной – высокой художественностью. Однако в данном произведении почувствовалась иная лёгкость. Такое ощущение, что Екатерине удалось сбросить с плеч авторский «груз» ответственности за сказанное слово, чреватой излишней серьёзностью. Здесь автор с прекрасным чувством юмора позволил себе поиграть и с именами отдельных персонажей, и с их личностными описаниями, и с характеристикой животных, а также блистательно передать трагикомичность отдельных эпизодов.
Роман «Наташа», как и предыдущие два, является подлинным свидетельством авторской любви к природе и истории Пермского края, к людям, вобравшим в себя дух восточной окраины Европы, уральских гор, лесов и множества больших да малых рек. И любовь эта выражена красивейшим образом!
Человек-творец опустошается, выпуская в жизнь созданное им, которое, в свою очередь, уже наполняет души читателей, зрителей, слушателей. Весь мир – это сообщающиеся сосуды: в одних убывает, в других прибывает. Единственный неиссякаемый сосуд – это мир в его многообразии. Для одних – он таков и есть сам по себе, для других – за всем этим стоит Бог, мыслящий идеи всех вещей (Аристотель), однако здесь совсем не важны мировоззренческие нюансы, главное, что есть творцы, которые – из ответа (вот он – источник настоящей ответственности!) на вторжение в них мира ли, Бога – из неясных очертаний идей, образов, сюжетов отливают законченные художественные формы.
В душе живёт надежда, что роман Екатерины Нечаевой, который вы держите в руках, не последний. Желаю насладиться! И жду новых произведений!
Наталия Алексеевна Хафизова, кандидат философских наук,
поэт, эссеист, член Российского союза писателей
«…Автор умело работает в разных стилях. Здесь вам и театр абсурда, и чистая беспримесная драма, и ироничный стёб. Очень бережно, иначе не скажешь, без намёка на пошлость, представлена сцена эротического содержания. Основные ключевые герои повествования выписаны подробно, и о каждом из них рассказ ведётся в своей индивидуальной, узнаваемой, манере. Присутствуют лирические и глубоко философские рассуждения, связывающие и сглаживающие переходы и смену действий, позволяющие перевести дух…»
Владимир Николаевич Нечаев, кандидат технических наук
Пролог
«Когда-то давно в стволе револьвера я был пацифистом, но кто-то выстрелом в радугу оборвал мою жизнь. С тех пор я больше не болен и не летаю, лишь иногда сквозь хрупкое стекло вижу глаза, изъеденные солью. В них – белое платье в секторе радуги и вечность до вероятной цели».
Свет бьёт в глаза так ярко, что боль сквозь зрачок проникает в мозг и калёной стрелой проносится вдоль позвоночника. Наташа стоит на самом краю. Она, не различая никаких звуков, чувствует, как пальцы босых ног холодит пропасть, разверзшаяся между ней и остальным миром. Белое длинное платье, пронзённое светом, но не позволяющее сквозь материю рассмотреть фигуру, не колышется ни единой складкой. Всё замерло. Сейчас, в этот момент, когда ушли все слова, когда отсвистели все пули, есть только свет. И ничего больше. Свет громоздится вокруг, давит на плечи, вливается в ушные раковины и шумит океаном, но это не тот океан, что выбрасывает на берег то шелесты, то стоны, то рокочущий шум, а тот, что раскрывает природный звук в самом центре своего сердца, там, где его никто не услышит, там, где он может быть самим собой.
Постепенно глаза привыкают к свету, боль растворяется, становится слышен гул. Он наползает на свет, проникает в него, перемешивается с ним и полностью поглощает струящееся отовсюду сияние.
Странное чувство охватывает Наташу. Ей чудится, как звук и свет меняются местами: звук обретает видимые очертания, а световые волны начинают звучать, как огромный вселенский орган. Всё непривычно и незнакомо, но её это уже не пугает, потому что она обрела устойчивость, отчётливо поняв, что край – это самое цепкое, он держит крепче всего, что ничего страшного с ней не случится – всё страшное перемололось в жерновах огромной мельницы, между двумя мирами: миром звука и миром света.
Затихающий свет обнажал будущее, расширяющийся гул успокаивал прошлое, разнося повсюду рокочущие волны. Всё случилось так, как она и не смела мечтать. Наташа закрыла глаза, чтобы на мгновение удержать выпавшее ей сегодня, которое, возможно, не случится уже никогда.
Вот так – на самом краю, в белом платье, с закрытыми глазами, ослеплённая несущимися на неё звуками. Словно в самом сердце океана. Она счастлива! Да, сегодня она счастлива, потому что освободилась от каких бы то ни было страхов, сомнений, сожалений. Грудь переполнял восторг, который хотелось щедро выплеснуть, чтобы океан стал ещё на одну каплю больше, но Наташа задержала дыхание – она хотела побыть наедине с обрушившимися на неё ощущениями, хотела прочувствовать и запомнить их. Она успеет вынырнуть. Всему своё время. И столкновению с океанской волной тоже. А пока, до момента, когда её накроет гул, когда она сама станет этим гулом, она будет стоять, замерев на отвесном краю, а потом – откроет глаза.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГДЕ ЖИВЁТ РАДОСТЬ?
Глава первая. «Ты родилась Наташей»
***
– Ненавижу! Ненавижу вас всех! – потрясая слабо сжатыми кулачками, обтянутыми белой просвечивающей кожей с тонкими яркими жилками, вскрикнула растрёпанная старуха. Она приподняла голову, в изнеможении замолкла, закрыла лицо дрожащими пальчиками и зло зашептала: – Почему я? Почему? Я жить хочу! Жиииить, чёрт бы вас всех побрал! Жить… Просто жить… Как же больно-то… Господи, если бы ты был, ты не позволял бы мне так мучиться… Не позволял бы мне умирать… Не позволял бы, господи… Дайте что-нибудь! Как же больно-то, как мне больно! Наська!
Старуха выгнулась, смяла одеяло, распластала руки в стороны и отчаянно закрутила головой. Взгляд её стал таким диким, что все отвели глаза. Дочь, понимая бесполезность своих действий, в спешке поднесла матери болеутоляющее, но та оттолкнула лекарство и вцепилась ей в руку, оставляя на нежной коже синяки. Дочь не знала, что говорить, как успокоить, и только слушала, как больная, безумно глядя ей в глаза, изрыгала проклятия:
– Это ты! Ты должна была сдохнуть, ты и твой приплод! Я ради вас от любви отказалась, всю жизнь с этим (она презрительно ткнула пальцем в понуро сидящего возле кровати мужа) прожила. Я, вместо того чтобы каждый день подниматься на театральные подмостки, шла на завод! Изо дня в день – на осточертевший завод, а могла бы сделать карьеру актрисы, у меня всё, слышите – всё! – для этого было! А теперь неугодна стала, муки смертные терплю. За что-о-о?
В комнату вбежала полненькая девчушка – тот самый приплод пяти лет от роду по имени Наташка. Старуха мыргнула на неё страшными глазами, открыла рот, но не смогла произнести ни слова и отвернулась к стене. Наташа боялась эту взлохмаченную больную старуху, но любопытство было сильнее, да и она привыкла её бояться, ведь Люция Эдуардовна не отличалась добрым нравом и покладистым характером даже тогда, когда была вполне здоровой. Всю сознательную жизнь она разыгрывала из себя жертву, вращая мир вокруг себя, то властвуя, то капризничая, то жалуясь на несуществующие боли в сердце, в желудке, в горле. Выйдя однажды замуж за парня из далёкой таёжной деревни, она не обрела с ним счастья, несмотря на его работоспособность, дружелюбие и неимоверную заботу. Она часто злилась на мужа из-за его «великой неотёсанной благодати» и проклинала своё замужество. На каждом углу она кричала о том, что он страшный человек, потому что его главная черта – это исполнительство и угодничество. Она уже давно забыла о том, как когда-то хвастала перед подругами, мол, вот какого медведя себе подстрелила в лесах уральских у самого подножия гор, как гордо демонстрировала его в своих кругах, претендующих на светскость, как похохатывала над его самым что ни на есть медвежьим именем – Михаил Иванович Потапов. А неотёсанный житель лесов, на тот момент подросток чуть более шестнадцати, взирал с удивлением и восторгом на городскую жизнь и на подруг головокружительной двадцатидвухлетней бестии Люции. Он и сам толком не мог объяснить, как так случилось, что он оказался в её объятьях… а потом вместе с ней в этой квартире…
Мишка
Перегоняя коров по мелкобродью, Мишка заприметил оживление чуть ниже по течению Чусовой, там, где река совершает поворот почти на девяносто градусов. На другом берегу, напротив камня Веера, одного из множества камней, тянущихся по берегам уральских рек, и уткнувшихся в него трёх добротных дворов, прозванных за отдалённость от деревни Москвой, туда-сюда сновал народ. Парни подтягивали к берегу байдарки, с шуточками да прибауточками вытаскивали из них вещи. Девчонки влезли в воду, визжа от восторга и что-то выкрикивая парням. До Мишки доносились лишь обрывки слов – день был ветреный: резко набегающие потоки воздуха разрывали звуки на кусочки, река гулко разносила голоса и сливала их в единое целое, вписывая в общее таёжное полотно.
«Девчонки!» – пренебрежительно подумал Мишка. Он смотрел, как их головы поплавками мелькали в бликующей
на солнце воде, как парни, отмахнувшись от них, как коровы
отмахиваются от паутов и надоедливых мух, уже вовсю натягивали брезент, вбивали колышки, разводили костёр. Он попытался сосчитать, сколько человек в группе, но не мог сосредоточиться. То ли блики мешали, то ли хаос, царивший в разворачивающемся палаточном городке. Зато каждую голову в стаде, которое гнал домой, определял моментально и точно знал, что все коровы на месте и идут, смачно чавкая копытами, через реку к своим хозяйкам.
Выйдя на берег, стадо разделилось на два потока: один повернул вправо, в сторону домов, широкой улицей тянущихся к камню Печка, другой влево, туда, где деревня острым концом своим упиралась в таёжные складки древнего лесного массива, – и коровы по единственной деревенской улице, растянувшейся вдоль Чусовой, важно раскачивая боками, несли себя по домам; стадо потихоньку таяло. Мишка следом за бурёнками повернул налево.
К концу улицы, где чуть на отшибе стоял Мишкин дом, осталась только их вечно пытающаяся куда-нибудь да удрать Глашка. Странно, но в тот вечер она вела себя настолько благопристойно, что удивился даже не умевший удивляться Мишкин отец. За ужином мать потрепала сына по золотоволосой голове, старшая сестра Дарьяша, год от года медленно теряющая подвижность из-за какой-то неопределяемой болезни, уловив безупречно-синий взгляд брата, улыбнулась, а отец, выходя из-за стола, хлопнул его дважды по мощной спине. Это был знак одобрения и довольства сыном, который нужно было заслужить и который придавал неоперившемуся ещё Мишке сил и бодрости.
В их семье чурались излишка слов и своё, даже самое тёплое, отношение к друг другу выражали чаще всего жестами. Самым тяжёлым было, когда отец и мать, как по сговору, не смотрели на сына, не перебрасывались словами о хозяйстве да о батиных делах в промартели, или не произ-
носили скупого «на-ка вот», или «завтре будет вёдро». Но самое главное – в такие пасмурные для Мишки вечера не было ни материнских прикосновений к его буйным кудреватым волосам, ни отцовского похлопывания по спине. Сызмальства он без слов понимал, что сделал не так, что надо исправить. И исправлял, чем заслуживал скупой кивок отца, хмурившего при этом брови и щурившего глаза. Единственной в доме, кому было всё равно, набедокурничал ли Мишка, сделал ли что-то не так по хозяйству или без спроса ушёл бродить по лесу, была обожавшая младшего братишку Дарьяша. Её грустные глаза всегда светились пониманием, в её словах всегда жило добро. Дарьяшина любовь давно вышла за рамки сестринской и несла в себе то высокое и безмерное, на которое способна лишь мать, не торгующая чувствами, но всем сердцем своим отдающая свет и тепло. Дарьяша оказалась способной на такую любовь не из-за приковывающей к дому болезни, не из-за того, что некуда себя деть, а из силы своего чуткого, воспринимающего всё остро и глубинно, сердца. Если Дарьяша за что-то бралась, то делала это настолько хорошо, насколько позволяли силы и здоровье. Когда-то она с отличием окончила школу, но мечта о дальнейшей учёбе так и осталась мечтой, залитой слезами и безутешными вздохами. Тягу к знаниям Дарьяша компенсировала книгами. Отец, уезжая за продуктами в Кын или Чусовой, при каждой возможности покупал ей книги, и она глотала их с жадностью, а потом перед сном пересказывала разные истории, почерпнутые на зачитанных, замусоленных страницах.
Мишка не запоминал авторов, но сюжеты впитывал с любопытством и вниманием. К шестнадцати годам в его голове бушевали невиданные океаны, расстилались обширные степи, разверзались земные недра, расступались звёзды, совершались геройские поступки и крутились фантастические идеи. А ещё Дарьяша своим густым тягучим голосом чудесно читала стихи. Особенно ему нравилось есенинское про Шаганэ, слова «потому что я с севера что ли, я готов рассказать тебе поле» он примерял на себя, чувствуя, что он и есть тот самый русский парень, повстречавший жившую неведомо где девушку с чудным именем. Единственной книгой, прочитанной Мишкой самостоятельно от корки до корки, был только букварь, но про парня из далёкой таёжной деревни Чизма с полной уверенностью можно сказать – начитанный, вернее – наслушанный, как шутила Дарьяша. Это уже потом, много позже, в самой зрелой зрелости, окружит он себя книгами, как самыми верными друзьями, и не станет упускать ни единой возможности, чтобы внять слову печатному.
В тот вечер, когда близь деревни раскинули лагерь туристы, Дарьяша хотела рассказать брату очередную историю, но лишь обмолвилась, что история эта об узнике, проведшем много-много времени в застенках, но сумевшем выбраться. А ещё сказала, что её переполняют впечатления и обуревают чувства. «Кажется, я в него влюбилась», – произнесла она, когда Мишка уже навострил лыжи к пылающему напротив Веера костру, где звучали песни, где вели неспешные разговоры парни, где взрывался и уносился вместе с искрами в небо девичий смех. Особенно выделялся смех миниатюрной красотки. Он был чуть грубоват, но настолько глубок, что глубина неба меркла в сравнении с ним. Девчонка, накручивая на палец выбившийся из-под косынки светлый локон, рассказывала историю, от которой все заходились от смеха. Иногда она театрально хмурила брови, обматывала локон вокруг носа и выпучивала глаза. Мишка, перебравшись через реку по коровьему броду, подошёл неслышно, словно лесной зверь, и, укрытый плотными кустами, заворожённо стоял напротив этой девчонки. Он не вслушивался в слова, но впитывал каждый её жест и понимал, что сейчас она – центр Вселенной. Потом история закончилась, и чередой, словно барки по неспешной реке, сменившей своё бурное течение здесь, между Веером и Печкой, на течение размеренное, пошли песни под гитару. Мишка таких песен не слыхивал, деревенские, собираясь возле Печки в праздные дни, пели другое и по-другому. После одной из песен он так шумно выдохнул, что около костра переполошились, что за зверь к ним подкрался. Гитарист, отложив инструмент, взял суковатую дубину и отважно пошёл в направлении звука. Пока он шёл, Мишка разрывался между желанием выйти навстречу и стремлением убежать. Прокрутив в голове свой побег, треск под ногами, шум бьющих по лицу ветвей, Мишка решил выйти из укрывавших его кустов. Если бежать, то – тихо, а так… только позориться.
Робко текла негустая ночь. Благо, что коров с утра ему не пасти, а то Глашка от сонного пастуха точно куда-нибудь бы ускакала. Из домашних же дел надо было только посмотреть, что там цепляет у санных полозьев, да сманстрячить пару новых туесов для матери и доски обстругать для крыльца. Да ещё Дарьяше обещал рамочку для портрета сделать, что-нибудь поажурнее, но это не к спеху. Он сделает, а пока… Мишка раскрыв рот сидел у костра вместе с ребятами, жевал сушки, пил крепкий чай, с наслаждением ощущая на языке горьковатые чаинки. Сладкий дым разъедал глаза. За гранью круга, очерченного костром, клубилось облаками комарьё. Тихо шуршала река, и в одной тональности с ней звучала уходящая во все стороны тайга.
Безмерное счастье обдавало Мишку, как печным жаром. Он, выделявшийся среди городских парней и ростом своим, и статью, был немногословен, больше слушал, когда же говорила она, сердце его заходилось в бешеной пляске, останавливалось, исчезало и неожиданно снова пускалось в пляс. И тогда меркли звёзды, россыпями укрывающие небо, и теряли свою яркость и стремительность искры, устремляющие к этим россыпям. Сердце Мишки то замирало на невообразимо высокой ноте, то падало в такую пропасть, глубину которой трудно себе вообразить. Вспыхнули в мозгу слова Дарьяши, что она влюбилась в героя книжной истории, и тут же резонансом отозвалось в груди, что он, он – Мишка, встретил свою героиню в самой настоящей жизни, а не в зачитанной до дыр книжке. Ему стало невыносимо жаль Дарьяшу, он понял, что такая огромная, как небо, и такая светлая, как нарождающаяся заря, любовь никогда не придёт к ней, что так и будет она, горемычная, жить своими книжками, выискивая в них любовную привязанность, тайно вздыхая и плача по ночам по героям, которых, наверняка, никогда и не было. Он вспомнил, как не единожды слышал её ночные всхлипывания, но он никогда до этого момента не думал об их причине. В первую очередь, пожалуй, он сделает ей рамку для фото, а уж потом всё остальное, даже если отец будет недоволен, что сани остались без ремонта. Сани могут подождать – до зимы ещё далеко, сено в копны только на прошлой неделе сметали, а вот сеструху ждать заставлять не надо, ей и без того тошно.
Таяли, как звёзды в предутреннем небе, песни. Меркли разговоры о первых двух днях пути от Кына до этого невыносимо красивого местечка, согретого скромно высившейся Печкой, о приключениях, случившихся с ними, и о том, что сегодня им нужно дойти до Молокова камня.
С надвигающейся зарёй ребята расползлись по палаткам. У затухающего костра остались двое: Мишка и девчонка со странным именем Люция, подкармливающая огонь тоненькими веточками, травинками, шишками. Не сговариваясь, они вдруг встали и пошли вдоль берега, остановились напротив Печки. Люция мечтательно смотрела на два выпирающих, покрытых молодой порослью уступа древнего камня, более светлые снизу и приобретающие красноватые оттенки вверху. Казалось, что правый скальный выступ, упираясь единственной мощной ногой в землю и вытягивая невидимую обычному глазу шею, изо всех сил старается приблизиться к своей половине, чуть завалившейся на бок и недоумённо смотрящей выщербленными временем глазами, в которых так и читалось: «Ну, давай, давай поднажми ещё чуть-чуть, и ты преодолеешь эту невыносимую расщелину, что проползла между нами».
Люция, совершив одухотворённый жест, озвучила свои мысли, а дальше… Дальше случилось и вовсе какое-то наваждение! Мишка, подхватив лёгкую, как пёрышко, девушку, несёт её на руках через реку, потом поднимается на гору и аккуратно, так, чтобы не откололась ни одна частичка от её искусно вылепленного тела, ставит на ноги. Люция смотрит вниз на замедляющую свой бег реку, на одинокие брезентовые палатки, скромными вершинками своими вписавшиеся в общий природный фон. Девушка оглядывает просыпающуюся деревню, бросает взгляд на перламутровые луга, а после – тянет руки к небу и говорит о том, что это самый прекрасный момент в её жизни. Мишка оторопело смотрит на неё и чувствует, как великое желание обладать ею сковывает его по рукам и ногам, как обносит горячестью голову, как заставляет умирать душу. Люция, едва достающая ему до груди, старается обхватывать его руками и сравнивает с горным утёсом, молчаливым, неприступным, но согретым солнцем, а от того – желанно-тёплым. Мог ли он, ещё не знавший женщин, устоять? Мог ли противиться этому древнему могучему зову? Нет, не мог, равно, как и она не могла не испробовать на себе его могучую силу и грубую жгучую ласку. В тот миг с орбит сошли все звёзды, закружились в свистопляске созревшие облака, по-особому задрожала листва на взбирающихся по склону тонюсеньких берёзках, и на землю рухнуло молодое розовощёкое утро… А потом, пока все предавались сладостному сну, он нёс на руках к палаткам светящуюся от счастья Люцию…


