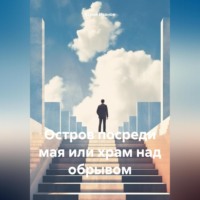Полная версия
Остров посреди мая или храм над обрывом
Надвигалась страшная для нас Новогодняя ночь. Мы понимали, что караван, скорей всего, пойдет через нас, но пока его не было, и мы не могли дать сигнал ракетами: а если у других групп произошло подобное тому, что случилось с нами? Может, это специально сделано для того, чтобы мы выстрелили сигнальными ракетами и все силы бросили сюда, а «Стингеры» в это время спокойно перевезут совсем в другом месте. Надо было переждать ночь рядом с телами убитых моих солдат.
Они появились полпервого ночи, с наступлением Нового 1986 года. Когда стало ясно, что это и есть тот большой караван, загруженный ящиками ПЗРК (их везли на мулах), я выстрелил красной ракетой. Тут же в разных местах начался чуть ли не новогодний салют из таких же ракет и притом как красных, так и зеленых и СХТ. Затем выстрелил зеленым – опять такой же фейерверк. Потом еще раз зеленым – все то же самое. Стало ясно, что помощь придет поздно, очень поздно. Приходилось надеяться на то, что соседние группы, если с ними ничего подобного нам не случилось, и рация у них цела, то, услышав звуки боя, сообразят вызвать вертушки.
Описывать бой бессмысленно…. Было уже около шести, когда стало светать, а нас в живых осталось только двое: я и Иван. Мы оба были легко ранены: я – в левое плечо и в ногу, Иван – осколком мины в грудь. Этот осколок залетел с левого бока, минуя бронежилет, и он же через тридцать с лишним лет впился ему в сердце, как я потом узнал. Странная штука – жизнь! Оглядываясь назад на все события в моей жизни, я вижу их как некие кружева, которые плетутся одной нитью – не знаю, как эта техника называется, но видел в детстве, как моя бабушка плела такие кружева…
Моджахеды, поняв, что мы хорошо обучены и будем сражаться до конца, послали в самом начале боя в обход, с другой стороны горы, группу с легким минометом, чтобы на крайний случай, до восхода, точно уничтожить нас. Мы ожидали этого, но не знали, когда они появятся. Я помню выстрелы и гранату, прилетевшую под ноги, а дальше – провал. Очнулся под большим камнем, запихнутым в логово смертника. Я не чувствовал ни ног, ни рук: какая-то тупая боль в голове и все. Как во сне видел Ивана, который был весь в крови – моего и своего – это он, как оказалось потом, закрыл меня своим телом, а потом оттащил в яму. В него стреляли и снизу и сверху, взрывы мин со всех сторон. Я помню лицо Ивана, когда он подполз ко мне из последних сил и закрыл своим телом меня повторно. Потом послышалась автоматная очередь. В такт этим звукам тело Ивана вздрагивало надо мной, словно кто-то дергал его с бешеной частотой. Те моджахеды, которые вышли в обход на нас сверху, видимо не ведали про эти ямки смертников под козырьком большого валуна, и поэтому не знали, что под Иваном есть еще кто-то. Они выдернули автомат из рук Ивана, и, как я понял, пошли вниз к своим. Я услышал только приглушенный удаляющийся крик на пуштунском: «Все, путь свободен! В живых никого». Тут Иван надо мной стал шевелиться. Изо рта у него капала кровь на мои руки, и при этом он стал шептать: «Ванечка, давай, ножками… давай, вставай…, ножками… вставай…». До того, как я потерял сознание после взрыва гранаты, у меня в руках была снайперская винтовка, а за спиной – автомат. Наверное, Иван их закинул в нишу под камень, когда перетаскивал меня, чтобы не оставлять меня без оружия. Когда же он подполз и закрыл меня, то и автомат, и винтовка стали не видны. Иван еле-еле встал на колени и, шатаясь из стороны в сторону, взял автомат. Послышалась очередь, затем еще одна длинная: Иван расстрелял в спину спускающийся отряд, который обошел перед этим нас. Опять начался страшный обстрел, а в автомате у Ивана закончились патроны. Я не все, что происходило тогда, видел глазами, поэтому частично сочиняю по тем звукам, которые я слышал, валясь в полубессознательном состоянии в яме. Так вот, Иван подполз обратно и взял снайперскую винтовку. В это время, так как моджахеды решили, что путь свободен, внизу, вдоль небольшой горной речки, уже шли мулы с притороченными «Стингерами». Иван стал стрелять по мулам, – как я потом узнал, – что привело на некоторое время в ступор душманов, так как два мула упали в бурное течение, и их стало сносить вниз. Видимо, часть людей из каравана бросились вытаскивать груз, а остальные с отчаянием обреченных бросились к нам. Нас уже ничто бы не спасло – они бы нас искромсали на части от злобы, но тут подоспела помощь: из-за гребня горы на низкой высоте выскочили друг за другом две пары МИ-24. В считанные секунды моджахеды, собравшиеся в кучу, были сметены огнем. Остались только те, кто спасал «Стингеры».
Я очнулся через неделю в самолете, на котором перевозили раненых из Кабула в Москву. Так пути наши с Иваном разошлись. Я слышал, что его лечили в Ташкенте. Знал, что ему дали Звезду Героя, чему я был несказанно рад: если не ему, то кому же еще? Можно было, конечно, потом его и разыскать, но для чего? Вспоминать тот бой мне никогда не хотелось и не хочется: кроме того, что я выжил, надо вспоминать и тех, кто погиб в том бою – все это очень тяжело, и к тому же я был командир группы, а значит, я виноват в том, что не уберег их. Да и тогда же не было таких средств коммуникаций, как сейчас. Писать письма? А куда? Пока мы лечились и приходили в себя, уже и страна стала постепенно разваливаться. Для меня, как офицера спецназа ГРУ, война продолжалась, только не в Афганистане. Слава Богу, что мои раны затянулись и меня не откомиссовали из армии. Я, кроме как, воевать, ничего же не умел….
– Постой, – сказал я, когда Олег замолчал. – Колесов. Колесов Петр Львович. Это не тот миллиардер, который погиб в поезде «Гранд-Экспресс»? Что-то вроде бы на работе говорили про это. Я за новостями вообще в последнее время не слежу – времени не было, да и неинтересно в целом. Когда же это было?..
– Полтора года прошло: в конце ноября позапрошлого года. Это он и был.
– И значит Максим – единственный наследник всей империи своего отца?
– Так и есть. Я как-нибудь расскажу про ту катастрофу, а сейчас мне надо ехать в аэропорт – самолет ждет, на котором прилетела Соня. Дел очень много: Максим все взвалил на меня, а это тяжелый труд. Нельзя все просто так бросить: десятки тысяч людей могут лишиться работы, если пустить все на самотек. Надеюсь, Максим с моей помощью найдет хорошего управляющего или же сам займется этим. Пока же он даже на одну ночь из Лазорево выбирается крайне редко.
– Но что же связывает, вернее, связывал, его и Ивана – никак не пойму. Почему он сюда приехал и остался? Этот волк – он же Ивана, да? – почему он ходит за Максимом?
– Валера, – сказал Олег и посмотрел на меня каким-то мучительным взглядом. – Валера, я не могу ответить на твои вопросы. Если Максим пригласил тебя сюда, то значит, думаю, он сам тебе после все расскажет.
Послышался звук закрываемой двери, затем – шелест слегка шаркающих шагов, и дверь в нашу комнату открылась – на пороге стоял старый монах с посохом в руке. Мне Максим говорил, что службу ведет иеромонах, отец Савва, – а это был он, – но его внезапное появление меня сильно смутило. Смутил не строгий взгляд, какой часто можно встретить у схимников, и что напрочь отсутствовал у отца Саввы, а именно факт того, что это – старый монах да еще с посохом.
– А я тебя жду, отец Савва: покажешь Валере все тут? – спокойно обратился к старому монаху Яхно. – Мне пора ехать. Вы тут сами уж познакомитесь без всяких политес.
Олег пожал на прощание мне руку, обнял отца Савву и вышел на улицу. Монах все так же стоял на пороге и смотрел на меня с почти незаметной улыбкой: улыбались глаза, как мне казалось, а лицо при этом оставалось в спокойном выражении смиренности и покоя. Я не знал, как себя вести с духовным лицом, как обратиться к нему и что делать дальше, а отец Савва продолжал стоять и смотреть на меня.
– Мне Максим сказал, что ты знал Ивана в детстве? – наконец, нарушил молчание монах.
– Простите меня, я не знаю, как к вам обращаться, – промямлил я прямо.
– Зови, как все меня зовут – отец Савва. Вполне меня это устроит. И не надо на Вы: недостоин я, грешный, того, чтобы ко мне на Вы обращались. Ты, Валера, был уже в храме и… видел все, да?
– Да, видел, – ответил я, почувствовав, что старый человек все знает уже, что со мной происходило в храме перед Спасителем.
– Ну, пойдем тогда вниз. Там моя келья. Я сам люблю разные травяные отвары пить – угощу и тебя, если понравится, конечно. Тебе, наверное, как человеку техническому, интересно будет увидеть нижний этаж. О-о, фундамент этого храма очень интересен и в плане материальном, и в плане духовном! Я благодарен Богу, что оказался здесь в конце своей земной жизни. Пойдем.
Отец Савва зашагал по коридору к выходу – я последовал за ним.
Я про себя предполагал, что нижняя часть храма должна была быть замысловатой в техническом плане, но никак не ожидал, что до такой степени…. Оказалось, что стена между притвором и средней частью храма, как и стена, на которой был оборудован иконостас с царскими вратами, были продолжением стены подклети. Слово «подклеть» применяется в современном языке, пожалуй, только применительно к цокольной части церкви. Поэтому, сложно подобрать слово, чтобы правильней назвать нижнюю часть Лазоревского храма, поскольку она была уникальна. Если взять терминологию подводной лодки (почему-то мне подвальная часть напомнила именно субмарину), то она была разделена на пять отсеков. Первый отсек – это от входного портала до поперечной стены, на которую опирался храм правой частью, если смотреть со стороны колокольни. Левая стена храма и следующая поперечная стена составляли единую плоскость, и, соответственно, под зданием церкви был второй отсек. Дальше шел третий и самый большой отсек, который был в длину как первые два вместе взятые. Из зала, который был под средней частью храма, через арочный проход меньшего размера, нежели арки, которые соединяли первые три отсека между собой, можно было попасть в небольшие, симметрично расположенные по бокам, помещения, задние стены которых несли функцию фундамента стены за царскими вратами и притвора соответственно. Отец Савва, быстро ознакомив меня в первом приближении этим бетонно-кирпичным чудом подземного строительства, завел в свою комнату в первом отсеке. Этот первый отсек представлял собою нечто похожее на двухэтажный дом, если можно было бы достать его из земли и показать со всех сторон. Сразу за воротами, сделанными из сэндвич панелей, был проезд высотой в три метра и шириной на метр больше размера ворот с каждой стороны. Через пластиковую же дверь можно было попасть в жилую часть этого отсека, который был сам по себе довольно замысловатым, чтобы описывать. Скажу только, что на первом этаже и была резиденция отца Саввы. Это была скорее не жилая келья, как сам монах выразился, а котельная: вдоль одной из стен стояли два твёрдотопливных котла, а в углу, с одной из сторон этих котлов, была выложена из кирпича аккуратная небольшая печка лежанка. Рядом с печкой стояла самодельная крепкая деревянная кровать с пружинным матрацем. В противоположном углу был небольшой кухонный уголок с варочной газовой панелью и мойкой.
– Эти отопительные печки были смонтированы Иваном давно уже, – сказал отец Савва, когда мы зашли в его комнату, заметив, что я удивлен разнообразием печей наряду с газовой варочной панелью. – Сейчас у нас есть огромная котельная рядом с жилым домом. Это там, в сторону леса – не с деревянным, а с кирпичным домом. И вода горячая тут есть постоянно – благодать, а не житие.
Мы попили чудесный ароматный травяной чай с медом.
– Отец Савва, а что же было с Иваном после службы в армии? – спросил я монаха после второй кружки. – Мне Олег рассказал о том, как они служили в Афганистане и были оба тяжело ранены….
– Да, знаю. Олег же, пожалуй, и не ведает обо всем про Ивана… Видишь ли, мы, не знаю даже, как правильно объяснить тебе: мы о нем ничего не говорили за прошедшие полтора года… – Отец Савва задумался и после довольно долгой паузы продолжил: – Ко мне, в монастырь на острове в Белом море, Иван появился вот примерно в такое же время, в начале мае, в 1988 году. Ему было 22 года тогда. Он потерял смысл жизни в таком молодом возрасте после смерти своей жены и не знал, что делать. Вот мы так, как сейчас с тобой, сидели в моем келье и проговорили всю ночь. Я тогда и сам был молодой – что мог ему посоветовать? Он видел грани жизни и смерти в всесокрушающем бою; потом потеря матери, когда лечился больше года; а через полтора года – трагедия с женой и не родившимся ребенком… Я же всю жизнь, отошедши от мирской суеты, просидел на острове…. Впрочем, давай по порядку.
РАССКАЗ ОТЦА САВВЫ.
Иван шел по тропинке по пустырю между станцией метро «Каширская» и музеем-усадьбой «Коломенское». Впервые за полтора года он чувствовал, что он живой человек и ему хотелось радоваться жизни. Сегодня он сдал первый экзамен по физике для поступления в Московский инженерно-физический институт и сдал на десять баллов, что было максимальной оценкой. Иван боялся, что все позабыл за три года, прошедших после школы. Он много готовился, но последствия тяжелого ранения давали себя знать: быстро уставала голова, постоянно надо было делать усилия для концентрации, ныло тело от изменений погоды. Иван сам себе удивился, когда взял билет и, казалось бы, попалась самая трудная тема под вопросом номер один, которая была для него больше всего непонятней, но не было никаких волнений – он спокойно сел и начал писать. Вначале сразу же решил задачу, затем переключился на письменный ответ по теоретическим вопросам. Иван писал и постепенно начинал радоваться тому, что впервые испытывает полный покой, притом в тот момент, когда надо бы больше всего беспокоиться. Тот материал, который раньше, как он думал, никак не мог запомнить, сейчас был в голове наподобие раскрытой книги: он просто смотрел в нее и переписывал. И когда его вызвал отвечать суровый профессор с рыжими волосами и в очках, про которого говорили, что он срезает за любую ошибку и никогда не ставит максимальный балл, Иван был абсолютно спокоен. Рыжий профессор почему-то не задал ни одного дополнительного вопроса: выслушав ответ Ивана и посмотрев на решенную задачу, поставил «десятку». Иван даже засомневался: неужели узнали про него все, хотя он ничего в анкете не писал о своих наградах и о ранении? Иван не хотел поступать вне конкурса: поступить можно, прикрывшись своим званием, а если потом не выдержит учебы, что тогда? Позор? Он хотел испытать себя, чтобы почувствовать себя молодым, полным сил для будущего, человеком, а не инвалидом, которому уже все положено просто так. И только когда профессор похвалил его, обращаясь к пожилой женщине, которая принимала рядом экзамен у парня, что, вот, мол, впервые вижу абитуриента, который раскрыл свои темы так, что и спрашивать нечего – он успокоился.
Иван, выйдя на Каширское шоссе, решил пройтись по центру Москвы, где еще ни разу не успел побывать. Потом думал пройтись по Парку Культуры и посмотреть со стороны на корпус травматологии первой Градской больницы, где он пролежал три месяца – там ему подлечили разбитые пулей ступню. Впереди был экзамен по математике, но сегодня Иван решил немного отдохнуть. Дойдя до станции метро, ему расхотелось ехать в центр. Он захотел побыть в одиночестве. Иван, когда только приехал сдавать документы, шагая вдоль шоссе к институту, заприметил вдали деревянный домик, чему сильно удивился. Постояв и подумав минуту, он перешел по подземному переходу в другую сторону шоссе и зашагал по тропинке в направлении церкви, который возвышался над зеленым массивом парка – этот деревянный домик должен был находиться где-то там.
Был рабочий день. Июльское солнце наполняло зноем пространство дня. Вокруг не было почти никого: только редкие прохожие, идущие быстрым шагом, иногда нарушали идиллию одиночества. Свернув вправо в сторону Москвы-реки, чтобы посмотреть-таки, что за деревянный дом был на пустыре, Иван наткнулся на заросли полудикой вишни. Созревшие ягоды неудержимо манили к себе, и не попробовать их попросту не было сил. Иван ягоду за ягодой ел вкусные, слегка кисловатые, вишенки и наслаждался полнотой счастья. Почти полтора года, проведенные в госпиталях, в больницах и в реабилитационных центрах; череда сложнейших операций под общим и местным наркозами; а еще смерть матери и невозможность присутствовать на ее похоронах, так как ходить он по новой научился только год спустя – все это лежало тяжелым камнем в душе. После ранения его ввели в искусственную кому, и очнулся Иван лишь в Ташкенте через две недели. В ту новогоднюю ночь моджахеды специально организовали еще три отвлекающих ложных каравана, и в стычках с этими отрядами полностью погибла такая же группа спецназа ГРУ, как взвод Яхно. В канцелярии штаба перепутали сержантов в этих группах и матери Ивана послали похоронку. Весть о гибели сына старая женщина вынесла, но когда пришли из военкомата через месяц объяснить, что ее сын живой, правда, очень тяжело ранен – сердце ее не выдержало.
Вкус вишни наполнял душу Ивана вкусом жизни: ему всего-то 22 года и, несмотря ни на что, надо радоваться жизни пока ты живой. Он так увлекся вкушением ягод, что не заметил, как испачкал свою единственную парадную рубашку, которую берег исключительно для экзаменов. С собой у него было три рубашки, причем одна – солдатская, а в общежитии, как назло, выключили горячую воду, чтобы постирать. К тому же не было утюга, а ходить и просить Иван не любил… По счастливой «случайности» ни пули, ни осколки в том новогоднем бою не угодили в лицо. Это при том, что на теле буквально живого места не было от следов ран и многочисленных операций. Даже одна пуля, зайдя со стороны плеча, вышла из-под ключицы между первой и второй пуговицами рубашки. Поэтому Иван ходил с застегнутой верхней пуговицей и никогда не закатывал рукава. Из-за этого воротник и края рукавов рубашки быстро пачкались в жару, но что поделать? Честно говоря, Ивана это не очень волновало. И сейчас, он посмотрел с легким огорчением на вишенное пятно почти на самом видимом месте и зашагал дальше. Иван шел, радуясь всему, что его окружало, и это радость вначале показалась ему странной и немного даже испугала – до такой степени он отвык от этого, казалось бы, необходимого чувства живого организма. Но жизнь есть жизнь, и человек должен радоваться голубому небу, июльскому солнцу, спелым ягодам вишни. Позабыв давно о том, что он направлялся поглядеть забавную деревню посреди Москвы, Иван все шел и шел ни о чем особо не думая, пока над ним не замаячил купол с крестом той церкви, которая была видная от Каширского шоссе. Подойдя поближе, он уткнулся на фрагмент старого кованого забора. Слева и справа от него виднелись полуразрушенные кирпичные столбы, но уже без решеток. Иван обошел забор и засмотрелся на храм. Послышался свист и мальчишеский озорной смех – где-то за храмом, на склоне крутого оврага, играли ребятишки. Иван осмотрелся и только сейчас заметил, что в метрах ста от него, из-за полуразрушенной арки старой церковной ограды выглядывает мольберт, при этом сам художник оставался невидимым за кирпичной кладкой. Так как кроме него и художника с мольбертом на поляне перед храмом никого не было, Иван решил подойти к арке и посмотреть, как рисуют. Ему с детства было интересно узнать, как же рисуют масляной краской, хотя сам он рисовал довольно плохо даже цветными карандашами.
Хотя после того, как Ивану восстановили ноги, и он научился снова ходить, прошло полгода, манера время от времени ходить, наступая вначале на носок, а потом на пятки из-за сильных болей в ступне, сохранялась еще. Поэтому и сейчас Иван, сам того не замечая, шел как будто бы на цыпочках, словно крадучись и оттого бесшумно. Подойдя к арке, он опешил: за мольбертом стоял не художник, а художница – девушка его возраста. Иван видел ее со спины и чуть сбоку, то есть лица ее не видел, и, соответственно, и художница не видела его и не слышала, как он подошел, вернее даже подкрался. Ивану стало неудобно, и теперь же он боялся шевельнуться и испугать девушку. Отступать тоже было некуда. Положение было дурацкое. Немного так простояв, Иван переключился с красивой фигуры художницы на холст. Картина была почти завершена и была нарисована очень тщательно. Единственно, что Иван не понял, так это то, что на картине была нарисована абсолютно другая церковь по внешнему виду, и самое место было совсем другое.
«Надо же, как странно: рисует с натуры, а на холсте получается другой вид. Как же это так возможно? – подумал про себя Иван и уже вслух, сам того не замечая, прошептал. – Местность мне как будто бы знакома. Где-то я это видел. Красота неземная!»
Рука девушки от этих слов дрогнула, и кисть упала на землю. Художница, не торопясь легко присела, подняла кисть и, повернувшись лицом к Ивану, осуждающе посмотрела на него:
– Подкрадываться нехорошо! Зачем вы так делаете?
– Прошу меня простить, но я не подкрадывался: так получилось, что вы самозабвенно рисовали и не заметили меня. Я хотел незаметно уйти, но ваша картина меня заворожила, – чуть солгал Иван: сейчас его, словно молнией, зачаровал взгляд девушки, хотя картина тоже ему очень нравилась.
В красивых серых глазах художницы была затаена какая-то глубинная грусть и чувство одиночества. Иван смотрел в эти глаза и молчал. Ему было приятно смотреть в них, и при этом не было неловко, как бывает при пересечении взглядов незнакомых людей.
– Вы сказали, что вам знакома эта местность. Это была шутка? – сказала девушка уже без всякого раздражения, и интонация голоса была такая, как будто бы они были знакомы всю жизнь.
– Нет, что вы, это была правда, – сказал Иван, радуясь, что художница не сердится на него. – У меня такое чувство, что этот крутой берег и эта небольшая речка напоминают мне почти точь-в-точь то место, где расположена моя деревня. Вернее, то, что осталось от деревни: там сейчас стоит только наш пустой дом да еще есть на окраине старый развалившийся колхозный склад. Только у вас тут везде нарисованы молодые сосны и ели, как я понимаю, а у нас все поля и поля вокруг и очень ветрено из-за них.
Иван подошел ближе к девушке, и у него сердце забилось сильно-сильно. Так сильно он не волновался даже тогда, перед смертельным боем в новогоднюю ночь, зная, что шансов выжить довольно мало.
– Вот тут, – Иван показал пальцем под обрыв на картине, – у нас старый родник с живой водой. Мой отец и его брат, мой дядя, когда уходили на войну, то попили из него воды, омыли лицо и попросили у родника спасти их от смерти и чтобы они вернулись живыми в свою деревню и смогли снова попить его воду. И они вернулись…. Я в армию уходил когда (отца моего уже не было в живых), то дядя Никон специально потащил меня к роднику и провел со мной тот же ритуал. Не знаю, может, и меня он и спас.
– Если тут должен быть родник, то я нарисую, – сказала художница и доверчиво улыбнулась, не до конца поняв смысл последних слов Ивана.
– Нет, не надо. Картина закончена и получилось красиво. Только зачем Вы рисуете одно, а перед Вами совсем другой пейзаж и другой храм?
– Храм, если он храм, везде одинаков. Внешне они выглядят по-разному, но внутренняя суть едина. Вас, случайно, не Иваном зовут?
Иван вздрогнул и опешил от последних слов.
– Иваном, – медленно проговорил он, – а как вы узнали?
– Очень приятно, если вас зовут Иваном. Вера. Вот и познакомились. А я просто так предположила. Вы знаете историю и название этой церкви?
– Нет.
– Называется она как церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове. Если идти вот по этой тропе к шоссе, то несколько деревянных избушек, которые попадутся по пути, и есть остатки деревни Дьяково. Я из-за этого просто так и спросила потому, как название храма связано с именем Иоанн, то бишь Иван. А я Вас, кстати, видела и не раз за последние две недели: Вы иногда проходили под моим окном по утрам. Вы, наверное, в МИФИ поступаете?
– Да, точно. Сегодня сдал первый экзамен по физике и получил высший балл.
– Поздравляю! А я ничего не понимаю в физике, да и в математике тоже.
– Думал, провалюсь: сложно, когда после школы прошло уже три года.
– А где так Вы умудрились испачкаться? – Вера показала пальцем на вишневое пятно на рубашке. – И зачем вы ходите всегда так глухо застегнувшись? Я, кстати, обратила именно из-за этого на Вас внимание. Подумала еще, вот мол, настоящий чеховский персонаж «человек в футляре». Каждый раз, когда я видела Вас из окна, Вы уж меня простите, мне становилось весело от Вашего вида. У Вас в деревне, видимо, такая мода, да?
– Да, точно, – рассмеялся Иван, – есть такая мода у нас на селе.
– А у нас в Москве по моде в жару делают так, – сказала девушка и ловко расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке и замерла, увидев страшную овальную рану на шее от пули.
Вера, сама не понимая, что делает, расстегнула вторую пуговицу и, увидев следы от ран и операций, вдруг уткнулась в грудь Ивану и заплакала. Иван не знал, что делать: то ли отстранить девушку и застегнуть рубашку (ему было неловко стоять расхристанным), то ли обнять и погладить ее волосы (что ему страстно хотелось). Пока Иван стоял в нерешительности, Вера сама взяла себя в руки и, приподняв голову, застегнула на рубашке обе пуговицы.