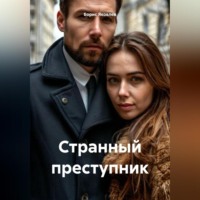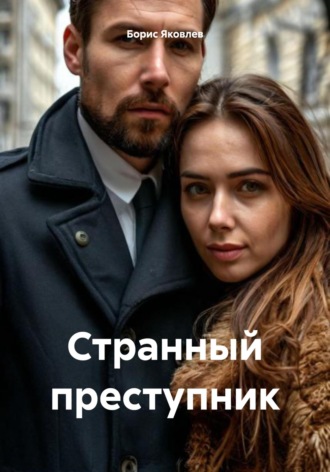
Полная версия
Странный преступник
Подавляющая часть слушателей академии формировалась за счет целевого направления специалистов от предприятий и ведомств, поэтому оценки экзаменов для них фактически не имели никакого значения. Именно по этой причине абитуриентам не сообщали выставляемые баллы, чтобы не привносить в их души смятение и неопределенность. Для тех же, кто приходил, так сказать, «с улицы» и без блата, надо было выдержать испытания по полной программе. На собеседовании после вступительных экзаменов по лицам приятно удивленных членов комиссии, просматривающих заключения преподавателей с оценками, Григорий интуитивно угадывал, что его ненапрасные мытарства успешно завершены. За волнением он не помнил, что именно говорил важный такой, представительный мужчина, перед которым лежала стопка личных дел – видимо, председатель комиссии, – помнил только, что он похвалил его за весьма редкую высокую оценку знаний по всем предметам и пожелал успехов в учебе.
Про счастливого человека говорят: «летит на крыльях», – и правда, из здания академии Григорий вылетел окрыленным, даже не стараясь скрывать своего состояния от окружающих. Сомнения и самоедство улетучились, как имеют способность исчезать мелкие проблемы в миг осознания достижения долгожданной цели. Казалось, все развивалось своим чередом, и он даже ощущал умиление от того, как рады будут за него родители, как по-разному будут реагировать коллеги и заведующий лабораторией, огорченный необходимостью поиска срочной замены практически сложившегося уже ученого.
Однако через несколько дней события развернули его настроение совершенно в обратную сторону, опалили крылья воодушевления и благих порывов. Словно предупреждая подобный поворот в его жизни, погода в тот день на что-то обиделась: небо хмурилось, извергая раскатистые громы, порывы ветра сдували и закручивали пыль, окурки, обрывки газет, пересиливали сопротивление веток в споре «кто сильней». Намеки природы не увязывались с настроением Григория, уносящим его ввысь за облака, к слепящему солнцу. Приглашение зачем-то в отдел кадров академии ему представлялось просто очередной формальностью в бесконечной череде бюрократических процедур формирования новоиспеченного состава слушателей. Да и какая несуразица могла вмешаться в выстроенный свыше ход событий? Ведь за последние дни не произошло ничего существенного, за исключением малозначащего эпизода – заполнения личного листка нового образца. Правда, в нем требование указать, был ли он женат ранее, а если да, то сведения о бывшей супруге. Этот пункт анкеты неприятно кольнул его. Да, в жизни много странного происходить, невозможно предсказать, как она сложится, чем обернется тот или иной ее эпизод. На третьем курсе института Григорий женился, причем так же скоропалительно, как и развелся. Через полгода его брак распался. Про такого неудачного супруга обычно говорят: женился по глупости. Заполнив этот пункт анкеты, он вскоре предал его забвению.
Через пару дней Григорий предстал перед очередной группой солидных людей в кабинете начальника отдела кадров. Он сдержанно поздоровался, будто стесняясь от чересчур пристального внимания к его персоне за последнее время руководства разного ранга, видано ли дело – третья комиссия за десять дней. Начальник отдела кадров, не поднимая глаз на вошедшего, враждебно просматривал документы, заполненные рукой Григория. Какая-то информация вызвала у него крайнее удивление, брови его изогнулись, он несколько раз моргнул, как бы проверяя себя, не обманулся ли, поправил указательным пальцем очки. И если вначале Григорий не мог определить причину обескураженного вида начальника, то после грубого его замечания в адрес коллег: «Как вообще допустили прием документов от него в самом начале, да еще позволили дойти почти до финиша?» – интуитивная догадка безжалостно ужалила его: «неужели развод отзовется так больно?»
От этого председателя комиссии, привыкшего по скупым записям кадровых документов мерить достоинства абстрактно существующих для него людей, исходили такие враждебные волны, что Григорий невольно как-то сжался. Мужчина по правую руку от начальника, – по речи и позе в нем угадывалось какое-то раболепие, как бы оправдывая свою оплошность пытался обратить внимание шефа на высокие оценки экзаменов стоящего перед ними человека, но тот резко отстранил протянутую ему справку, буркнув через губу: «Теперь это не имеет никакого значения». Для него заполненный пункт анкеты о бывшей супруге не увязывался с трагическим этапом в судьбе Григория, измеренным горькой мерой пережитых страданий, а означал лишь наличие сведений, подтверждающих моральную неустойчивость абитуриента. Против фамилии Поленова он вывел жирный крест.
Григорию было досадно, унизительно неприятно, что эти люди вершат так просто, мимоходом его будущее в его же присутствии, не обращая внимания на него, не удостоив его хотя бы одним, из любопытства, внимательным взглядом. У него нашли изъян там, где ему самому не пришло бы в голову искать. Он хотел было втянуться в спор, попытаться вить себя в их глазах в ином свете, но почувствовал, что любое его слово отзовется еще более гневной реакцией важного начальника, и окружил себя корректной немотой. Надежды на помощь сидящего рядом с начальником подчиненного, корнями уходящего в сложившуюся бюрократическую систему и опасавшегося быть выдернутым из нее за нарушение жестких инструкций, не оставалось никакой; тот только кивал и поддакивал, уловив настроение шефа, и решил лучше вовсе не лезть со своими советами и сомнениями («себе дороже будет»). Вынесенный Григорию приговор был лаконичен и по-хамски невежлив: он должен забыть об этом учебном заведении раз и навсегда.
Выйдя из кабинета, Григорий старался казаться равнодушным перед другими абитуриентами, ожидавшими своей очереди под дверью, но это плохо удавалось ему. Он был в подавленно состоянии духа. Чем дальше продвигался он по коридору, тем делался меньше в собственных глазах. По дороге на работу Григорий раскладывал на хранение в памяти неожиданные развороты этого дня. Хорошо или плохо, что подобным образом все так закончилось? Грустное и смешное перемешалось в нем, высокие намерения, неимоверные усилия при подготовке к экзаменам оказались перечеркнутыми одним крестом. Все события последних девяти месяцев, будто костяшки домино, падали друг на друга в обратной последовательности, подводя его мысленно к тому дню, когда впервые он задумался о поступлении в академию «Сколько разных по высоте и звучанию переживания вместили в себя эти месяцы, – с горечью думал он. – Вот из них, как из кубиков, и выстраивается, по существу, судьба человеческая. Мечта, ранение, исцеление… Что ж, наступает, видимо, пора исцеления, – грустно ухмыльнулся он – Не вешаться же теперь, в самом деле».
Удивительная штука: невольно откуда-то отголосками доносились отрывки прочитанных книг и учебников. Помнится, особенно понравилось ему определение Ломоносовым географии, как науки: «Она, – писал он, – всея обширная вселенность единым взглядом повергает». Более поэтичное, нежели научное, определение очень тронуло его в свое время.
Добравшись до своего института, Григорий зашел в туалет, а, оглядевшись, невольно сморщился: чья-то рука выписывала долгое время на стенах похабных выражения и омерзительные рисунки. «В общественных туалетах наш человек звереет, – подумалось ему, – и нет никакой разницы: на неухоженном вокзале он расположен или в научном заведении. Интересно бы написать трактат о странном поведении наших собратьев в общественных туалетах, исследовать мотивы, побуждающие их к подобной настенной живописи. Зашел некто в кабинку – и превратился тут же в оборотня, и по боку ему великие науки и теории, которым внимал несколько минут назад. Нет, ему надо опуститься пониже, до звериного состояния, достать авторучку, оставить память по своему хамству и другим дать понять, что они, мол, ничем не лучше его, раз смотрят на его творение. И немудрено, что именно в закрытом от сторонних глаз пространстве рождается подобная мерзость, – значит, авторы сознают, что не достигли полного падения, балансируют еще на грани зла и блага. Эх, мне бы психологическое образование надо было получать, цены бы не было».
Григорий вошел в знакомый до запахов рабочий кабинет. С его появлением начался настоящий переполох: поздравительные рукопожатия, дружеские похлопывания коллег в честь поступления в академию. В глазах многих он представал проводником научного потенциала лаборатории до государственного уровня. Кто восторженно, кто сдержанно рекомендовал ему, чтобы он не зазнавался, не отгораживался от знакомых бюрократической маской поднявшегося креслом чиновника.
– Подумать только, – говорил один, – пришел к нам совсем юнцом, а уходишь солидным мужем.
– Вылетишь отсюда, – вторила другая, – как птенец из гнезда, а мы только со стороны теперь будем наблюдать за траекторией твоего полета.
– И нам надо было вовремя уходить, – басил третий, – заработок, поди, будет неплохой?
– Не подсчитывай чужие выгоды, – весело ответил Григорий. – Задним умом мы все крепки.
Впрочем, не все одинаково были охвачены желанием поздравить своего коллегу. За спинами сослуживцев промелькнуло надменное выражение доцента Халилова, с которым у Григория складывались достаточно прохладные, не согреваемые разговорами по душам, отношения. Он постоянно противоречил себе собственными поступками: то осуждал коллег, собирающихся отпраздновать какой-либо повод в ресторане, но после предложения присоединиться к ним на условии, что платят другие, тут же охотно менял свое мнение. То отговаривал окружающих от публикации статей. Мол, кому предначертано достигнуть ученый высот, добьется этого и без них, а сам в тайне слал свои статейки во всевозможные издания, получая, правда, от них и частые отказы в опубликовании его работ. Вообще, в нем отражалась какая-то заурядность, а с годами, как часто свойственно людям с тяжелым характером, на лицо его выползали жадность, глупость, зависть.
Григорий поблагодарил всех и сообщил, что слухи о его поступлении оказались, как писал классик, несколько преувеличенными. Объяснения в его устах выглядели не очень содержательными («извините, не хочется говорить сейчас об этом»), а истинная причина провала и вовсе отсутствовала. Сослуживцы советовали ему не падать духом, подавать апелляцию, на что он отрешенно мотал головой. Ему и без того предстоит немало усилий вернуться в свою колею, и такой жесткий жизненный урок пойдет ему впрок. Однако копить злобу и обиду – не для него, их он отправляет в мусорную корзину. Отныне успешная научная карьера в будущем будет служить ему единственным утешением.
Как ему хотелось поделиться печальным настроением со Светланой. Ей он полностью доверялся, она умела искусно убеждать его в том, что во всяком плохом непременно таится нечто хорошее. Но сегодня она была в разъездах, а вечером собиралась в театр с Викторией. Разговор откладывался до завтра.
Выключив дома телевизор в первом часу ночи, он свернулся в постели «калачиком», чтобы быстрее согреть замерзшие ступни, – после душа он весь вечер ходил босиком, – и стал ждать сна. Но он все не шел. Перевернулся на другой бок, пробовал вообразить, как долго он скользит на лыжах: толчок, еще толчок, катиться, катится, долго катится, далеко катится. Нет, этим сон он не обвел вокруг пальца. Тогда он попытался долго плыть по водной дорожке бескрайнего бассейна, но из этого ничего не получилось. Периодически в темноте он напрягал зрение – не покажется ли намек на появление признаков бледности на небе, но оно по-прежнему отвечало чернотой. Наконец, в пятом часу утра, чтобы не пропадало впустую время, он решил мысленно пробежаться по клавишам, исполняя любимый романс, но на припеве бесшумно пришел долгожданный сон и забрал его куда-то далеко-далеко.
РИСКОВАННАЯ АФЕРА
Поначалу у Алексея Павловича Журавлева, начальника отдела кадров Академии международной торговли, по жизни все складывалось как-то очень гладко и складно. Хотя это не имело никакого отношения к действительной сущности этого человека, ибо проживал он сразу две жизни: одну – показную, за нее он получал грамоты, поощрения, благодарности, другую – настоящую, скрытую от чужих глаз. В этой, второй, жизни он не любил свою работу, презирал людей, его окружающих, однако неизменно превозносил вслух их дарования и способности. Он настолько свыкся со своим расщепленным характером, что в одно мгновение безболезненно для своей совести мог переходить из одной жизни в другую.
На третий год войны, как только ему исполнилось восемнадцать, он оказался в рядах ополченцев второго эшелона и, не успев понюхать, как говориться, настоящего фронтового пороха, приболел – большой чирий вскочил на месте, которое плотно соприкасается со стулом – ни встать, ни сесть. И надо было тому случиться: после хирургического вскрытия предмета, причиняющего немалые страдания новобранцу, к полевому госпиталю, где он лежал, забросило заблудившегося, видимо, немецкого бомбардировщика. Кружа над незнакомой местностью, фашистский ас все более сознавал необходимость избавляться рано или поздно от боевого груза и потому решил сбросить бомбы на здание школы, в которой и размещался госпиталь. Оставленные лохматые взрывы вырыли крупные воронки вдоль здания, причинив ему незначительные повреждения. Одна бомба разорвалась рядом с палатой, где, лежа на боку, Алексей со страхом смотрел в грязное окно. Стекла, разлетевшиеся на мелкие кусочки, посекли его лицо и руку, а от столь близкого взрыва он получил легкую контузию. Когда он пришел в себя, к нему наведалась мысль – он же получил самое настоящее боевое ранение, и оно требует документального оформления. И полетели с тех пор на домашний адрес матери многочисленные справки, документы – на всякий случай в нескольких экземплярах – об операциях, ранениях, контузиях, вывихах, стертых в сапогах ступнях от неумелого обращения с портянками. Эти документы, спустя многие годы, действительно, сослужат ему хорошую службу для оформления ему как участнику и даже как инвалиду войны различного рода привилегий. Через неполный год списанный в запас по состоянию здоровья солдат вернулся домой в свою московскую коммунальную квартиру, вроде как изрытым вражескими пулями героем. Ни у кого не возникало сомнения в совершенных им боевых подвигах.
Случилось так, что вскружил он голову новой соседке своими байками, ну, не внешностью же – с его ростом метр шестьдесят и с картавой «р» в произношении. Впрочем, вскружил – это мягко сказано, а проще говоря, сначала дал волю рукам, а потом и обрюхатил девушку с цветочным именем Лиля. И хоть бы посочувствовал ей при этом, попытался бы обсудить с ней создавшееся положение, ан нет, стал избегать ее, утратил всякий живой интерес к вчерашней возлюбленной, она стала ему совершенно безразличной. Все казалось ему вполне естественным: молодые погуляли, взыграла кровь, а проблему с ребенком должна решать женщина, и не надо в эти дрязги впутывать мужчину с большими видами на будущее. Однако подобный взгляд на вещи не устраивал Михаила – брата Лили, действительно боевого офицера, человека чести.
Однажды тихим вечером, когда Алексей ужинал за скрипучим столом, прижившимся посреди комнаты между окном и кроватью с металлическими набалдашниками, в комнату без стука вошел Михаил и кратко скомандовал: «Выйдем, разговор есть». Алексей в пижаме с сальными пятнами на животе семенил за широко шагающим Михаилом, они вышли на лестничную площадку, где их ожидал еще один офицер, по всему виду недюжинной силы – косая сажень в плечах, кулаки – молоты.
– Когда свадьба? – жестко спросил Михаил.
В предчувствии неприятного разговора у Алексея пересохло во рту, движения давались с трудом, он прокашлялся:
– Какая свадьба? Никакой свадьбы не планируется.
– Как же ты можешь, сморчок поганый, есть, пить, спать, – заиграл желваками Михаил, – когда женщина в положении от тебя? Как же не тошно тебе жить так? Совесть не гложет, в петлю не тянет?
– Насчет петли это вы поосторожнее, – съежился «сморчок», но продолжал стоять на своем. – Свадьба – дело добровольное, а я не имею такого желания. Ваша сестра – взрослая женщина и должна бы все понимать, на что шла.
– Значит, не тяжело тебе, бурлачок, тащить на душе груз такой? – спросил Михаил, сам же и ответил, – вижу – не тяжело. Это твое последнее слово?
– Последнее, – опустил голову Алексей.
Ненависть к «сморчку», обесчестившего сестру, так распалила Михаила, что довела его до воспаленного осознания полученного права судить человека здесь, на лестничной площадке, без суда и следствия. Он, молча кивнул напарнику, тот подошел к двери лифта, дернул пару раз, она открылась. Внизу чернела шахта. Заподозривший неладное, Алексей не успел опомниться, как повис вниз головой в колодце лифта, молотобоец держал его за ноги. Михаил по-деловому, тоном, будто выносил приговор, не подлежащий обжалованию, предложил приговоренному сию же минуту сделать выбор: жениться на сестре или разжать руки богатырю-офицеру. Дикий страх помутил рассудок Алексея, убил последнюю волю в нем. Умереть из-за бабы, – глупее и не придумать. Без размышлений предпочтение было отдано первому варианту.
С трудом передвигающегося по коридору Алексея Михаил хлопал ободряюще по плечу, дескать, мы, мужчины, понимаем друг друга. То кивал в ответ, воровать оглядываясь на богатыря, следовавшего за ними с целью проконтролировать, не передумал ли Алексей на счет выбора варианта. Губы Алексея как-то расползались и подрагивали: не то перед улыбкой, не то перед плачем. Мысли его бежали по мелкому кругу, не могли выскочить куда-нибудь на периферию, в голове стало тесно, что-то сдвинулось в ней, выперло, перегородило все пути замыслам, ведущим к спокойной холостяцкой жизни. Сплошные шлагбаумы.
– Ну, смотри, – на всякий случай пригрозил Михаил на прощание, – если передумаешь, убью. Под трибунал пойду, а тебя, крысеныша, закопаю.
Другой бы задумался, как жить с нелюбимой женой? Но Алексей быстро освоился с новой ролью мужа, будто и не было никакого разлада с молодой супругой. Все прошло мимо него и краешком не задело, не ударило. Однако у Лили получился выкидыш, а Журавлев, выражая ей сочувствие, думал про себя: «Ничего лучшего нельзя было и желать. Зачем мне сейчас ребенок? Одна обуза». Вообще Лиля не унаследовала от родителей крепкого здоровья, у нее рано появились морщинки на лице, складки на лбу, седина в волосах. Жизнь супругов, мягко говоря, не изобиловала добрыми отношениями и интимной близостью.
Получив высшее образование, Журавлев был распределен на машиностроительный завод. Эта работа не приносила ему удовлетворения, однако, часто выступая на партсобраниях, он убедил себя, что обладает умением логично излагать мысли, и решил испытать свои силы на поприще преподавательской деятельности. И как только представился удобный случай, он перевелся в учебный институт. Продвигаясь по партийной линии, сначала он оказался в райкоме, а затем был назначен секретарем партийной организации Академии международной торговли.
История знает такие случаи, когда дети рождаются в нелюбви. В семье Журавлева был тот самый случай. На сорок первом году его жизни у него родилась дочь Лана. Поначалу он пренебрегал своими отцовскими обязанностями, но постепенно привязался к ней и даже позволял себе в часы досуга с известной сдержанностью повозиться с малышкой. До четырнадцати лет воспитанием дочери занималась исключительно ее мать, поэтому после ее смерти из-за рака груди Журавлев совсем потерялся. Без Лили жизнь его стала казаться совсем тусклой. Странно, ведь он не любил ее, навязанную ему насильно почти четверть века назад. Привык, что ли? Понимая всю серьезность ситуации, он пытался оказывать на дочь некоторое влияние, но, большей частью, довольно безуспешно.
Работая ведущим специалистом по мировой экономической географии, Алексей Павлович слыл знатоком душ слушателей академии, а заодно и их семейного положения, биографий их родителей, поскольку согласно распределению партийных обязанностей, за ним закреплялась оценка моральных качеств будущих работников торговых представительств, достойных представлять Россию в зарубежных странах. И даже после развала единой партийной системы и в стране, и в академии, ныне эти обязанности сохранялись за ним. Вот и сегодня у него была намечена беседа с одним из слушателей с третьего курса.
Герман Громов шел на встречу с Журавлевым, интуитивно чувствуя приближение какой-то неприятности. «Почему из всего курса только меня, – недоумевал он, – вызвали на собеседование. Год завершен с хорошими оценками, можно сказать, вошел в первую десятку успевающих, по медицинским показаниям претензий нет. В чем же дело? Может, какой секретный инструктаж?»
– Здравствуйте, Алексей Павлович, – приветливо поздоровался он с порога кабинета. – Можно?
– Проходите, проходите, Герман Петрович. Присаживайтесь, – указал хозяин кабинета на стул. Журавлев снял очки, аккуратно сложив душки, положил их перед собой на стол верх линзами, провел ладонью по полированной поверхности, вытирая невидимую пыль и устраняя белесые следы от пальцев. После этого ритуала огн уставился на Германа, проворачивая между пальцами авторучку. – Вы уже знаете страну вашей первой командировки?
– Венгрия, – старался держать ровный тон Герман.
– Да, да, Венгрия, – машинально повторил Журавлев. Худощавый, маленького роста, с сединой в волосах, он выделялся мягкими манерами даже тогда, когда требовалось принимать жесткие воспитательные меры. – Герман Петрович, просматривая ваше личное дело, я задался вопросом: «Можем ли мы быть уверены в вас, как сегодня выражается молодежь, «на все сто»?»
Солнце внезапно для Германа пошло на закат.
– Не понимаю, чем вызваны ваши сомнения, Алексей Павлович.
– Сомнения мои вызваны некоторыми звеньями вашей биографии. Давайте по порядку, – сдержанно рассуждал Журавлев. – Ваш первый брак распался на втором курсе. Судя по тому, что другую семью вы создаете уже на третьем курсе, личные переживания, по-видимому, изводили вас непродолжительное время. Печаль от распавшегося брака ненадолго зацепилась за вашу душу. И сквозь призму этих рассуждений я остановился на распутье: совестливый ли был Громов, когда потерпел крушение его первый семейный корабль? Все ли он сделал, чтобы сохранить семейный очаг, и кто, наконец, виновен в разводе: Громов или его жена? Туманом стелются эти вопросы над вашим личным делом, и развеять его, а, следовательно, и определить возможность направления вас в ответственную загранкомандировку сможет ваша бывшая супруга.
Герман понимал, что необходимо было тщательно взвешивать каждое слово, выверять каждый следующий шаг, совершаемый по краю пропасти.
– Алексей Павлович, но в этом нет ничего криминального. Со всей откровенностью я хочу заверить вас…
– Остановитесь, Герман Петрович – Журавлев приподнял ладони от стола в сторону растерянного собеседника, – не надо лишних слов. Это нам ничего не даст. Все, что я услышу от вас, не будет служить объективной оценкой. У меня нет личных претензий к вам, более того, я причислил бы вас в разряд успешных и подающих надежды слушателей, но дело – есть дело. Кадровый вопрос – главный вопрос внешнеэкономической деятельности, ошибки здесь дорогого стоят, а лучше – не допускать их вовсе.
Теперь Герман окончательно прояснил для себя то, ради чего он был приглашен на беседу. Он быстро оценил, что рождающийся в нем внутренний протест предстоящего исследования его личной жизни лучше оставить при себе. Вокруг него создавался вакуум, подкралась хрупкая зависимость его будущего от чужой оценки, от субъективного, пусть даже и неверного в отношении него, мнения сидящего перед ним человека. «Как все зыбко на этом свете», – волновался его ум.
– Договоримся следующим образом, – определял спокойно, но настоятельно Журавлев, – организуйте мне встречу с вашей бывшей супругой, – он надел очки, поискал что-то на последней странице личного листка Громова. – С Анной Юрьевной. И в ваших интересах не затягивать это свидание. До оформления выездных документов остается совсем немного времени. Что вы мне можете сказать на это? – спросил он, откладывая личное дело Громова в сторону.
Что Герман мог ответить ему? Какой-то голос сверху подсказывал: «назначай на завтра». Он так и ответил, хотя наверняка знал, что Анну ему не удастся уговорить ехать куда-то по его прихоти, да и представить его она могла в таком свете, что до последних дней по эту сторону бытия его никогда бы не подпустили и близко к границе.
«Отчего мне так плохо? – спрашивал себя Герман по дороге домой, находясь под давлением неприятного ощущения прошедшей беседы. – Зубрил предметы, осваивал этот проклятый французский, которого не преподавали в школе, уплотнял до предела каждый день. А теперь фактически без моего ведома определяют мое будущее». Знания, полученные с таким трудом до сего времени, хранились в его пытливом мозгу, но теперь они могут не понадобиться, как, впрочем, может не понадобиться академии и сам их обладатель. Бывают черные дни в жизни каждого, таков был и этот день для Германа.