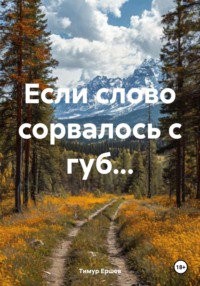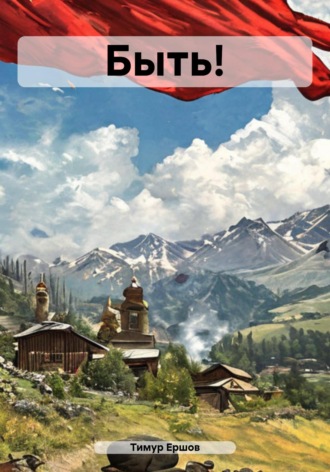
Полная версия
Быть!
Однако и в двадцатые годы двадцатого столетия всё ещё велась беспощадная борьба. Советская власть продолжала кровавую кампанию против религии. Коммунистами, с революционным рвением и фанатизмом, разрушались храмы и мечети, запрещались культовые обряды и обычаи – венчание, крещение, отпевание и другие. Физически уничтожалось духовенство, проводилась конфискация церковных ценностей.
На глазах семьи Паластровых разгромили и разграбили Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь, строительству которого помогали Алексей Павлович и Василий Алексеевич – вложившие в него всю душу и свои силы. В марте 1923 года, монастырь был окончательно закрыт. Когда стали убивать священников и гнать из обители монахов, Ирина Евлампьевна, не колеблясь, решила, что «пора»! Обсудила с детьми. Старшие девочки – Анастасия, Клавдия и Августа – решили остаться в России.
В 1924 году Фёкла интуитивно ощущая конец временам НЭПа6, занялась паспортами7 и визами8 на выезд из России в Китай. Подготовила Зою и Колю. Зоя заканчивала третий класс сельской школы. Сборы были тщательными и усердными.
Приложив немалые усилия и «выправив» документы Ирине Евлампьевне с детьми, Фёкла раздобыла им билеты на поезд9. Сама же Фёкла, предпочла остаться со своими сёстрами в России. Ирине Евлампьевне, Зое и Коле предстоял долгий путь10 в неизвестность.
Почти двенадцать тысяч вёрст они преодолели менее чем за месяц. Зое (по документам) было десять лет, Коле на год меньше, когда они покинули Родину.

Не сохранилось никаких воспоминаний о том, как и почему Зое поменяли год рождения в документах (с 1913 года на 1914 год). Предположительно, Фёкле Алексеевне пришлось так поступить, чтобы не переплачивать за удостоверения личности и «консульский сбор» во время оформления виз на детей. Принимая во внимание, вероятно действующее в то время «Постановление ЦИК и СНК Союза ССР о сборах, взимаемых органами НКВД за выдачу общегражданских заграничных паспортов, разрешений и виз на выезд из Союза ССР». Возможно что, тоже «Постановление» предоставляло льготы гражданам с несовершеннолетними и малолетними детьми, принадлежащим к неимущим слоям населения, которые оговаривались в «специальной инструкции Наркомата финансов», его сопровождавшей. Такие льготы могли предоставляться только «в исключительном случае» гражданам, «принадлежащим к трудовым категориям», выезжающим за рубеж по частным делам, в целях «лечения, свидания с родственниками или эмиграции».
Как нет воспоминаний и свидетельств о том, с какими трудностями столкнулись они на своем пути, в каких условиях они ехали по «Транссибу» и «КВЖД», где и в каких местах пересаживались с поезда на поезд, где и какие совершали переходы. Чем питались и чего им это стоило. В любом случае, не смотря ни на что, они добрались до Китайского города Чанчунь, где их давно и с нетерпением ждали.
Алексей Павлович и Василий Алексеевич, с момента дошедшей до них в 1918 году тревожной весточки из дома, волей-неволей адаптировались на чужбине. За время разлуки с семьёй они сумели приспособиться к жизни в Китае и в ожидании семьи открыли в Чанчунье собственную «Галантерейную лавку», где продавали швейные иголки с золотыми ушками, булавки, пуговицы, шелковые разноцветные нитки, костяные гребешки, заколки и другие нужные в быту товары – такие как часы и будильники. А ещё варили и продавали карамель – петушков на палочке. Василий Алексеевич снова женился, его избранницу звали Мария Филипповна11, она была сиротой.
Иван
Село Алексеевское расположено на левом берегу Камы в 108 км от Казани.

В 1918 году Казанская губерния оказалась в самом центре военного противостояния «красных» и «белых». С точки зрения военной стратегии «Белой армии» было жизненно необходимо завладеть Казанью. Не смотря на категорический запрет Станислава Чечека12 наступать на Казань, его подчиненные, подполковник Каппель и полковник Степанов, проигнорировали приказ и по собственной инициативе решили взять Казань.
6 августа 1918 года, невзирая на девятикратное превосходство «Красной армии», отрядами «Белой гвардии» под командованием подполковника Каппеля, Казань была взята. Сработал эффект неожиданности.
Было слышно, как по правому берегу Камы работала артиллерия «красных», доставалось и Алексеевскому – с левого берега били по железной дороге.
Иван вытащил из голенища сапога бархотку и до блеска начистил черные сапоги из юфтовой кожи. Аккуратно заправил под ремень гимнастерку. Снял картуз и вошел в низенькое здание, где было организовано «бюро записи в Добровольческую армию».
В помещениях было шумно, и царила суета. По этажам быстрыми шагами перемещались офицеры и казаки, мялись гражданские. Солдаты с винтовками стояли у дверей. Где-то беспрестанно чеканил телеграф. Воздух пропах махоркой, ваксой и потом.
– Где записывают? – ткнув плечом проносившегося мимо казака, спросил Иван.
– Там, там – отмахнулся казачок.
Иван осмотрел длинный коридор, соображая, что к чему. В кабинет стояла небольшая очередь из нескольких человек. Дверь кабинета приоткрылась, из неё высунулся штабс-капитан:
– Добровольцы на запись есть?
– Я! – в тот же миг подскочил к нему, не раздумывая, Иван.
– Заходи, быстро! – Иван прошел в канцелярию.
– Кем будешь? – строго спросил офицер.
Иван представился.
– Что можешь?
Иван коротко доложил.
– Ага, отлично! Значит, в технике разбираешься и на коне держишься? – постучал «штабс» костяшками пальцев по столу, – Жалеть не будешь? Мать не потеряет?
– Никак нет! Мать, отец в курсе, нас десять у них, я последний. «Красные» забрали всё, один чёрт всех не прокормить.
– Да-да…, понятно, – посмотрел в окно офицер, – ну, раз так… Нам позарез нужен телеграфист. Слышишь, «машинка» тарахтит? М-м-м-м! Зашиваемся, брат!
***
Несколько раз одни и те же населённые пункты и железнодорожные станции переходили из рук в руки. В первой половине августа «Красные» перешли в наступление, но были отброшены обратно. Части «Красной армии» перегруппировались, объединились и во второй половине августа нанесли свой главный удар с запада и с севера, по обеим сторонам реки. Им в помощь прибыли и другие части. Кроме того, прибыла Волжская военная флотилия, усиленная тремя миноносцами и самолетами, так же РККА им были переданы бронепоезда «Свободная Россия» и «Стенька Разин».
В главный штаб Восточного фронта РККА, расположенный в Свияжске, прибыл нарком по военно-морским делам Лев Давидович Троцкий – прославившийся массовыми расстрелами, проводя для «укрепления дисциплины» показательную «децимацию»13.
27 августа 1918 года под Казань снова был переброшен отряд В.О.Каппеля (4000 штыков и сабель), только что отбивший наступление первой армии Тухачевского на Симбирск. В ночь с 28 на 29 августа «белогвардейцы высадились» у Нижнего Услона, отбросили «красноармейские» части и вышли к Свияжску. Здесь бои носили самый ожесточённый характер. «Красные» нанесли по отряду Каппеля контрудар. Их численное превосходство вынудило Каппеля отказаться от первоначального плана и отойти по тылам противника к Казани. Во время этого маневра в тыл красных была внесена сумятица, разрушена железная дорога, захвачены трофеи, взята станция Тюрлема, где в плен чуть было, не попал сам Троцкий, однако сорвать наступление большевиков не удалось. В то же время вновь осложнилась обстановка под Симбирском, и отряду Каппеля пришлось отправиться на его оборону.
Ивану, как он думал, за это время пришлось «будь здоров как» набегаться, напрыгаться, наскакаться и наползаться, налаживая бесперебойную связь и собирая лаконичные тексты из того, что поступало с лент телеграфного аппарата. Одежда поносилась и просила хорошей стирки, а сапоги ремонта. Его кожа требовала хорошенько помыться, но такого случая никак не предоставлялось. Одним словом – «беда».
Однажды, он стал свидетелем, как утром 5 сентября 1918 года, после артиллерийской подготовки, началось наступление «Красных», и суда их флотилии, спускаясь по течению, поддерживая огнём наступающие части «Красной армии», вступили в перестрелку с артиллерийскими батареями «Белых». Он видел как в этой артиллерийской дуэли, погибли пароходы «Дельфин» и «Ташкент», при этом комендоры «Ташкента» продолжали вести огонь из кормового орудия, пока судно не затонуло.
А 7 сентября два самолёта «Красной армии», с высоты пятисот метров, несмотря на встретивший их ружейно-пулемётный огонь, сбросили бомбы на позиции «Белых» в Казани.
После, 9 сентября 1918 года, части «Красных» заняли села Верхний и Нижний Услон. И с господствующей над Казанью высоты, начали вести орудийный огонь по позициям «Белых». Четыре канонерских лодки Волжской флотилии «Красной армии», под прикрытием артиллерийского огня подавили пулемётным огнём расчеты артиллерийских батарей «Белых» и высадили на пристани десант. Но после того как из городского кремля по десанту и кораблям был открыт ответный артиллерийский огонь, десантники вернулись на корабли. Особенно жестокие бои шли за железнодорожный узел. Он несколько раз переходил из рук в руки.
Ночью с 9 на 10 сентября миноносцы «Прыткий» и «Ретивый» высадили еще один, более крупный десант – сводный батальон солдат и матросов. Однако, отбив атаки «Красных», утром 10 сентября полковник Степанов объявил об эвакуации Казани. Сил «Народной Армии»14 для обороны города было явно недостаточно. Её отряды организованно оставили Казань. Вместе с ними город спешно покинуло несколько десятков тысяч человек, в основном это были представители интеллигенции, служащие и духовенство. К двум часам дня 10 сентября опустевшая Казань была захвачена «Красной армией». В ходе жестоких боёв с войсками «Красной армии» Казань удержать не удалось. С 10 по 12 сентября «Белые» всё же покинули город.
Иван даже не предполагал, что офицерами подполковника Каппеля и полковника Степанова из Казани были вывезены склады с вооружением, боеприпасами, медикаментами, амуницией и золотым запасом России (650 миллионов золотых рублей в монетах, 100 миллионов рублей кредитными знаками, слитки золота, платины и другие ценности). Он просто изо всех сил старался выжить, сохраняя свою честь и достоинство.
В последующие дни Волжская флотилия «Красных» продолжала настойчиво преследовать отходившую к устью Камы флотилию «Белых», с боями пробивающуюся к Чистополю. Каппель подошёл к Симбирску, но его усилия оказались тщетны, он опоздал, город уже эвакуировался. Упорные попытки его бригады вернуть город успехом не увенчались.
После описанных выше событий бригада Каппеля, сохранившая свою боеспособность, сдерживала наступления «Красных» на Уфу и Бугульму, одновременно прикрывая отступление из-под Казани Северной группы полковника Степанова.
С 3 октября части под командованием Каппеля, изрядно потрёпанные боями, начали отступать на Уфу.
Ноги… Распаренные и замёрзшие в переходах ноги закисли. Иван, перематывая изрядно потрепанные портянки, смотрел на свои ногти. Это были уже не юношеские ноготки, а когти хищного матерого зверя – круглые, мощные и не поддающиеся стали. Он пытался их пилить, ломать и точить, но тщетно, ничто не помогало – это были когти мощного монстра. От его родных ногтей ничего не осталось. И он сам, огрубел и очерствел, как кряж засохшего дерева, которое ему встретилось в чаще леса.
После тяжелых поражений. Потери Урала, Омска, Томска, Новониколаевска, Иркутска, Красноярска и многих других городов с их окраинами, во время «Великого Сибирского Ледяного похода»15 «Сибирская армия16 белых» отступила в Забайкалье. Когда по льду переходили через реку Кан (приток Енисея), генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель отморозил ноги, перенес их частичную ампутацию и тяжело заболел воспалением легких.
21 января 1920 года, окончательно выбившись из сил, Каппель передал командование генералу С.Н. Войцеховскому. Скончался Владимир Оскарович 26 января 1920 года.
После смерти Каппеля, 6 февраля 1920 года «Белые» пробились к Иркутску. Но взять город они были уже не в состоянии. Попытка добиться освобождения адмирала Колчака успехом не увенчалась – 7 февраля 1920 года бывший Верховный правитель был расстрелян.
В феврале 1920 года остатки частей В.О. Каппеля под командованием С. Н. Войцеховского соединились с войсками Г. М. Семёнова17. 20 февраля 1920 года в Забайкалье Верховный Главнокомандующий Восточным фронтом Г. М. Семёнов из трёх корпусов войск Восточного фронта Русской армии сформировал «Дальневосточную армию»18.
По прибытии в Читу 22 февраля 1920 года «Каппелевцы» (именно так стали неофициально называться чины «Дальневосточной армии») похоронили своего командира в ограде читинской церкви. Позднее, при оставлении ими города, останки генерала Каппеля были перевезены в Харбин и при большом стечении народа перезахоронены у северной стены «Свято-Иверского» храма.
Иван, вместе с «Каппелевцами», обойдя стороной Иркутск, совершил беспримерный тяжелейший переход через озеро Байкал, удаляясь в Забайкалье, а затем – в Харбин.
Всю свою жизнь Иван негативно отзывался об атамане Семёнове, ненавидел его методы, его самого и всё, что было связано с именем и поступками «атамана». Он был вынужден уйти со службы в «Белой армии» и скрываться от преследований подручных атамана Семёнова.
Иван пересёк границу с Китаем.
II глава
Чанчунь (
长
春
)
После поражения России в войне с Японией, по «Портсмутскому мирному договору» Чанчунь попал в зону контроля Японии и стал одним из основных центров японского присутствия в южной Маньчжурии. Этот провинциальный китайский городок, больше напоминавший традиционную русскую деревню, начал разрастаться лишь со строительством южной ветки КВЖД. Уходящая в южном направлении от Чанчуня железная дорога контролировалась Японией и называлась Южно-Манчжурской железной дорогой (ЮМЖД). Здесь же от станции «Куаньчэнцзы» брала своё начало состоявшая под российским управлением Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Из-за разницы в ширине колеи между двумя станциями работало большое количество носильщиков. Они повсюду сновали и, пытаясь предупредить желания пассажиров, эмоционально предлагали свои услуги.
Железнодорожная станция «Куаньчэнцзы» встретила Ивана строительством нового здания вокзала19. Рассмотрев симметричное двухэтажное деревянно-кирпичное здание с четырехугольной железной крышей и заостренной башней в «готическом стиле» на его восточной стороне, Иван нашел «железнодорожный клуб». Наскоро перекусив в буфете клуба, он отправился в город.
Чанчунь отличался от обычных китайских поселений с одноэтажными зданиями, серыми стенами и кровлей из красной черепицы. В городе не было дымящих труб и канов20. Напротив, сложенные из каменно-кирпичных конструкций и дерева городские строения больше отражали русскую архитектуру и культуру. Материалы из камня придавали русским зданиям величественный вид. Постройки были утеплены, а пологие скаты клинообразных крыш, покрытые волнистым листовым железом и серой черепицей, защищали от непогоды. Из крыш зданий торчали каминные и печные трубы. Жилые дома железнодорожников, служащих КВЖД, имели типичные русские дворики с огородами. По обеим сторонам улиц росли крупнолистные тополя. Словом, типичный русский пейзаж. Через город протекает река Итунхэ (伊通河), небольшой приток Сунгари. Приблизительно в двадцати километрах к юго-востоку от Чанчуня раскинулся огромный лесной парк Цзиньюэтань (净月潭) с озером «Чистой Луны».
Русское поселение находилось отдельно и насчитывало около трёх тысяч человек. Походя по лавочкам, Иван присмотрелся к людям. Послушал, о чем говорят местные жители. На почте спросил, не сдает ли кто жильё. Ему дали несколько адресов русских, пускающих к себе «на постой».

Обойдя по адресам несколько домов, он зашел в «галантерейную лавку». В лавчонке несколько покупателей выбирали товар. Выйдя за порог, Иван сел на выносную скамейку возле входа. Опустил рядом свой вещь-мешок и стал ждать, когда уйдут люди. Лишних ушей он осмотрительно старался избегать. Невольно мысли унесли его в раздумья, веки сомкнулись, и незаметно подкралась дрёма.
– Что «паря»21, сидишь? – перед Иваном стоял молодой мужчина, в коричневой кожаной куртке и военного кроя галифе, он снял кепку и засунул её за голенище хромового сапога, его губы расплылись в широкой улыбке, – Иван! – протянул он правую руку.
Иван на секунду опешил:
– Да, – удивленно уставился на него Иван, лихорадочно пытаясь понять, что это за человек и откуда он его знает.
– Вы, как будто, по съёму угла, интересуетесь? – наклонился к Ивану молодой человек.
– Да, но…
– Да в почте мне сказали, в почте, – расхохотался, видя растерянность Ивана, мужчина, – а я как раз сожителя ищу! Компаньона, так сказать, для уплаты совместной ренты жилья.
– Ах, вот как! – встал со скамейки Иван и протянул правую руку в ответ, – Иван!
– Да это понятно! – снисходительно улыбнулся молодой человек, – Тебя-то служивый как зовут?
– Так я и говорю, как Вы и сказали, Иван Михайлович! А Вас?
– Что за чёрт? – не в шутку удивился тот, – Я, Иван Михайлович!
– Как это Вы? Шутить изволите? – начал сердиться Иван.
– Да нет, «паря», это ты, видать «дурака валять» вздумал! – рассердился молодой человек.
На шум возни у входа выбежал хозяин лавки:
– А ну, разойдись! – прикрикнул он, разнимая уже было сцепившихся за грудки молодых людей, – Что не поделили?!
– Моё почтение, Василий Алексеевич, – тяжело дыша, поздоровался с выбежавшим из помещения бородатым хозяином мужчина, – я Вам плату за ренту комнаты принёс, да вот думал, что и жильца ещё одного приведу. Так он дразнится что ли, не пойму, или издевается надо мной!
– Так, «паря», успокойся. Сейчас всё выясним! – притягивая за рукав к себе Ивана, произнёс Василий Алексеевич, – Кто таков?
– Иван Михайлович Ершов! На почте дали адрес. Пришел переговорить на счёт жилья, видно к Вам!
– Ссссссссс, – прыснул смехом, приседая молодой человек.
Василий Алексеевич замер в недоумении. Правой ладонью разгладил бороду, левую руку упер в бок:
– Так это, «паря», он же тоже – Иван Михайлович, – глядя Ивану в глаза, показывая пальцем на молодого человека, неуверенно произнёс Василий Алексеевич, – только Номоконов.
Дальнейшая беседа уже протекала в мирном ключе, в доме Василия Алексеевича, за пределами «галантерейной лавки», где к разговору присоединилась Мария Филипповна жена Василия Алексеевича:
– Откуда Вы родом, Иван Михайлович? – мягким голосом спросила Мария Филипповна.
– Село Алексеевское, Лаишевского уезда Казанской губернии, – ответил Иван.
– А я из Чебоксар! – улыбаясь, вставил в разговор другой Иван.
Говорили долго, пока не начала мерцать керосинка. Поужинали, выпили чай и разошлись уже за полночь. Ивана разместили в комнате с Номоконовым, парни явно проявляли друг к другу симпатию, особенно после откровенного рассказа Ивана о себе. Василий Алексеевич был искренне рад новому жильцу и в вечерней молитве перед образами не раз вставил его имя в сложную молитву.
Укладываясь спать, он снова подумал о родных, без которых они с отцом уже так долго жили на чужбине. О родных, которых так ждали и по кому так тосковали их сердца. Снова подошел к иконам и прошептал: «… раба божия Ирина, раба божия Фёкла, … Анастасия, … Клавдия, …Августа, … Зоя, раб божий Николай…».
Василий осенил себя крестным знамением и потушил лампаду.

У двух Иванов была любимая присказка сочиненная ими самими, про самые лучшие, как они думали, города в мире: «Лондон и Париж, Чебоксары да Лаиш»! Один был родом из Чебоксар (Чувашия), другой из Лаишевского уезда Казанской губернии.
Чашка и ложка
Василий Алексеевич и Мария Филипповна поселили Ивана в одной комнате с Иваном Номоконовым. И вообще расположили Ивана к себе своей порядочностью, искренностью и почтительным отношением. А Номоконов оказался настоящим «рубахой-парнем», весёлым, остроумным и с добрым сердцем.

То ли свалившаяся вдруг усталость, то ли неопределенность планов, но Чанчунь Ивану не понравился. Однако делать нечего, надо жить.
Номоконов работал в компании купца Ивана Чурина. Помог Ивану сделать документы, сфотографироваться и получить водительское удостоверение в японской префектуре у местного интенданта. С лёгкой руки Ивана Номоконова, Ивана приняли на работу водителем в «кожезаготовительную артель» торгового дома «Чурин&Ко».
Работать приходилось на разных автомобилях, легковых и грузовых. Автопарк состоял из автомобилей: американского – «Studebaker», чешского – «Škoda», итальянского – «Lancia Dilambda», бельгийского – «Minerva Type AC – Minerva Motors» и немецкого производства – «Mercedes», «Audi», «August Horch & Cie. Motorwagenwerke AG». Все машины имели руль справа, так как на оккупированной японским правительством территории Китая действовало левостороннее дорожное движение.

С ремонтом машин и агрегатов справлялись тоже самостоятельно. География поездок была разнообразной: Монголия, Китай, но чаще всего колесили по Манчжурии.

Шли годы, чередуя сезоны. Чужбина тяготила, но работа давала пищу, кров и надежды на будущее. Иван был сыт, брит, умыт и даже отрастил усики. Летом он шоферил во френче, галифе и армейских ботинках, поверх голенищ галифе – гетры из плотного материала, на голове красовалась кепка. В прохладную погоду надевал кожаную куртку и меховую шапку-ушанку, а зимой меховую кепку с козырьком и отворотами. В мороз начальство выдавало ему тулуп.

Для ремонтных работ у него имелся всесезонный комбинезон.
По армейской привычке, Иван всегда возил с собой средства личной гигиены, чашку, ложку, нож и кружку. В одной из экспедиций это здорово ему помогло, если не сказать больше.
После революции 1921 года (продолжение революции 1911 года) в Монголии начались национально-демократические преобразования, шла борьба с феодализмом, предпринимались попытки разнообразить формы собственности. Тем не менее, Монголия, богатая степями и пастбищами, была страной бедной, а население малообразованным. Однако на её территории располагались обширные владения крупного скота. С владельцами этих сад и гуртов можно было весьма выгодно сторговаться, что и привлекало различного рода производителей изделий из кожи и прочего сырья животного происхождения. Вот и Ивану приходилось зачастую совершать поездки в Монголию.
Кочевники, разводившие скот, были людьми гостеприимными, угощений тоже не жалели. Но их кочевой образ жизни предполагал свои правила и порядки. Следуя за стадами, они разбивали лагеря, ставили юрты и налаживали свой незатейливый быт. На костре варили мясо, похлёбки и чай. Рук не мыли, ели из одного котла, пользовались одними и теми же «столовыми приборами», а в основном просто руками. Вот и Ивану, как-то раз во время такого путешествия, простодушные хозяева кочевого лагеря упорно навязывали поесть с ними из одного котла. Как Иван не отказывался, а всё равно пришлось, иначе бы сильно обидел «хлебосольных» монгол. Пришлось немножко схитрить. Иван сделал вид, что пошел «по нужде», зашел за автомобиль, быстро вынул из «бардачка» свою чистую алюминиевую чашку, эбонитовую ложку, стальную кружку и в качестве угощения прихватил из машины булку хлеба.
Пока восхищённые хозяева ломали хлеб, Иван зачерпнул из котла горячей похлёбки с мясом и стал неторопливо кушать да нахваливать. Съели всё, что наварили.
В тот же котел кочевники налили немного воды, подкинули в костёр дровишек и сухостоя. Когда вода закипела, закинули в неё сухой зелёный чай, дождались пенки, долили свежего молока, приправили курдючным жиром и посолили крупной солью.
Отказаться было нельзя.
Позже Иван узнал, что как раз в это время в этом месте свирепствовала дизентерия. И несколько раз похвалил себя, за чистоплотность и предусмотрительность.
Алюминиевая чашка, эбонитовая ложка и эмалированная стальная кружка ещё долго хранились в нашей семье. Я их брал с собой в походы, дома смаковал с них пищу и вспоминал дедушку, пока сам не ушёл служить в армию.