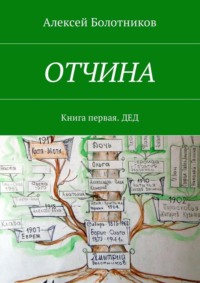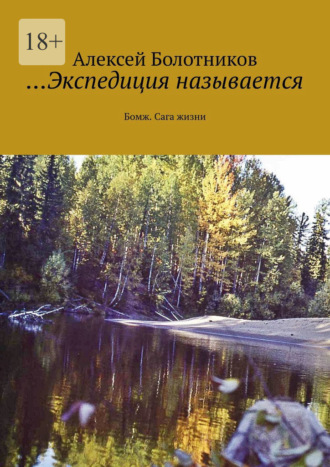
Полная версия
…Экспедиция называется. Бомж. Сага жизни
Иршинские копи, как первое угледобывающее предприятие, было задействовано в 1903 году. Работы велись без шахтного способа, на участках с небольшими мощностями вскрыши. Киркой и лопатой, подневольной силой мастеровых и ссыльных всех мастей. С 1918 года добыча производилась артелями чёрного золота, добывавшими несколько десятков тысяч тонн угля в год. И лишь в 1935 году на Иршинском месторождении запущена в работу первая Иршинская шахта. Производительность её достигла 200 тысяч тонн угля в год.
В январе 1950 года сдан в эксплуатацию… т. н. Ирша-Бородинский разрез (от одноимённого месторождения, известного ещё с 1884 г.) с планом на миллион тонн угля в год, долбили всё так же киркой и лопатой, много горняков полегло, очевидно, но через пять-шесть лет замыслен и просчитан план на 25 миллионов тонн… Повезло, что угледобыча на Бородинском разрезе проводится открытым способом. Уже с тех пор вводили в строй горную механизацию: экскаваторы, тяжёлые тракторы, Белазы под уголь и пустую породу.
В настоящее время градообразующая роль и экономика Бородино, по-прежнему, определяются угольной промышленностью СССР».
– А где Бо? Ему тут телеграмма. Здрас-сьте… – на буровой Гусенков появился в полдень, когда скважина была добурена и ожидала каротажных работ.
– Дык нет его… Шо ему тут дилать… – бойкущая Людка Ильченко резковато ответила на вопрос и закрыла дверь в буровую, прямо перед носом начальника участка. Буровики спали в балке, девчонки документировали последние метры керна и отбирали пробы. – Вы тут заканчивайте. Вот-вот должны подъехать Лёша Осколков с Ротей. – Прокричав в дверь, Гусенков отъехал, вскочив в седло… УАЗа. К этакой дублёнке ему бы выдать лошадь, как доблестному партизану.
Девчонки прочли телеграмму и зашушукались.
– Давайте, как вернёмся, быстренько стол накроем. Картошки сварим, килька есть… Наши подъедут, и мы его поздравим. Ой, ему же, наверно, ехать надо? А кто за старшего останется? Опять тюкнутый Шкалик? Задолбал своим отцом… Может, Жила?
День катился к закату. Девчонки, закончив документацию, не дождавшись каротажников, подались пешком в Солонечную. Каротажников не было и здесь.
– Андрюшка, ты у нас останешься за старшего?
– Не-е-е! Да какая разница! А что случилось? – Жила прочёл поданную телеграмму! – Хо! Это обмыть надо! Я в магазин, пока не закрыли… У меня, кстати, тоже отца нет. Я не ищу.
– И у меня… кстати… – подхватила тему Ира Шепель – А, правда, шо Шкалика сам Миркин усыновить хочет?
– Не-е, кажется, кадровик Пётр Тюфеич. Ты чо, наивная, думаешь усыновить пацана в нашем возрасте – это нормально? – с хохотком и нахрапом спросил Жила, заглядывая прямо в иришкины глаза, напяливая на плечи пуховик.
– Да. А шо таки?
– Ладно. Я пошёл. Расслабится надо… Усыновители поганые… – последнее он пробормотал под нос, и заглушив скрипом дверного полотна.
– Будь осторожнее, там Зуй с корешом всё время ошиваются. Они хорошие, но дураки… – вслед упредила Ильченко. И откуда она знает?
Вечернее солнце не справлялось с пуржистыми ветрами. Осенние сумерки накренялись на крыши домов багровыми отсветами, ни грея, ни лаская, лишь пугая всполохами пожаров. Ивняки вкруг озерка Солонечного, будто танцоры балета, гибко и слаженно кренились и гнулись, трепеща последней листвой и голыми ветками. Продувало и барак. Его топили привозимым углем, тепла от которого не хватало до утра. В щели оконных рам дуло. Дверь по утрам открывали, ломая лёд примороженной створки и ею же отгребая наметённый снег. Кутались в свитера и штормовки.
Отложив камеральные дела, геологи засуетились. Ира Шепель мыла пол, Люда Ильченко чистила полведра картошки. Жила, вернувшись с тремя бутылками водки, затопил печь. Вскоре котелок с картошкой и двухлитровый чайник закипели. Печное тепло расползлось по бараку, как небесная благодать. Вот-вот должны вернуться Лёша с Ниной, Саня Крестик со Шкаликом, Венька с Людой.
У крыльца кучкой валялись лопаточки и киянки.
– Как у вас тепло!.. – две пары геологов, понаехав с буровых вышек, обступили печь… – Гля, у них стол накрыт. У кого день рождения? …Или Брежневу новый орден дали? Обмоем, блин…
– Э-эй, не раздевайтесь! Блин-то блином… Кто может, пошлите щели конопатить. – Веня Смолькин оделся и первым вышел на улицу.
– А где Крест со Шкаликом? Могли б на водовозке подъехать.
– Ириша, забудь про водовозку! Это не Харанор. Там нас на вахте, на каротажке, а то на той же бочке возили… Кстати, пора заказывать завтра каротаж и на третьей скважине. Она на нашем профиле, судя по керну, прошила зону какого-то разлома. Как бы стволы ни завалило… – это Нина Ковальчук. Она такая. Ей ответственность сердце щемит. Наблюдательная и требовательная по генетическому коду, она терпит-терпит всяческое разгильдяйство до некой красной черты, а дальше взрывается негодованием. С каротажем скважин, кажется, красная тема.
– Каротажники не готовы. Родя с Женей Константинычем шпуры по ночам заряжают. Оператор болеет. Митрич собирается на той неделе подъехать. Не, а что за гулянка у нас?
– Только после шпатлёвки стен… Пошлите, перед Смолькиным неловко.
– Счас Ильченка придёт, она к Карповне метнулась за солёными огурчиками. – уклончиво отвечала Ира, обметая снег с валенок.
Девчонки натянули рукавички и вышли из барака. Работы им было дотемна. И не закончили, не хватило пакли. Вернулись в тепло.
– Лёша, есть повод выпить. На солёненькое п-потянуло – внёс свою лепту Смолькин.
– …и, похоже, на горькенькое. А что за повод, если не военная тайна? – Лёша Бо сполз по стене на пол, пытался стянуть валенки с ног. Распаренная долгой ходьбой, обувка не поддавались. Деланно всплеснув руками, он упал набок и затих. Через него переступила Люда Ильченко, шествуя с банками солёных огурцов и груздей.
– Ой, ему плохо стало… Зачем вы сказали, телеграмма-то у меня… в пикетажке.
– Да кого там… стяни ему катанки, жмут под мышками. – посоветовал Жила, вскрывая банку кильки. – Лёха, тебе телеграмма.
– Хорошая? Или плохая? – Лёша мгновенно вскочил на ноги. Былая деланность слетела с него, лицо побледнело, сводя румянец на нет. – Производственная или домашняя?
– Каротаж и нам нужен. Пусть с экспедиции едут, хоть сам Хисамов. А то будем потом скважины чистить. Это же юра грёбаная, сплошные песчаники-алевролиты…
– …с углем вперемежку, как п-пирожники с черёмухой у Карповны. – Давай, я стяну с-сагиры, – предложил Смолькин. – Наверно, на ковёр вызывают. Кстати, на вторую скважину, завтра, наверно, на сутки пойдём: угольный интервал приближается. Если не сидеть, эти г-г-гандзюковские б-бурилы опять могут угля из шарабана в керн подсыпать. Свой-то выход никакой, р-размалывается коронкой и р-размывается…
– Ну так сидите! И хватит, на ночь глядя, про работу… Я про телеграмму спрашиваю!
– Хорошая. Даже отличная! Где я её дела? – телеграммы в пикетажке не оказалось и Люда похлопывала себя по бокам. – Да под клеёнкой же!
Люда Петрушова, недавно ходившая Ждановой, застенчивая, то есть стыдливая и добрющая до безотказности, настолько же милая и улыбчивая, и, следовательно, «своя в доску», как определил Митрич, имела ещё одну особенность. Была ужасно влюбчивой. Она любила всех. Людей, кошек и собак… И каждому готова была поделиться собой. Пожертвовала себя Саньке Петрушову. А за отсутствием оного здесь, в поле, растекалась собственной добротой окружающему люду. Хм-м… Люда жертвовала люду…
Телеграмма лежала в известном ей месте. И была, на её взгляд, хорошей. Нужно в полной мере вознаградить ею адресата. Удивить его, несказанно обрадовать, и ещё более вознаградить проявлением всеобщей и сокрушительной любви – до апофеоза. Момент близился. Всё складывалось удачно. Натопленный и зашпаклёванный дом, изящно сервированный праздничный стол… – блюдце, ложка-вилка, стакан и салфетка из аккуратно порезанной «Правды», завезённой Гусенковым. Не хватало изюминки: не все знали суть телеграммы.
– Грамота без конвертика – как водка без закуси: неполное удовольствие – решил Лёха Бо. – Где всё же Шкалик с Крестиком, темно уже… За Солонцами, в прогонистых увалах, могут волки водиться… Во, легки на помине.
В барак ввалились парни. Снежный налип с ветровок и валенок, не до конца обтрясённый за дверью, девчонки, по наработанному алгоритму, бросились обметать веником. Благодарные кобельки в шутку, по обычаю, попытались облапать двух Людок. Получили вениками отпор.
– Вы где пропали, пацаны? Поди в аптеку завернули?
– Во-во, в точку. С Зуем поздоровались… разик. Сколько шкварок… сколько шкварок!.. – Крестовников потёр руки над столом. Шкалик присоединился, отбросив планшетку на кровать. – Что за пирушка? А какие груздочки!
– Люда, что за телеграмма, скажешь, наконец? – Лёха Бо сорвался на крик. Люся таинственным медленным движением вынула телеграмму из-под клеёнки…
…Лёха хохотал, уткнув нос в колени. Едва поднимал глаза на коллег, обступивших его и даже облапивших объятьями, наперебой выкрикивающих поздравления, он снова взрывался приступом смеха и пытался что-то бормотать…
– Да чо вы… Во дают… Да не то… это… – но спазмы смеха не давали ему объясниться. Уже налили в стаканы, чокались, пили… И тут же снова поздравляли и повторно кричали тосты:
– За новорождённого… папу!.. маму!
– Долгих лет!
– За мальчика и девочку!
Особенно их окрылил венькин тост «З-за д-д-двойняшек!». Жила закатился в короткой истерике, спровоцировав такую же у Ильченки. Прыснули и, сдержанные по натуре, Нина с Людой, не то на венькино произношение, не то за компанию…
Общая эйфория радости, подпитанная третьим – традиционным – тостом «за тех кто в поле», уточнённым «то бишь за нас», и добавленном записным остряком «ни разу ни рожавших», распоясала всех безудержно. Пили, говорили без тостов, пели… Препирались по любому поводу и хохотали без повода…
Лёха Бо, посаженный в центре стола, отдышавшись от давящего хохота, пытался заговорить, но ему слова не давали. Осоловевшими глазами смотрел на коллег и глупо усмехался. Лишь он, среди угарного уюта внезапной вечёрки, знал, что телеграмма пришла от однокашника Андрюшки Маминова, который в ответ на лёхино письмо с признанием «ждём мальчика или девочку», поторопился телеграммным поздравлением «…с мальчиком-девочкой!». Лёха смирился: «Пусть радуются. Раньше или позже…» – И совсем уж философски додумал: «Ещё один божий день завершился праздником. Авось не пропадём».
На второй день к вечеру приехала каротажка. Митрич привёз Сашу Хисамова, Родю и Саньку Петрушова. Женя Константинович тяжело заболел и ехать отказался. Даже посулы длинного рубля его не выздоровели. Каротажники работали вечер, всю ночь и весь последующий день. И завершив весь каротажный объём для последних скважин, заехали в Солонечную, сняли квартиру для постоя и отыскали барак с геологами.
Митрич привёз для Лёши Бо сногсшибательную новость: Валюшка в роддоме, и Лёше нужно срочно выезжать домой.
– Я с тобой диаграммы скважин отправлю. Береги как зеницу, в поезде шаромыг много ошивается. Передашь Жене? Скажи, пусть интерпретируют без меня.
– Спать не буду… Дороже только партбилет.
– А зачем ты его с собой таскаешь? – изумился Митрич.
– Увязался… вместе с паспортом.
На расставанье «хорошо посидели»: за встречу и до встречи»… Особенно щипательным был момент, когда Крестик припомнил один из своих любимых, «подгитарных» шлягеров:
Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо,
Отчего же мне не спится?
Над Канадой – небо синее,
Меж берёз – дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только всё же – не Россия…
– Когда я эмигрирую в Канаду… – философствовал Митрич, слегка подшофе… Нам, геологам, мигрировать… всё равно что два пальца… в бокал с шампанским… В США или Австрию – неважно. Везде – капитализм с его прелестями.
– Доболтаешься – на Колыму мигранёшь. В ежовых рукавицах. Кэгэбэ не дремлет, к бабке не ходи. Ты чо, Митрич, думаешь, у них тут ушей нету?
– Да? Загреметь можно? Как Троцкий?.. Ты, Шкалик, белены объелся? Берию давно прижали… Развитой социализм уже. Свобода и… как его… Право личности на самоопределение.
– Ой ли? Ну, смотри, тебе жить. Солженицын, вон, эмигрировал.
– А ты, я слышал, в Иркутск собрался… мигрировать. Это тебя… на Колыму потянуло? Кстати, Виталька Синицын по секрету… по большо-ому… сказал, что тебя подозревают в поджоге Борзи. Там ночью пал огня на станцию прикатился, угловые бараки загорелись. Ты это… не говори там, что с Борзи уезжал. Никому, кроме меня, не проболтался? Я-то знаю, что ты не куришь, и у тебя спичек не водится. В общем, я тебе ничего не говорил. Ты мне тоже. И про Борзю забудь. Как про страшный сон. И про мою миграцию не проболтайся. Уши-то завсегда вокруг да около.
– Я в Иркутск еду на встречу с однокашниками. И… это… окончить вуз надо. Поступить хочу.
Глава восьмая. Не все карьеры угольные
На гребнях гор густой закат лежит.
Длиннеют тени от курганных плит.
И возле остывающего камня
змея, в клубок свернувшаяся, спит. Н. Ахпашева
На посошок ещё выпили. Лёшу Бо с командировочным Гарифуллиным, учёным, посадили в каротажку. За руль сел нетрезвый Родя. «И не таким ездил» – успокоил Митрич. Машина сорвалась с места итальянским бычком, обозлившимся на тореро.
– Скоро вокруг будет голо, – философствовал учёный Гарифуллин, обозревая окрестность из окна каротажки, – карьер поглотит всю эту красоту. Ландшафт будет, как на Луне.
– А вы на ней бывали? – съязвил Родя, скосив рожу на Гарифуллина.
– На дорогу зырь, а то сам там окажешься. – отбрил учёный.
– А Солонечную снесут?
– Перенесут.
– На кладбище? Кстати, с покойничками как обойдутся? После последнего незабвенного спустя четверть века списывают – проявил Лёша осведомлённость.
– Кой-чей прах перенесут, а остальных – в отвалы.
– Прогресс не остановишь.
– Иногда не грех лаптей притормозить.
Лёша внезапно вспомнил сон прошлой ночи. Складывал в узел огромный махровый халат цвета багрового заката: собирался в дорогу. Посредине узла стоял унитаз. «Как я с ним в поезде обойдусь?» – саднила досада. Копошился, тщательно, но бестолково скручивая полы халата в жгуты, в змеистые верёвки. Не завершив сборы, сидел на унитазе, тот превратился в рюкзак, набитый книгами. Над головой привычно колотился невидимый вертлюг буровой установки, убаюкивающий и досадливый, как муэдзин с минарета.
– Как у нас, русских, всё не по-людски. – внезапно зло обронил Лёша.
Гарифуллин молча бросил на него взгляд. Хмыкнул. Зачем-то потёр переносицу. Выбирая слова, медленно заговорил.
– Вы, русские, как прилагательные. Неизвестно к чему. Татарин, армянин, француз, грек… – существительные. Как это у вас получилось: великим русским языком обозначить себя – прилагательными?
– А вы разве не русский? – игриво съязвил Родя.
– Я казанский татарин. Чем горжусь. Весь мир знает… вы, русские, как существительные, вписались в собственную историю – в том числе художественную, философскую, социальную… – архетипами, типажами до сих времен непонятными, загадочными. Ох и нагородили в миру! Ох и накуролесили. Впрочем, стоит ли сожалеть о степени оторванности от норматива, в котором развивается всё прогрессивное человечество? Есть и положительный аспект. Россия – третий Рим, не мир, но мираж. Оставшееся прогрессивное человечество, возможно, зашло в тупик в своём развитии. Русские до сего дня ищут брод в реке времени…
Замолчали. Внезапное откровение учёного геолога, будто пролитое из уст киношного героя, расстроило доверительную атмосферу. Русские бы сказали: «как в воду пернул». Но и они молчали. А Родя уже подвернул каротажку к столовой в центре Бородино. Им предстояло расстаться. Гарифуллину ехать на запад, Лёше Бо на восток. Родя, сделав ручкой прощальный финт, пнул педалью итальянского бычка.
– Пообедаем напоследок? – спросил Гарифуллин, указывая на столовую.
– Я сыт со вчерашнего. – уклонился Лёша.
– У тебя дочь родилась, а я не поздравил. Давай по рюмочке?
– Время есть… – с неохотой согласился Бо, цепляя на плечо рюкзак.
В столовой выпили: «за дочь и пусть она геологом станет», «за тех, кто в поле», «за науку…»
– За какую науку? – уточнил Лёша.
– За всю. За геологию, географию, диамат, научный коммунизм…
– За Кырлы-мырлы и Анчихриста! —в тон ему продолжил Лёша. – А давай!
Новый хмель на старую закваску быстро смягчил атмосферу.
Вскоре Лёша Бо вполголоса, но напористо объяснял Гарифуллину азы русской души. О том, что не все русские – «существительные», но среди них большинство считает, что «всякие варяжские гости не хуже татарина», и не надо им «лезть свинячим рылом в калашный ряд» …И непонятно им, обоим, о ком и о чём ведёт речь изрядно заплетающийся язык. Гарифуллин добродушно улыбался, не пытаясь оспорить лёхины убеждения, подливая в стаканы. В полупустынной столовой их вполуха слушали и вполглаза обозревали редкие посетители и посудомойки. А с картины в дешёвой багетной раме взором к ним обращались перовские «Охотники на привале». И никто, и ничто в мире не предвещало необратимых перемен.
Лёша Бо уже обратился в Лёху. Учёный Гарифуллин больше не тёр переносицу и с трудом ворочал языком, пытаясь умничать. Оба геолога, словно персоны нон грата, высланные из отечества в малообетованные пределы, с трудом осознавали свои миссии. Не преследуя честолюбивых намерений, они, как Андрей Болконский на Бородинском поле, обнаружили себя рядовыми бойцами на безграничном пространстве обыкновенно-драматической жизни. И подвиг их вчерашних дней – не подвижничество, а обыкновенная круговерть суеты и гонора. И нынешняя награда за всю вчерашнюю жизнь – не доблесть, а всё та же пустышка сиюминутной радости. Хорошо сидим! Не убитые, не раненные на этой бесконечной войне болконские, готовые и умереть с миром в сердце.
А под ними – спрессованный за миллионы лет бородинский уголь, как вселенский архив, назначенный поглотить на хранение секунды их судеб.
Затянуть лёхин рюкзак и его самого под брезентовый полог попутной машины помогли чьи-то грубые руки. На скамейках он различил несколько фигур в одинаковых шапках, фуфайках. Рожи про Лёху тут же забыли и продолжали, видимо, нескончаемую перебранку корешей и закадык. Машину изрядно трясло, пассажиров клонило вбок на поворотах. Особенно Лёху, сутулого, хмурого, и расслабленного хмелем. Дальше – больше. Он впадал в дремоту, не в силах преодолеть качку и тряску. Те же грубые руки будили его толчками.
Сквозь дремоту Лёха Бо всё же помнил о поезде. Стало казаться, что поездка затянулась. И продолжалась она в странной темноте, словно в тени мрачной скалы, беспросветной и холодной. Он забеспокоился и попытался спросить куда попутчики едут. Никто не реагировал на его пьяные бормотанья. Напротив, его тычками грубо осаживали. Лёха внезапно понял: не туда он едет. И загребая лямки рюкзака, пополз из-под тента…
Последнее, что он помнил: резкий удар в переносицу, вызвавший сноп искр в глазах. Грубые руки попутчиков перевалили его через борт остановившейся машины, выбросили… Соскочившие следом рожи, попинали в рёбра, подбрюшье и в лицо. Вырвали из руки лямки рюкзака. Через мгновение его осветило светом фар, словно наехало на глаза тихим поездом. И – тишина, проникающая в сознание ужасом: раздавило на рельсах.
Вероятно, был обморок. Или сон обмякшего организма.
Мой любезный читатель! Отвлечёмся от сюжетного напряжения. Заварите чашку кофе. Либо вслед за мной плесните пару глотков рома из тёмной посудинки. Сварите грог в ожидании тягостной развязки. Помолчим не мысля. Вероятно, единожды, а то и не раз, вам приходилось претерпевать минуты, за которые всю оставшуюся жизнь было стыдно и обидно… Минуты, о которых по сю пору не знает ни одна живая душа. Не узнает. Но – «нет ничего более отрезвляющего, чем обнажение». Думаю, вы поймёте меня и хотя бы попытаетесь простить нечаянные ссадины на чувстве, нелепо нанесённые тем, «что осталось русской речи». Пейте, Прочувствуйте возвращение вашего тонуса к уютному креслу статус-кво, и не возвращайтесь более к нашим незадачливым героям, утратившим ваше доверие и расположение. Мы же, паче чаяния, донесём свою ношу до развязки.
Лёша Бо очнулся в канаве. Было ощущение того, что русло реки жизни высохло, а он оказался на холодном дне, придавленный незримым тугим пузырём. Пошевелил пальцами, рукой… Согнул ногу в колене. Попытался встать. Пузырь тьмы и невероятной тяжести ворохался над ним. Лёха прислушивался к пробивающейся мысли, снова и снова раскачиваясь телом.
Наконец, он встал в полный рост, словно былинный великан, возродившийся из глины и пепла. Уловил и первую тёплую мысль: «кажется, жив…”. Перед глазами стояла холодная стена мрака. Лёха вспомнил, как отъехала машина, окатив его светом фар и волной страха. Под ногами есть дорога. Он шагнул вперёд, вправо… Ноги упирались в невидимую твердь. Отступил и развернулся влево… Пути не было и здесь. Однако глаза различили сумрачный свет белесого неба. Там была жизнь! Он шагнул к ней и тут же упал, покатился с пригорка. Более бодрым и дерзким, Лёха встал и зашагал по камням и рытвинкам, по нащупанному полотну дороги. Вспомнил про рюкзак. Кажется, его забрали в машину. Там каротажные диаграммы, партбилет… Билеты на поезд были в кармане ветровки. Он с радостью нащупал их под клапаном.
Вскоре Лёша шагал в неведомую даль довольно бодро. Лихорадочные мысли о случившейся катастрофе обуревали до слёз. Потерял рюкзак с вещами. Утратил доверие коллег. Валюшка в роддоме. Поезд, вероятно, ушёл. Последняя мысль подспудно давила на сознание и заставляла убыстрять шаг. Вспомнил сон прошлой ночи, детали долгой упаковки унитаза в полы широкого бардового халата, и почти застонал от мысли «сон в руку».
Внезапно понял, что идёт вдоль траншеи угольного карьера! И тёмный его борт давит стеной, которую нужно преодолеть, чтобы выбраться на божий свет! Лёша резко повернул под прямым углом и пополз по крутому яру, преодолевая сопротивления осыпающегося угольного камня. И – счастье! Борт через несколько метров сыпучего угля, закончился. Перед ним, на горизонте, лежали огни городских фонарей. Бородино, или Заозерка?..
Прилив неожиданного счастья нёс на крыльях. Увидел железнодорожные пути и пошёл по ним, как оказалось позднее, в сторону станции. Перед входом в вокзал долго отряхивал одежду, чистил сапоги, руки, лицо снежными комками. Узнал у прохожего: поезд будет с минуты на минуту…
Скрываясь под капюшоном, Лёша Бо сел в вагон, нашёл своё место и упал на лавку, отвернувшись от попутчиков. Уснул быстро и встал только на сообщение проводницы: «Конечная станция Иркутск. При выходе не забывайте своих вещей».
Вещей у него, впервые за всю командировочную жизнь, при себе не было.
Жена, увидев желто-синюшную маску вместо лица, тихо ахнула.
Лёша, с внезапной слезой в голосе, объяснил:
– Били-били, колотили, морду в жопу превратили.
Потом, после многочисленных объяснительных, допросов, бесед, встреч с сотрудниками милиции, были найдены его вещи: рюкзак с диаграммами, паспорт и партбилет, завёрнутые в газету, подложенные под клапан. Исчезли только книги и банки с тушёнкой, прихваченные на дорогу. Ахмадеев замял в Горкоме вопрос с «временной утратой» партбилета. От Храмцова получил устный выговор «За халатное отношение к имуществу ГРП».
Историю расставания с Гарифуллиным Лёша не запомнил. Только последний тост: За Бородино!
Шкалик ходил по коридорам родного факультета с Колей Омельчуком и Вовкой Денисенко. Всех, кого можно встретить, встретили, других – не получилось. Но день сделался насыщенным радостной эмоцией до краёв. Общались с Шевелевым, Черновым и Шиманским. Видели в других группах Плешанова и Водянникову. Поискали – не нашли – петрографа Чулкова и музейщика Сидорова. Время… кидать камни… В деканате расписались на ватмане, среди сотен росписей других выпускников: год выпуска, дата и роспись.
Внезапно перед лицом Шкалика возникла физиономия… Тюфеича. Точно фотография в иллюминаторе космического аппарата… Но не космос, не звездолёт, а обыкновенное, очкасто-улыбчивое лицо кадровика объявилось внезапно и насторожило горячечным взглядом левого глаза. Точно он подмигивал Шкалику, или прищуривался, выцеливая мушку для выстрела.
– Евгений… Борисович… Ожидаю вас. Знал, что будете на встрече. Нам нужно поговорить. Наедине. Не займёт много времени. Очень надо. Прошу… – в его репликах, показалось, ровный голос был напружинен, как тетива лука.
– Здравствуйте, Пётр Тимофеевич. Рад видеть. Вы хотите поговорить… здесь… сейчас?.. По работе?
– Отойдём… Давайте сюда, на кафедру, я договорился. Нам не помешают. – выстрелил ещё одной обоймой. – Парни подождут.