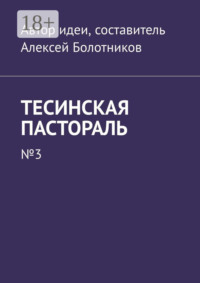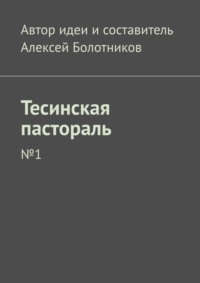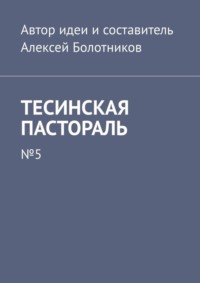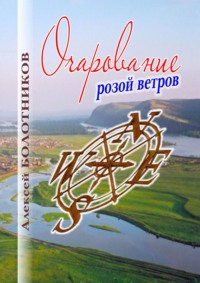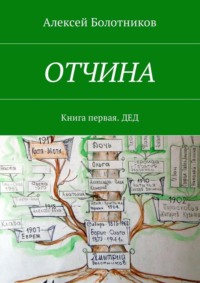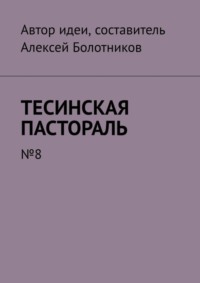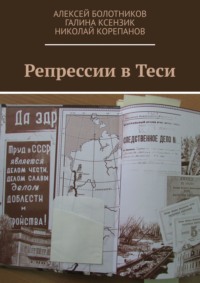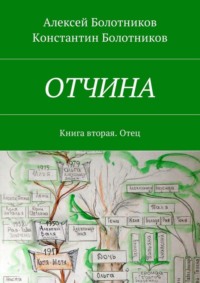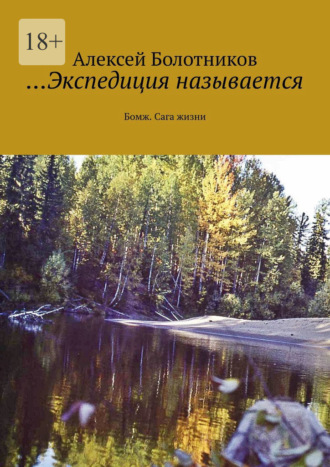
Полная версия
…Экспедиция называется. Бомж. Сага жизни
– Неожиданно свиделись. Я бы что-нибудь прикупил…
– Это лишнее. Вы где остановились?
– В общаге, как всегда, нелегально.
– У меня деловое предложение. Точнее, не по работе… Хотя, всё же по работе. – Внезапно Шкалик уловил, почувствовал, с каким напряжением Тюфеич борется, пытаясь не выказывать волнение. Или что там у него… Хочет сообщить ужасную для Шкалика новость? Нашёл отца? Мёртвого?
– Ничего… говорите… я постараюсь… – Шкалик поторопился заверить кадровика в… собственном мужестве.
– Собственно, речь о пустяке. Вам нужно переехать ко мне… домой. Я один живу. Мне вас не хватает. Нет-нет, что я говорю… Я предлагаю вам перейти старшим геологом к Труханову. Всё оговорено. Буянов уходит на пенсию. Пустая вакансия… Но это временно. Вы замените Труханова. Когда умрёт Миркин, будете… Замените его. У меня всё оговорено… с кем надо. Вопрос решённый. Нет-нет… Не отказывайте мне. И не отвечайте поспешно… – он неожиданно ухватился руками за лицо и с жаром потёр щёки, точно пробуждая себя от сна. Волнение уже не мог сдерживать. И лихорадочность глаз, засветившихся блеклой желтизной, выказала неожиданные слёзы. – Ничего-ничего… Я волнуюсь, давно не виделись…
Шкалик похолодел. Понял, что Тюфеич не просто волнуется. Он взведён пистолетным курком, в напряженной душевной работе теряет мысль… Что с ним? Что за бред несет? С какого перепуга? Почему Миркин умрёт? – последняя мысль обеспокоила необъяснимой досадой. Нормальный человек так не сказал бы… «Когда Миркин умрёт»… Выдумки в стиле Уэллса. Когда спящий проснётся… Тюфеич болен?
– Пётр Тимофеевич, у меня тут… есть… во фляжке. Давайте… за встречу? – Шкалик пытался делать вид, что не замечает состояния визави. Но и сам подрагивал напряжением рук, протягивая фляжку с коньяком. Тюфеич машинально взял её и приложил к губам, глотнул. Вернул Шкалику, скривив рот в гримасе. Наконец, справился с собой и снова загорячился.
– Не отказывайте мне. Не надо. Вопрос решённый. У тебя будет карьера, мы оба постараемся. Я ведь не говённый кадровик. Умею делать…
– А что с Миркиным? – Шкалик решился на вопрос, чтобы спровоцировать адекватную реакцию Тюфеича. – Он болен? Почему… умрёт?
– Да, он умрёт. – неожиданно жёстко рубанул кадровик. – Это вопрос решённый. Тебе не надо это знать… Не думай о чужой смерти… Это имущественное право сатаны… Ты поверь мне. Можно ещё глоток? – и машинально потянулся рукой к фляжке, как к пистолету из портупеи.
В это мгновенье дверь кабинета открылась, и голова Вовки Денисенко прошипела: «Пошли, Важенин приехал!..» Тюфеич быстро вернул флягу, не приложившись к ней, и пробормотал:
– Да-да, идите… Я подожду в машине, на улице. У «Волги» Миркина, ты знаешь.
Шкалик с огромным облегчением оставил кафедру и кадровика – потерянного кем-то отца. Вероятно, глубоко несчастного. Странного… Зачем он искал встречи?
Юбилейный год Великого Октября накатился на Черемховскую ГРП. В пятницу по заведенной традиции завхоз Зверьковская торговала продуктовым пайком: в одни руки по баночке кофе «Пеле» и «Сайра в масле», а вожделенные корнишоны – по две банки… Дефицит! Небольшие, заранее развешанные, как школьные подарочки, кульки с набором конфет и упаковкой апельсинов. Полпалки ветчины и хвост копчёной горбуши… Праздник – и в Африке праздник! Рабочий день был укорочён и, прослушав «торжественную часть» с докладом и благодарностями, заполучив паёк, конторский люд растекался по домам. «Да здравствует. Октябрьская революция!» – на стене висел красный плакат, воодушевлявший на праздничное настроение.
– Ты с нами? Присоединяйся, коли что… – Митрич из вежливости пригласил Шкалика на попойку по поводу праздника.
– Я? Не знаю… На перепутье… – Шкалик смутился. Другой компании не намечалось, но с Лёшей Бо оказаться за одним столом не любил. Митрич и Лёша жили по-семейному, а у него…
По коридору конторы, в тусклом свете запылённой лампы шла к нему… Люся… Его Люся… Воздушная фея снов и видений… Его боль… счастье… Наваждение… Нет… Танюша Нарва, собственной персоной. Она… неожиданно-яркая, разительно непохожая на ту, в неизменной штормовке, в пальтецо с капюшоном и… – с люсиной чёлочкой на глазах шла по коридору харанорской общаги… С той же непроницаемой маской на лице. Той же упругой походкой. Шкалика пронзил озноб. Усилием над собой он возвратился в… черемховскую реальность..
– Ты как здесь? Чудо какое-то. То есть, здравствуй, Таня. Не узнал тебя. Хорошо выглядишь…
– Зарплату получить. Мне сказали ты в поле.
– Из Гусинки сегодня вернулся. Праздник же… Где ты устроилась… ночевать?
– Сегодня же вернусь электричкой.
– Пойдём ко мне? Перекусим, чаю попьём… Мне однушку дали, живу тут неподалёку… – Схватит её под руку и почти насильно потащил из конторы.
– Куда… не пойду я… домой надо – однако, она не противилась и покорно шла рядом. Не отняла руки, которой он завладел за порогом конторы. Та же Таня… Люся… Его единственная в мире…
– Я поеду, меня дома ждут… Извини. – говорила она, продолжая идти рядом.
– Подождут! Чайку попьём. Кто тебя ждёт?
– Замуж выхожу. Ты куда исчез в Хараноре? Я чуть не умерла.
– Что ты такое говоришь? Танечка! Как… не умерла? Какой… замуж? Выбрось из головы. У меня жить будешь. Нам топограф нужен. – Он встал перед нею и обнял, с решимостью и силой. Ощутил что-то не… танино… Оторвался от неё и оглядел с ног до головы. Танюшка была беременна, как не скрывала животик полой поролонового пальтишка. Скрыть было невозможно. Шкалик смотрел на неё, словно на что-то ужасное в кошмарном сне.
Праздник Великого Октября висел над ними, как обычное небо. Ни радость его приближения, ни отдельные детали счастья и горя невозможно было ощутить. Солнце светило с прохладцей. Тополя шелестели осенней листвой. Запах дыма… Там, за домами, гудели автомобили и что-то кричали шадринские пацаны. И – ни-че-го вразумительного. Ничего понятного.
– Это мой ребёнок? Мальчик будет? Девочка? Ну говори же, не молчи – наконец, Шкалик пересилил себя и сорвался почти на крик.
– Это мой… Успокойся.
– Отец кто? Я?
– У меня свадьба… Бумаги поданы. Если хочешь, приезжай. Я в четвёртой общаге живу.
– Пойдём домой. Не дерзи мне.
– Куда ты меня тащишь: я беременная. Мне на электричку пора.
– Таня, так не может быть… Ты приехала, вот она… И говоришь мне, что тебя нет… Если сын мой, то мы идем домой. Будем жить вместе, как все… Погоди, куда ты идешь? – и недоуменно смотрел, как Таня пятилась… пятилась…
– Там… той ночью ты меня Люсей называл. А я Таня…
В этом году что-то треснуло и надломилось в жизни Лёши Бо. Криминальный случай, который за глаза смаковала вся ГРП, вошёл в душу клином. И саднил беспрестанно. Он решился на переезд, о котором – после рождения дочери – заново заговорила Валюшка. Карьера в угольной геологии, как всё чаще думалось ему, не состоялась и не может быть продолжена нигде: слухи дойдут. Но и вырваться из ГРП, где получил квартиру в благоустроенном доме, закрепился в должности с приличным окладом, и просто обвыкся, было непросто. Предстоящий разрыв «дружбы семьями» с Митричем и Женей, крах «библиофильской ячейки», объединяющей, как духовные скрепы, угнетал и тормозил, словно вожжи. Алексей Дмитрич делился строчками из романа. Откровенные и смешные получались рассказы о Шурке, Мишане, Роде, пьющих и хитрющих… О себе тоже… Говорил, как завершит, попытается издать. Не получится в Союзе, уйдёт в диссиденты, опубликует роман в Америке. «Давай, вместе?» – предлагал невозможное. Лёша не хотел огорчать друга. Не верил шутнику Митричу. Замыслил побег на родину. Тем более – никого не посвящал в планы. Обнаружилось всё же, когда кто-то из коллег прочёл в газете объявление об обмене жилья. Всё покатилось нарастающим снежным комом.
Болотниковы уехали в разгар очередного летнего геологического сезона. Затерялся их след. Следом за ними оставил Черемховскую ГРП Шкалик Шкаратин. Исчез, даже не забрав документы. Раздосадовав начальство и обескуражив коллег. Вновь доведя до ступора кадровика Петра Тимофеевича. Подведя, очевидно, под крах идею карьерного роста его подопечного, а более всего – ощутив предательство Шкалика, как удар от родного человечка… Тюфеич вновь вознамерился пуститься в поиски. Замысленная мечта о Шкалике, захватившая его воображение, беспрестанно саднила, словно досадливая заноза. Он не отдавал себе отчёта о глубинной тайне замысла, не признавался в её интимной сути и немыслимой страсти. Ему казалось, всё устроилось уже при первой встрече, и малый шажок отделяет его… их… от обоюдного счастья. И новая пропажа Шкалика – дьявольская кознь. И ревностно толкает в схватку с бесчеловечным злом.
Вознамерился не уступать…
Возможно, испокон веков так и устроен мир человеческий. Либо что-то новое замышлялось в непостижимых высях небесной канцелярии. А человеки, как подопытные твари, отчаянно дергались на невидимых ниточках судеб.
Часть вторая.
Город и горы
«Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнёзда. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу». Мартин Лютер
Глава первая. Сибирский Саминский
«Нефть – кровь экономики, Газ – её лимфа. Золото, наверно, секреция…» – вторую часть пути Саминский думал о том, что его ожидает в Сибири. Город, который выбрал, был обескровлен. «Лимфа» не так давно выбрасывалась одной скважиной, но ей пережали горло. Золотом в экспедиции интересовались по остаточному принципу финансирования. И все-таки он выбрал Провинск.
…Решение поломать жизнь и выстроить её на новых основаниях было бесповоротным. Спасибо дяде Якову, утвердившему Яниса в решимости сменить место жительства и переосмыслить себя. Когда-то дядя побудил поступить в геологоразведочный техникум. Странно, что дети Миркина не послушали отца и избрали хлеб педагога и врача. Саминскому дядя внушал уважение к себе натурой цельной и напористой. Карьера его поражала родственников Саминских. Дядю ценили. Из Сибири вернулся крупным чиновником, приглашенным на должность в министерство геологии. Янису, вызнав о разладе с отцом и попытках «рвануть очертя голову куда глаза глядят», тут же дал совет и составил протекцию, геологическую, разумеется. Определил и место: город Черногорск, столицу угольщиков, как старт для скорой и безусловной карьеры племянника. Здесь все было схвачено и предопределено. Но место жительства Янис выбирал сам: всё из того же чувства независимости. Или врожденного упрямства.
Москва, город шумов, дымов и каменного хлада, клоака страстей и несбыточных надежд, вырвалась из его объятий, как жеманная жар-птица, симбиоз надменности и скуки. Растворилась в мареве закатного солнца, едва скорый поезд миновал Подмосковье. Защемило всё же при мысли об отце и маме, оставленных душевно-убитыми. Друзья-недруги не сокрушались, утратив привычку, связующую с ним. Вера… Жена, как обмолвилась мама, «не нагулялась по кабакам». Извечный мамин столичный аскетизм, семейная преданность, служение… Слушал стук колес. Думал, думал, думал… Милые дворики, парковая скамья на чугунной опоре, лебеди на озере. «А из нашего окошка площадь Красная…». Как примет Сибирь? Сибиряки, со слов дяди Якова, бесцеремонные вахлаки. Мельтешение за окном раздражало, словно полотнище, хлещущее по глазам. Не заметил, как стемнело до утраты времени суток. Пытался задремать. Оставайся с миром, белокаменный монстр…
Автобус из Абакана въезжал в Провинск ранним утром, когда город уже просыпался, копошился во дворах и на улицах, спешил на работу. «Слаборазработанный Провинск», каким он вообразился не бывавшим здесь сатирикам-сарказмикам Ильфу и Петрову, обесславившим его в своём смешном романе, Саминскому таковым не представился. Обликом не уложился в навязанную писательскую оценку. Новые кварталы девицами в стиле «ню» заслоняют старые постройки. О, нет, нормальный городок, тихий, малолюдный, не загаженный мусором, не пропитанный вонью цементного, химического или целлюлозного комбинатов. Лесо-и сельхозпереработка, розничная торговля и пара объектов бытового назначения нашлись и здесь, как всякия исчадья кучной жизни, но их шум-гам, зловредный выброс и противный запах ни днём ни ночью не обнаруживались. Мебельная и перчаточная фабрики, пошив одежды и обуви, овощеконсервное и кондитерское производство… Последнее остро обнаружилось, едва только Саминский вышел из автобуса – запахом пряной ванили, манящей в ресторан, кафетерий, или, на худой выбор, в столовую. Пить хотелось ещё в автобусе, и приезжий рыскал глазами в поисках приличной забегаловки.
Древонасаждения вдоль тротуаров и в микроскверах не ласкали взор благоуханием. Тополя, вязы, редкие берёзки, акация, как нестриженые изгороди уличных насаждений, тяготили буйством зарослей – закутков, ландшафтно-запущенных местным архитектором и конторой коммунального хозяйства. Художнику Саминскому такое безобразие терзало глаз. Как, впрочем, и неухоженность одноэтажных двориков в оставленных столицах.
От вокзала до гостиницы, волоча в руках пару чемоданов, он добирался быстро: располагались скученно. Встречь толпились приземистые одноэтажные кирпичные строения с бзиком архитектурных излишеств, тесных изнутри.
«Есть ли художественная интеллигенция? – думал Саминский, разбирая вещи в номере гостиницы. – Достаточно ли действенная, сердита ли на бюрократию? Не борзо ли начальство с нею и инженерной кастой, к которой отныне приписал себя?» – Вопросы породили в нём ещё одно чувство: будущую духовную сопричастность к провинской жизни сибирского городка. Выбор пал на сектор рулетки с устным бэтом «минус»: мол, минус прошлое… Евангелическое слово, звукописью цепляющееся за символы исус и сын…
В скоротечной сутолоке Саминский обнаружил в Провинске музей и театр. И первые их посещения удивили не меньше, чем патриархальность уличной эклектики, но – приятным удовольствием. Музей, созданный в прошлом веке заезжим аптекарем, блистал в экспозициях благообразным старцем, умудрённым и по-купечески зажиточным. Коллекции в стеклянных витринах и стеллажах не уступали таковым в столичных собраниях древностей. Зальные выставки – от археологии до этнографии, от ботаники до зоологии, от палеонтологии до нумизматики – увлекли Саминского. Дня не хватило. Он ходил полторы недели, выискивая образцы, каких не встречал в столичных музеях, изучая этикетки, словно меню в китайском ресторане, записывая в блокнот пометки о фарфоровой посуде, бронзе и железе, скифо- и тюркском арсеналах, сбруе, украшениях, одеждах. О геологических коллекциях…
Не понравился выставочный зал для полотен – картинная галерея. Обескуражила экспозиция! Не полотна в рассохшихся рамах, засиженные мухами, а общий антураж галереи… Тонально-окрашенные стены, монтажные пропорции, этикеточный хаос. Эстетика насмарку… Вероятно, в штате нет искусствоведа. Да и уровень художественных творений, представленных в экспозиции авторов полотен, говорил Саминскому больше, чем можно – провинциальный Провинск голосил, как петух на заборе: крикливо и вычурно.
Вспомнил, как в юности покушался на подобную мазню с бутылкой вонючей гуаши. За «надругательство и хулиганство» отсидел в таганской КПЗ семь исправительных дней-ночей… Усмехнулся и огорчился: с провинским медиабаингом придётся смириться и здесь. Иначе – сошлют в столицы…
Чувство любопытства привело его в кабинет директора музея. Потрясающая получилась встреча. Директором оказался бывший геолог экспедиции, специалист из категории геофизиков. Лет надцать назад перешедший на работу и до конца не освоившийся в музейном хозяйстве… Они говорили об экспедиции и её перспективах, как будто Владимир Алексеевич, как представился директор – собирался вернуться в их ряды с началом полевого сезона. О музее же – лаконично.
Образовавшееся знакомство обрадовало: в личности директора подкупала критическая оценка вещей. Не в каждом приятеле обнаруживал Саминский это качество натуры. Познакомил его Ковалёв и с местным археологом, Николаем Леонтьевым, сухопарым бородачом, малоразговорчивым, но основательно-осведомленным. Во внезапно-возникшем разговоре об иконе музейщик поразил Саминского. Оказавшаяся в его руках небольшая трилистница, внезапно открылась во всей красе своего содержания и, попутно, обнаружила компетенцию историка, обескуражившего бывшего коллекционера скрупулёзностью описаний, а именно – знанием иконописного искусства… Он самозабвенно, как для младших школьников, излагал нюанс за нюансом, деталь за деталью: всё, что приходило на ум о ремесле богомазов и маститых собратьев, мастерах-иконописцах… Называл местных, известных ему, ремесленников: Лавров, Хозяинов, Токарев… А в музее подвизался, как оказалось, профессиональным археологом.
С не меньшим любопытством Саминский принялся изучать местный драмтеатр. Аббревиатура его звучала как МХАТ, а игра труппы не уронила знаменитой марки, оцененной столичным завсегдатаем на первом просмотре. Выказала и явный мхатовский стиль: тронула в зачине и не отпускала до кульминации.
Другое дело – с кем смотреть спектакли… Саминский выбирал спутника или спутницу… И все варианты отметал. С Ковалёвым, пересекаясь в партере, лишь раскланивался. Ну, не театралы жили в городке! Хотя залы, во всяком случае партер, не пустовали. Во втором же сезоне, когда Саминский освоился с афишей, дамы и кавалеры – записные театралы – с первого же посещения проявились с лучшей стороны: умели смотреть и обнаруживать чувство.
Наконец, на четвёртый просмотр, на премьеру нового спектакля, Саминский нашёл партнёршу – Софью, директоршу книжного магазина. Пухлая и розовощёкая блондинка, умеренно манерная, увядающе-молодящаяся, изголодавшаяся по мужскому вниманию, она быстро согласилась и пришла к назначенному часу. Саминский купил на рынке цветы, три чайные розы. Софья растрогалась до слезинки…
Провинский театр в своём репертуаре был художественным. Поставленные местным режиссёром пьесы блистали где нужно, выпуклостями, где желательно – провинциальной чувственностью. И не более. Не грешили новаторством или тщетой переосмысления традиций… Актёры играли ровно.
Софья смеялась в нужном месте, в нужном – плакала. Саминский пожимал ей ручки. Без пафоса и чувства.
Так и заладилась одухотворённая жизнь вдали от брошенных столиц. Так и завертелась провинциальная суета суёт.
Событием в провинской жизни Саминского явилось знакомство с… компьютером. Слышать – слышал, пару раз в столице пытался понять алгоритм управления тем, что мелькало на мониторе. Не усвоил и на школьном уровне.
Юрий Якличкин, учёный малый, тискающий в местной газете эзотерические новеллы, как казалось Саминскому, стоил внимания. Не выпадало пути выхода на него. Однако, не бывает ничего случайного: знакомство состоялось на местном радио, куда оба пришли по объявлению о найденных часах. Часы оказались Саминского, которому предложили для объяснений пойти в офис к директору СибНииЦАЯ, расположенному недалеко от экспедиции. Янис не замедлил воспользоваться случаем. Юрий Иванович, как подтвердилось в разговоре, и был автором экзотических газетных публикаций.
На его столе стоял монитор, лежали клавиатура и мышь, которыми новый знакомый виртуозно владел.
– Когда успели познакомиться с кибер… техникой? – спросил Саминский, надеясь затеять разговор об уроках по освоению.
– Так я инженер-электронщик по специальности. Без этого инструмента уже – никуда… Есть интерес? Могу дать пару уроков!
– Это то, на что я втайне надеялся! А где вы учились? У вас уроки платные?
Они быстро сговорились, согласовали дни да часы, и Саминский ушёл.
Готовясь к компьютерному ликбезу, Янис больше сблизился с радио и в местную газету напросился на разговор об Якличкине, человеке, публицисте, директоре филиала НИИ. Однако, в инстанциях ничего путного не рассказали: да, пишет, да работает над аномальными явлениями…
Подробности открылись на первом уроке по компьютеру.
– Это клава, это мышь, монитор… – находясь в благостном состоянии духа, Юрий Иванович приступил к обучению. – А под столом стоит главное – системный блок, железо, в котором много запчастей: блок питания, видеокарта, харддиск… И сердце всего компьютера – процессор, в котором и совершаются все вычислительные операции. Но это вам необязательно помнить. Думаю, вы никогда не узнаете, как работает сердце.
– Не дано?
– Это знание не для пользователей. Пойдём дальше. Клаву мы изучим в процессе. Мышь имеет три позиции пользования: левая и правая клавиши и колесико. Тоже изучим в процессе. А теперь нажмем эту кнопку, чтобы загрузить компьютерную программу. Так называемую операционную систему, ос…
Он торжественно поднял руку. Нажал на указанную кнопку и молча ждал результатов. Компьютер не загружался.
– А-а-а, тох-тибердох… Сетевой фильтр не включил.
На мониторе появилось изображение. Ряды значков на сине-голубом фоне. Картинка завораживала. Саминский почувствовал неодолимое желание счастливо захохотать, как при первом просмотре очередной копии Джоконды. Чувство обретённого счастья…
– Это рабочий стол. На нем лежат иконки инструментов и файлов, с помощью которых всё будем открывать: те или иные программы. Например, ворд, программу для написания текстов. Скажем так, пишущую машинку… Нажмём эту иконку: запомните её раз и навсегда.
Открылась страничка, обрамленная табличными заголовками. Несколько минут Юрий Иванович кликал по ним мышью, объясняя перемены в происходящем. Саминский, к стыду своему, почти ничего не понял. К счастью, Якличкин сказал, что «этого для первого урока вполне достаточно». Показал, как погасить монитор. Затем уступил место Саминскому.
– Ну-с, мил-сдарь, загрузите рабочий стол.
Саминский уверенно нажал кнопку запуска. Стол загрузился.
– Откройте ворд.
– То есть?..
– Ищите пишущую машинку…
Саминский поискал на рабочем столе голубую иконку, схватил мышку и попытался навести её на иконку. Операция оказалась не так проста, как виделась глазами при манипуляциях учителя.
– Быстро нажмите левую клавишу два раза. Тык-тык…
«Пишущая машинка» не открывалась. Саминский, прилагая усилия, нажимал на клавишу, но картинка экрана не менялась…
– Спокойно. Быстро… два тычка точно на иконке… Тык-тык…
Наконец, открылось то, что нужно.
– Нажимайте на любых клеточках. Пробуйте работать мышью: левой, правой клавишами, колесиком… а я пока чаю попью. Вы чай будете?
– Да, если можно. – Саминский пару минут пожумкал мышь в потной руке и, встав из-за стола, принял от Якличкина кружку с чаем. – Н-да, тут тренировка нужна, как в спортзале. Пот выжимает.
Якличкин коротко хохотнул и пригласил жестом на свободный стул.
– Дома есть компик? Ничего, освоите. У вас рука уверенная, крепкая. Гантели жмёте?
– Кистью колонковой набил.
– Вы художник?
– Сейчас геолог. Раньше немного… мазал, как выражаются местные живописцы… Компика нет дома. На работе есть, у Величко.
– Ю гэ? Знаю такую личность. Вместе работали в ОКТП. Такие уроков не дают. А с кем из художников общаетесь?
– Бондин, Терентьев, больше с Крупским.
– Богема местная…
– Вы многих знаете. А чем, если не секрет, ваш НИИ занимается? Какими темами?
– Изучением аномальных явлений в окружающей среде: геопатогенных зон, полторгейстов, НЛО… Всем, что не поддаётся никаким научным умозаключениям.
– Разве казна такое финансирует?
– Вы не первый, кто задаёт такой вопрос! Финансирует. Для пробивки этих тем пришлось много порогов обить. Причём, не самых приятных. Например, фээсбэ, партийных кабинетов… Пока существуем, дальше видно будет.
– И есть предмет, так сказать, для изучения?
– Ежегодно отчитываемся. Недавно мне позвонили из газеты. Приходите, мол, у нас человек с полторгейстом встретился. Прихожу. Сидит дедок. Рассказывает. Сидел у стола. Пил чай. Вдруг с подоконника мимо него… сдвинулся… горшок с цветком. Пролетел строго горизонтально пару метров, завис и упал вертикально вниз. Дед сам чуть со стула не упал. Не может в себя прийти. Работаем сейчас с ним. Или – из театра позвонили… В гардеробе одежда на вешалках зашевелилась, словно её кто одел и вытанцовывает. Да немало экстремальных случаев. Про Аскизский полторгейст слыхали? Или про ртутного человека?
– Впервые про такое слышу? А где можно ваши отчёты почитать?
– Всё под грифом секретно. Но могу дать почитать. Вот это, например… Готовлю тезисы будущего отчёта. В открытом доступе у нас есть, например, запатентованное открытие шонгов…
– Шонков?
– Это шаровидные образования неизвестного генезиса. Нам удалось их зафиксировать на фотоплёнку. Живут среди нас. Вероятно, изучают нас. Возможно, как-то регулируют наши энергетические выбросы. Вы меня извините, уже коллеги пришли. Урок окончен. Приходите по расписанию.