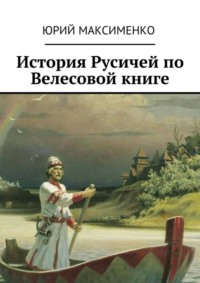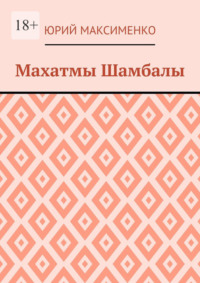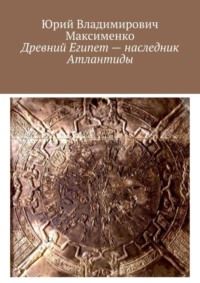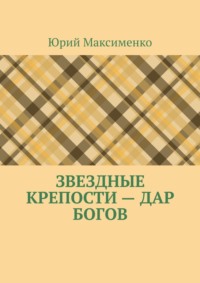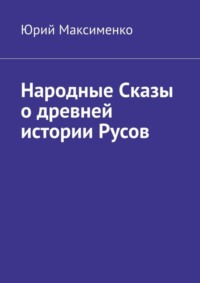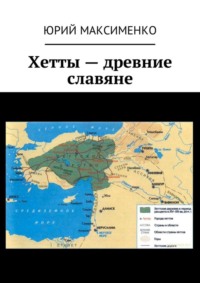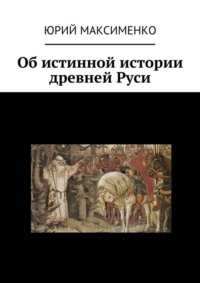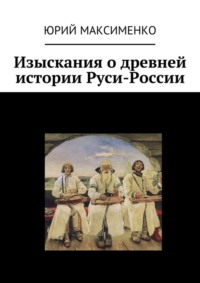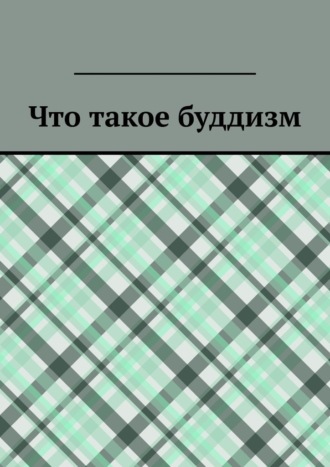
Полная версия
Что такое буддизм
Нет сомнения, что в спорах о последнем пункте, ратоборцами были не только ниргранта, признававшие неизменную душу, под именем дживы, то есть живого, но также и брахманы, утверждавшие творчество праотца Брахмы или пантеистическую идею вездесущего Шивы, но и последователи Капилы, допускавшие дуализм духа и материи, и неизменную, но не действующую душу, а также и последователи Уллуки, допускавшие неизменную и действующую душу. Будда должен был часто встречаться в резиденции государя в Раджагрихе с последователями всех этих школ. По рассказам буддистов он вступал в состязание с ними часто при стечении народа и иногда в присутствии самого государя. К сожалению, нет никаких подробностей о диспутах между Буддой и его антагонистами.
«Труженики» были самые деятельные и самые ненавистные Будде враги. Ни против кого он не вооружался с такою горечью и негодованием, как на этот класс отшельников. Труженики часто называются общим именем ниргранта. Замечательная, но малоизвестная школа ниргранта, судя по некоторым указаниям, отличалась тем, что привела в одну систему разные способы саморазвития, которые могли существовать и независимо один от другого. Для достижение вожделенной цели избавления и освобождения существовали три способа: просвещение ума, созерцание и труженичество. Соединив эти три рода деятельности в одну систему, ниргранта установила полный курс подвижнической жизни, вступающий в неё должен был начать с труженичества, и провести несколько лет в произвольных истязаниях для искоренения чувственных инстинктов. Затем он упражнялся в глубоком и спокойном созерцании, которое должно было замкнуть его душу для внешних впечатлений и приучить её к бесстрастию и, наконец, размышлял об истинах и просвещал свой ум.
Будда прошёл все эти степени, они остались даже и в его наставлениях с тем, впрочем, различием, что труженичество у него заменено хранением нравственных заповедей и соблюдением строгих правил поведения. Надобно полагать, что труженики составляли в ниргранте самый обширный класс, что название ниргранта давалось в буквальном значении свободным от житейского (без оков) всем вообще труженикам. Как бы то ни было, они не составляли секты однородной, они различались между собою и происхождением, и верованиями, и родом труженической жизни. Будда весьма хорошо был знаком с тружениками, потому что несколько лет жил в их обществе, изучил их навыки и узнал тайные побуждения, скрывавшиеся под оболочкою измученного вида. Они не могли простить ему презрения, с каким он оставил образ их жизни, и не упускали случая платить ему за то насмешками и обидами. Со своей стороны, Будда отвечал обличениями и не щадил позорных названий для характеристики их поведения. Приведём здесь одну из сутр, направленных против тружеников.
Действие происходит близ Раджагрихи, в саду, принадлежавшем одной богатой женщине. Толпа тружеников вместе с учителем своим по имени Нягрода наслаждается в тени дерев прохладою. Собравшись вместе, они ведут громкий и оживленный разговор, толкуют о политике, министрах и народных делах, рассказывают о сражениях, колесницах, лошадях и прогулках по садам, судят о женщинах, одежде, кушанье, вкусных черепахах и тому подобных предметах. Во время их беседы подходит к ним Сантана, житель Раджагрихи и почитатель Будды. После взаимных вежливостей, Сантана говорит о неприличии для их звания подобных разговорах и хвалит Будду за его безукоризненное поведение и мудрость. «Откуда нам знать, возражают ему отшельники, о мудрости твоего шрамана Готамы, когда он больше любит молчать, чем говорить с посторонними людьми? Он так привык к уединённой жизни, что похож на подслеповатую корову, которая видит только траву. При всем том, он величает себя великим мудрецом, грозит поразить одним своим словом всех своих противников и сделать их безгласными, подобно черепахам, и не советует никому задевать его, иначе не найдёт безопасного места от его стрел. Пусть придёт он сюда, мы поздравим его с новым названием подслеповатой коровы»!
Действительно, Будда шёл в этот же сад освежиться, после продолжительного созерцания в пещере Гридракуты. Когда он подошёл к толпе тружеников, они забыли свой уговор и, приподнявшись со своих ковров, приветствовали его обычными словами: «Добро пожаловать, Готама, добро пожаловать, шрамана! Давно мы не видались с тобою. Что привело тебя сюда? Сядь с нами и побеседуй“. Будда вежливо принимает приглашение, расстилает свой ковёр и садится на него. Нягрода лукаво заводит речь об учении Будды и просит его объяснить свои начала. „Не спрашивай меня об этом, отвечает ему Будда, моё учение глубоко и обширно, вам не под силу понять его. Что касается ваших правил, я знаю их весьма хорошо и в состоянии оценить их“. Нягрода замечает Будде, что им желательно знать мнение его о правилах их жизни. „Все ваши правила, говорит им Будда, низки и смешны. Иной из вас ходит нагой, прикрывая себя только руками; иной не станет есть из кувшина, или с блюда; не сядет за стол между двумя собеседниками, между двумя ножами, или двумя блюдами; иной не сядет за общий стол и не примет подаяния в том доме, где есть беременная женщина, где заметит много мух, или встретит собаку. Иной не терпит никаких приглашений и ест только до тех пор, пока молчат. Иной не ест из двух сосудов; глотает пищу, не разжевав её, и на седьмом глотке перестаёт есть и не позволяет прибавлять себе пищи более семи раз. Иной ест однажды в день, в два, три дня, и даже в целую неделю. Иной питается одними овощами, отваром риса, коровьим или оленьим помётом, древесными корнями, ветвями, листьями, лесными плодами, или зёрнами. Иной носит платье, накинув его только на плечи, или прикрывает себя мхом, древесною корою, растениями или оленьей кожей, распускает свои волосы или надевает на них волосяную повязку. Иной носит одежду печали; постоянно держит руки вверх, не садится на скамьи и рогожки или постоянно сидит в положении животных; бреет себе голову и оставляет бороду и усы. Иной лежит нагим на колючих растениях или коровьем помете. Иной каждый день или каждую неделю по три раза совершает омовение. Не стану исчислять других подобных средств, которыми вы мучите и изнуряете себя.
Я спрашиваю тебя, Нягрода: «Чисты ли такие правила и образ жизни?» – «Без всякого сомнения, чисты», – отвечает Нягрода. «А я, возражает ему Будда, раскрою перед тобою нечистоту, скрывающуюся в них. Чего ожидаете вы, произвольные труженики, за свои тяжкие труды? Ожидаете он мирян подаяний и уважения и, когда достигнете этой цели, крепко пристращаетесь к удобствам временной жизни, не хотите расстаться с ними, да и не знаете средств к тому. Едва вы завидите издали посетителей, как тотчас садитесь и показываете вид, будто вас застали в глубоком размышлении, но, расставшись с ними, снова делаете, что хотите, прогуливаетесь, или покоитесь на свободе. Заведут ли при вас умную речь, вы никогда не захотите одобрить или подтвердить её; спросят ли вас о чем-нибудь, вы отвечаете презрительным молчанием. Но, как скоро вы заметите уважение мирян к шраманам или брахманам, у вас начинаются возгласы и укоризны: „Зачем, кричите вы, уважать шраманов! Стоят ли они того“! Если вы увидите, что шраман ест плоды от вторичного посева, осыпаете его ругательствами. Когда вам подают грубую пищу, вы, даже и не отведывая, отдаёте её другим; а всякое вкусное кушанье оставляете у себя. Предаваясь порокам и страстям, вы однако же надеваете личину скромности. Нет, не таково истинное подвижничество. Труженичество тогда только полезно, когда под ним не кроются своекорыстные виды».
Враги Будды укоряли его в пристрастии к безмолвию. В этом сознавались и его ученики. «Чем вы хотите заниматься в нашем обществе, спрашивали они желавших поступить в бикши? У нас два рода занятий: любомудрие и созерцание; одни из нас обогащают свой ум познаниями и приобретают навык к диалектике; другие, и первый из них сам наставник наш, предпочитают безмолвие созерцательной жизни». Будда остерегался проповедывать свои взгляды и убеждения, когда его не просили о том, исключая тех случаев, когда события подавали ему повод высказывать свои идеи, или, когда за оказанные ему благодеяния он платил духовными речами, которые большей частью заключали в себе общие понятия добра и похвалы гражданским и семейным добродетелям, и особенно милосердию. Правда, слов Будды при его жизни никто не записывал, все наставления его и обстоятельства его жизни сохранились в устных преданиях, сведением о них мы обязаны счастливой памяти Ананды.
Бесспорно, Будда был одним из самых образованных мудрецов своего времени. Продолжительный навык к суровой жизни не истребил в нем следов хорошего воспитания, полученного им в родительском доме. До наших времён сохранилось довольно буддийских преданий, более или менее достоверных, для того, чтобы по крайней мере приблизительно знать характер красноречия Будды. Из этих преданий мы узнаём, что Будда никогда не колебался в ответах на предлагаемые ему вопросы и всегда был готов наделять желающих наставлениями. Путешествуя по разным странам Индии или беседуя с иноземцами, он объяснялся на языке или наречии их страны. Таким образом, сколько известно, он говорил на языках: магадском, дравидском и млеча. Под первым подразумевается язык, бывший в употреблении в Магадхи, в которой Будда провёл большую часть своей жизни; язык дравидский есть нынешний тамильский. Что касается до млеча, то нельзя точно сказать, язык ли это буддистов страны, лежавшей за пределами Мадхьядеши, которая также называлась Млеча.
Будда был индиец, нравы и навыки его соотечественников оставили неизгладимые следы в духе его учения и дали речам его тот оригинальный и характерный тип, который ясно обозначается в произведениях индийских философов и вообще в индийской литературе. В древних собраниях Будды прежде всего замечается необыкновенная краткость выражений. Сутры суть не что иное, как афоризмы или краткие изречения Будды, заключавшие в себе философские и нравственные положения его учения. Афоризмы Будды сохранили свою краткость и в буддийских преданиях, но уже с присоединением пояснений. Они обыкновенно предлагались в стихотворной форме и состояли большей частью из одной шлоки или стиха. Будда заключил сущность своего нравственного учения в следующем афоризме: не делай зла, делай добро и очищай свою душу. Первые два наставления этого изречения указывают на деятельную часть подвижничества; последнее, то есть очищение души, на созерцание. Своё учение Будда выразил в следующем афоризме: все является от причин и все уничтожается от причин. Размышляя об этом афоризме Будды, Шарипутра убедился в этом и, оставив безнадёжные начала Саньчжая, последователя школы Локаятики, присоединился к Будде.
Большая часть афоризмов Будды облекалась в числительную форму, какую мы замечаем в произведениях и других философов Индии. В те времена, когда сведения хранились и переходили от одного поколения к другому посредством устного предания, числительные формулы были важною помощью для памяти. Такой образ выражения был в большом ходу и в народе индийском. Замысловатые пословицы, насущная мудрость его, носили ту же самую форму. Буддисты сделали всеобщее приложение этой мудрости к изложению учения Будды. Из числительных афоризмов Будды упомянем следующие. «Три печати моего учения: всякое явление скоротечно; ни в чем нет самостоятельности; нирвана есть покой». «Есть четыре способа погребения: в воде, огне, земле и лесу». То есть во времена Будды прах умершего человека или бросали в воду, или, что было всего чаще, сжигали на костре или зарывали в землю, или, и то было нередко, относили в лес на съедение диким зверям.
Бикшу, говорил Будда, не употребляй четыре способа пропитания, ища его внизу, вверху, в странах света и углах. То есть истинный ученик Будды для поиска себе пропитания не должен: 1) заниматься земледелием и приобретать какую бы то ни было собственность; 2) заниматься астрономией и астрологией, наблюдать течение звёзд и планет и объяснять физические явления; 3) льстить и угождать богачам и вельможам; 4) заниматься ворожбою, чарами и предсказаниями. Дело бывает двух родов: полное и половинное. То есть когда человек решится на какой-нибудь поступок, этот поступок имеет все значение совершенного дела, так что осуществление намерения есть дело уже половинное, поэтому в буддийских сочинениях иногда встречается выражение: полтора дела. Под ним надобно разуметь одно и то же дело, намеренное и приведённое в исполнение.
Будда удачно воспользовался поэтическим обыкновением своих соотечественников пояснять и украшать свою речь сравнениями, аллегориями и другими нюансами, которые невольно привлекали внимание к предметам самым сухим, и придавали занимательность обыкновенным вещам. Выбирать сравнения было в Индии искусством и одним из правил диалектики, удачное сравнение было уже доказательством. В речах Будды мы встречаем множество подобных украшений. Некоторые употребляемые им сравнения могут легко остаться непонятными для того, кто совершенно не знаком с природою или обыкновениями Индии. Приведём несколько таких сравнений.
Сердце человеческое, говорил Будда, то же, что слоновые уши, то есть в беспрестанном движении. Бикшу, говорит Будда, подражайте черепахе, которая прячет свои члены в свой ходячий дом, то есть прекращайте созерцанием действие внешних чувств своих и освобождайтесь от гибельного впечатления внешних предметов, подобно тому, как черепаха, выползшая на берег моря, заметив приближение шакала, тотчас скрывает свою голову, ноги и хвост в роговую свою оболочку и тем спасается от зубов хищного зверя. Чистая нравственность, как надутый кожаный мех: повреди его однажды, погибнешь. Здесь речь идёт о плавательных мехах, которые богатые люди и купцы имели при себе во время морских путешествий, в случае кораблекрушения эти меха, надутые воздухом и герметически закупоренные, служили средством спасения мореплавателей. Разумеется, если в меху сделать едва заметное отверстие, то неминуема погибель. Подобно тому, если однажды удовлетвориться порочным наклонностям, уже ни что не может остановить стремления страстей, и человек, оставленный самому себе, безвозвратно погибает.
Будда часто употреблял способ сравнения, как убеждение более действительное, чем все доказательства. Вот пример. Будда решительно отказался обсуждать некоторые метафизические вопросы, занимавшие в его время умы других философов. Собственные ученики его настоятельно просили своего учителя объяснить им: откуда произошёл мир и населяющие его существа; есть ли у них начало, или они безначальны; что ожидает за гробом человека, освободившегося от перерождений? «Подобные вопросы, отвечал им Будда, не имеют отношения к обязанностям шрамана; пока вы рассуждаете об этих предметах, драгоценное время пройдёт и наступит смерть, тогда как вы и не приготовились к ней. Представьте себе человека, раненого в грудь стрелою, его спасение зависит от искусства лекаря, который может легко вынуть из груди это смертоносное орудие. Неужели раненый станет наперёд расспрашивать лекаря и говорить ему: прежде, чем ты станешь вынимать стрелу из груди моей, скажи мне, из какого дерева выточена стрела, какого она цвета, какой птицы перья приклеены к ней, из какого металла её острие? Неужели он станет заниматься подобными вещами, зная, что время между тем проходит и неминуемая смерть грозит ему?
Будда излагал различные мнения других школ о тех же самых предметах. Исчислив эти мнения и представив жаркие споры, возникшие по этому случаю между философами, он прибавляет: «Это напоминает мне одну давнюю историю про слепцов. Один раджа приказал собрать слепых от рождения, сколько их найдётся, и привести к нему во дворец. Воля раджи была исполнена, толпа слепцов приведена во дворец и представлена ему». «Слепцы, спросил их он, какого вида слон?» «Махадева, отвечали ему слепцы, мы слепы от рождения, откуда же нам знать вид слона»? «Хотите ли узнать его»? – продолжал Раджа. Слепцам оставалось благодарить его за такое внимание к ним, и Раджа приказал конюшему вывести на двор одного слона и подвести к нему слепцов. Когда им сказали, что слон перед ними, они приблизились к нему, и каждый из них начал ощупывать ту часть животного, к которой руки его прикоснулись. Один, ощупывая уши слона, находил в них сходство с решетом; другому хобот показался канатом; иным казалось, что клыки походят на колья, голова на колодезную бадью, шея на бревно, спина на конёк крыши, бока на стены, ноги на бревна, хвост на короткую верёвку. Когда слепцы кончили ощупыванье слона, государь снова призвал их к себе и спросил: «Ну, что? Узнали ли теперь вид слона»? «Узнали, отвечал один из слепцов; слон походит на бадью». «Нет, заметил другой он похож на бревно». «Неправда, вскричал третий, он похож на канат». Поднялся шум и крик. Каждый кричал: «слон такого-то вида!» «Верно ли вы знаете, заметил им Раджа, что слон такого вида, как вы говорите»? Вместо того, чтобы признаться в своём невежестве, слепцы, закрыв руками лица свои, начали спорить между собою, сначала тихим голосом, потом все громче и громче, пока наконец дело чуть не дошло до драки. Раджа долго любовался спором слепцов, и, наконец, произнёс им следующий стих: «Толпа людей лишённых зрения! К чему безумно спорить о форме слона, когда вы сами не знаете, кого вы ощупывали».
Закон воздаяний лежал в основании учения Будды. Будда при всяком удобном случае обращался к нему, поощряя учеников своих к добродетели и отвращая их от преступлений. Чёрное, говорил он, отплачивается чёрным и белое белым. Дела, к которым прилагался закон воздаяний, служили коренным началом и не гибнущей причиною всякого существования. Всё происходило от дел. «Мы живём, говорил Будда, рождаемся и умираем, страдаем и блаженствуем, вследствие дел, совершённых нами в предшествующих рождениях. Сумма дел, совершаемых существами, поддерживает существование вселенной со всеми её степенями и разрядами тварей; качество и важность дел существа определяют для него будущую форму рождения. Между делом и его воздаянием бывает несходство, бывает и сродство. Люди порочные, наслаждающиеся в настоящее время удовольствиями, готовят для себя мучение в будущей жизни; кто поклоняется огню и небесным светилам или каждый день совершает троекратное омовение в чаянии будущего блаженства, тому не миновать перерождения животным.
С другой стороны есть люди, ведущие странный образ жизни и надеющиеся за то переродиться в жилище духов; они подражают в жизни животным, собакам, коровам и другим или притворяются немыми. Чем же оканчиваются их труды? Тем, что подражавшие животным или немым в настоящей жизни в будущей делаются действительными животными и немыми. За преступления – мучения; за добрые дела – наслаждения; но надолго ли эти наслаждения? И что за радость влачиться по перерождениям? Длинная ночь для того, кто не спит; длинен путь для утомлённого путника, длинен ряд перерождений, ожидающих неразумного. Нет, истинное успокоение, и блаженство не в перерождениях, а в освобождении от них. Вот к чему должно привести истинное подвижничество, без суеверий и предубеждений. Бикшу! Ты носишь форму человека, форму благородную, в которой только и возможно освобождение от перерождений и которая достаётся в удел существу редко, через тысячи веков. Спеши воспользоваться таким драгоценным даром, прекращая подвижничеством влияние прежних дел и усиленно стремясь к нирване».
При вере в перерождения и в закон воздаяний все события частной жизни, судьба каждого человека, его положение в обществе объяснялись как нельзя лучше; надобно было только одно условие, именно: нужен был человек, который знал бы прежние перерождения свои и чужие. Этот человек нашёлся в особе Будды. Действительно, если верить рассказам буддийских писателей, не проходило ни одного замечательного случая, не осталось ни одного обстоятельства, которого он не объяснил или не оправдал бы предшествующими своими перерождениями. Воспоминания его в этом отношении были неистощимы. Но надобно быть справедливым. Большая часть этих рассказов или вымыслов – суть произведения буддистов позднего времени. Досужее воображение их обогатило буддийскую литературу новым родом сочинений, весьма занимательных, а потому имевших большой ход у буддистов. Что касается Будды, нельзя полагать, чтобы он забавлялся выдумыванием басней или чтобы самообольщение его доходило до убеждения в действительности рассказываемых событий. Всего вернее то, что все подобного рода рассказы, которые можно приписать Будде, он не выдумывал, а брал из народных преданий, и, что известные события давнего времени он сближал с событиями, которых он был очевидцем или участником.
В речах Будды чаще всего поражает нас печальный тон их и безнадёжный взгляд на мир. Мысль, что род человеческий обречён на страдания, принадлежала не одному Будде, можно сказать, что она была общим убеждением индийцев. Будда развил только идею страданий и приложил её ко всему, что имеет какую бы то ни было форму существования, оттого слова его иногда проникнуты суровым аскетизмом, иногда дышат чувством скорби и разочарования, если он обращает внимание на обыкновенные явления физического мира. Афоризмы Будды в последнем роде рассеяны в разных речах его, предмет их большей частью – скоротечность и смерть. «Сложное, говорил Будда, должно рано или поздно рассеяться, рождённое – умереть. Явления исчезают одно за другим, прошедшее, настоящее и будущее постепенно уничтожаются, все скоротечно, над всем закон разрушения. Быстрые реки текут и не возвращаются назад; солнце безостановочно совершает своё течение; человек переходит из предшествовавшей жизни в настоящую, и никакие силы не могут возвратить его в прошедшую жизнь. Утром мы видели какой-нибудь предмет, к вечеру уже не находим его; вчера любовались прелестным цветком, сегодня его не стало. К чему гоняться за гибнущими благами?
Иной употребляет все усилия для того, чтобы достигнуть постоянного счастья в настоящей жизни, но напрасны эти труды – они бьют палкой по воде, думая, что вода, расступившись, останется в таком положении навсегда. Рождённое должно умереть – ни воздух, ни моря, ни горы, ни пещеры, никакое место во вселенной, не скроют нас от смерти. Богатый и бедный, благородный и низкий, равно покоряются смерти; умирают и молодые, и люди средних лет, и младенцы, и даже зародыши в утробе матери; умирают без разбора и срока. Богатства, почести, дети – не помогут: все это земное достояние должно рассеяться и исчезнуть. Мы идём к смерти прямою и верною дорогою.
Тело человеческое, произведение четырёх стихий, есть сосуд, распадающийся на части при первом сильном ударе. В течение всей жизни оно служит источником страстей, волнений и мучений. Наступает старость и с ней вместе являются болезни; старик мечется в предсмертных муках, как живая рыба на горячей золе, пока, наконец, смерть не кончит его страданий. Жизнь тоже, что созревший плод, готовый упасть при первом порыве ветра, каждое мгновение мы должны опасаться, при первом роковом случае течение её прекращается: так исчезают гармонические звуки арфы, когда струны её лопаются под рукою музыканта. Не затемняй же света ума страстями; истинный мудрец тот, кто постоянно размышляет об освобождении из мира страданий, укрощает свои страсти и стремится к нирване. Вот к чему должны быть направлены все наши усилия!
Нирвана есть вожделенная цель для всех. После беспрерывного круговращения в бесчисленных формах существования, после бесчисленных перемен состояний, после всех трудов, беспокойств, волнений и страданий, неразлучных с перерождениями, мы, наконец, свергаем с себя узы страстей, освобождаемся от всякой формы существования, времени и пространства, и погружаемся в покой и безмолвие. Здесь убежище от печалей и болезней, ничем не смущаемое благополучие, нирвана – бессмертие, из неё нет уже возврата».
Вот ещё отрывок о будущем суде, взятый из одного сборника слов Будды. «От Джамбудвипы (северной прародины) далеко на юг возвышаются два хребта гор, огибающих вселенную со всех сторон. Между этими горами царствует вечная и непроницаемая тьма, лучи небесных светил никогда не досягают туда и самый могущественный дух не в силах озарить мрачной пропасти, в глубине её ады и там же судилище Ямы, властителя ада. Люди, грешившие в настоящей жизни, по смерти переселяются в царство Ямы и адские стражи прежде всего представляют их Яме. «Вот, говорят они царю, указывая на грешников, смертные из людей, грешники, которые ожидают твоего приговора». Видя перед собою грешников, сострадательный царь спрашивает их: «Друзья мои! Живя среди людей, разве не видали вы духа старости, разве не слыхали его спасительных наставлений и напоминаний»? «Нет, Махадева, мы не видали такого духа и не слыхали речей его». «Как! возражает им Яма, так вы не видали человека в старости, когда зубы у него выпадают, волосы седеют, кожа морщинится и принимает горчичный цвет, чёрные рубцы расходятся по всему телу, спина горбится, походка делается неровною, ноги с трудом поддерживают тело, голова трясётся, шея делается тонкою, кожа на теле опадает и обвисает, как на шее у коровы, губы, рот, горло и язык высыхают и грубеют, стан искривляется, дыхание слабеет и превращается в болезненные вздохи, голос хрипнет и походит на визжание пилы; дряхлый старик выступает, опираясь на посох; преклонные лета иссушили его кровь и соки; скоро силы оставляют его совершенно, он не в состоянии уже не только действовать, но даже и подниматься с места; на нем уже нет вида человеческого; тело и душа его в постоянном сотрясении и борении. Вы не видали всего этого»? Трепещущие от страха грешники ответствуют замирающим голосом: «Видели, Махадева!» «Если видели, то почему не подумали о том, что и вы состаритесь, что и вас не минует общий удел рода человеческого; почему при виде старости вы не приняли благого намерения посвятить жизнь свою добрым делам для того, чтобы в будущей жизни не испытывать более бедствий старости»? «Увы! мы и не подумали о том, потому что вовсе не заботились о своём избавлении».