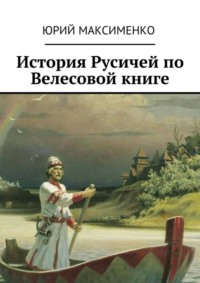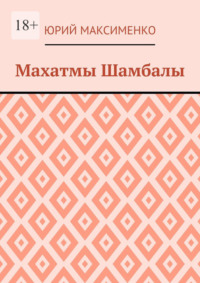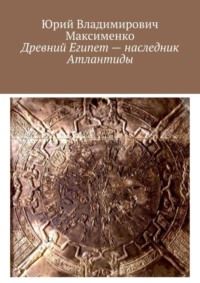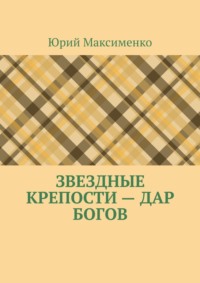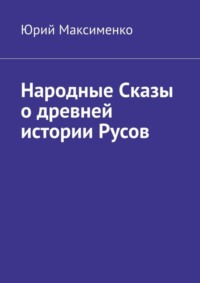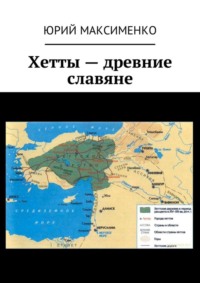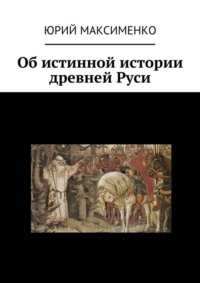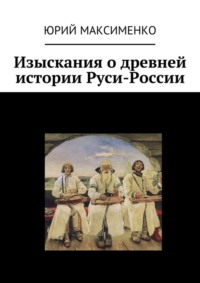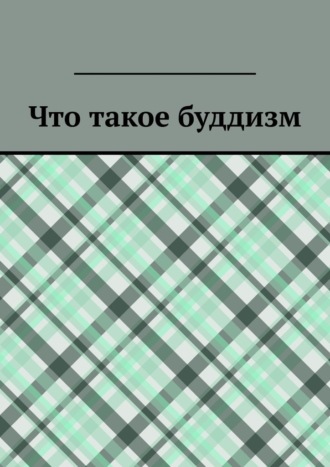
Полная версия
Что такое буддизм
Безукоризненное поведение этих отшельников, их бесстрастие и удаление от мира, исполненного недобрых дел, заслужило им от народа название брахманов, т.е. чистых. С тех пор начался особый класс людей, составивших касту брахманов. С течением времени многие из касты брахманов утратили первобытную простоту и чистоту поведения, им наскучило жить в уединении и заниматься размышлениями, и они променяли пустынническую жизнь на бродячую. Скитаясь по деревням, они делали жителям разные чары и совершали заклинания, и, таким образом, питались за счёт суеверия народа, который называл их своими наставниками. Такой род жизни скоро испортил нравственность этих отшельников и совершенно ослабил строгость их правил.
Наконец, в последние времена, возник ещё особый род анахоретов, известных под именем шраманов. Шраманы также отрекаются от мира, но вместе с тем дают обет вечного отшельничества и в знак презрения к условиям света обривают себе голову и бороду. Подобно другим анахоретам они удаляются от шума человеческих жилищ и проводят жизнь в усердном саморазвитии, но не составляют никакой особой касты. Звание шрамана доступно для кшатрия и брахмана также точно, как для вайшья и шудры.
Судя по всему, брахманы первые основали анахоретичный род жизни, или лучше сказать отшельники были брахманы. Однако, во времена Будды существовал многочисленный класс тружеников, которые не могут быть ни первобытными брахманами, ни скитающимися отшельниками. Итак под именем шраманов надобно понимать всех тех, которые вели подвижническую жизнь не по обязанности своей касты, и следовали аскетическим и философским началам, отступавшим от колеи брахманских преданий. Но так как всякий понимал подвижничество по-своему, то Будда, по духу своего учения, хотел очистить его от брахманских предубеждений и суеверий других отшельников. Своим учением он хотел поставить преграды скептицизму и легковерию, в жизни практической он старался установить строгость правил вместе с простотой образа жизни. Он придавал этому особенную важность. Звание шрамана должно было выражаться во внешнем поведении.
Когда Будда стал во главе значительного числа последователей, он установил образ их жизни, согласно своему пониманию, частью своим примером, частью устными наставлениями. Общество шраманов, устроенное им, называлось сангой, т.е. собранием или братством. Каждый член братства назывался бикшу, т.е. нищий, потому что первый и главный обет, произносимый вновь поступавшим в братство, был обет бедности и неимения собственности. Звание бикшу не только не было позорным от того, что он должен был поддерживать свою жизнь подаяниями других, но, соединяясь со званием отшельника, было предметом глубокого уважения в народе. В те времена даже был спор о том, что важнее: подавать ли милостыню, или принимать её? Совершенное равенство отшельников господствовало в братстве Будды, единственные признаки чиноначалия, существовавшего между членами его, заключались в отношениях младшего к старшему, не по летам, а по времени вступления в братство. Кшатрия или брахман, принявший обеты бикшу после вайшья, должны были во всем и везде уступать последнему первенство.
Негодуя на изуверство и суеверие, господствовавшие в нравах тружеников, Будда не хотел подражать всем их странностям и разнообразным видам произвольных истязаний или необычайному роду жизни их, который привлекал к ним внимание и вместе с тем почтительное удивление народа, но худо скрывал тайное тщеславие и нужду в пропитании, руководившие их поступками. Он поставил для бикшу правилом вести себя со всем должным приличием и строгостью, не нарушая обета бедности, так чтобы наружность шрамана соответствовала важному и серьёзному настроению его размышлений. Никакие посторонние впечатления не должны были расстраивать или развлекать его; выражение лица должно было быть постоянно спокойным, стан – прямым, походка – медленной, приёмы – с достоинством. У каждого бикшу должно быть платье, которое могло покрывать всё его тело. Образцом этой одежды был охотничий плащ, какой носил Будда со времени бегства из Капилавасту. Бикшу часто сшивали его из старых и брошенных лоскутьев, находимых близ селений, но каждый лоскуток они чистили и вымывали для того, чтобы сшитое из них платье, при всей скудости материалов, было чисто и опрятно.
У Будды было много покровителей и данапати, т.е. людей, обязавшихся доставлять ему и его братству средства к существованию, потому ли, что Будда по своему происхождению имел лёгкий доступ к лицам, занимавшим высшие ступени общества, или потому, что он, обыкновенно, прежде всего старался приобрести расположение этих высших лиц. Большая часть его данапати были из раджей мелких владений, правителей городов, вельмож и богачей. Они дарили Будде свои загородные дачи или сады и строили жилища для размещения его братства. Эти дачи, переходя во владение Будды, назывались сангарамами, т.е. садами братства – название, оставшееся навсегда за общежительными убежищами буддийских отшельников. Сангарамамы были вне городов и селений, потому что Будда считал жизнь в них среди постоянного шума и развлечений, несогласной с спокойствием духа и глубокими размышлениями, каких требовало звание шрамана, и поставил неизменным правилом – никогда не иметь приюта в городах или селениях, исключая временного пребывания в них для сбора подаяний или на званных обедах.
Пропитание бикшу зависело от ежедневного сбора милостыни. Ранним утром Будда выходил из сангарамама, окружённый толпой своих учеников, и отправлялся с ними за дневной пищей в город или селение. При входе в него бикшу расходились в разные стороны, каждый со своей нищенской чашей. Правило и пример Будды требовали, чтобы во время сбора подаяний бикшу не забывали сохранять достоинство своего звания, ничем не развлекаясь и ничему не удивляясь. Отказ в подаянии они принимали с таким же бесстрастием, как и богатую милостыню, и просили подаяний, как у богатого, так и у бедного семейства по порядку домов. По обычаю тогдашнего времени они просили милостыни, не произнося просьб и подавая хозяевам свои чаши. Хозяева наполняли эти чаши варёным рисом и возвращали их просителям или подавали им какие-нибудь другие припасы. Получив подаяние, Будда обыкновенно произносил благословение на дом милостынедавца, желал ему и семье его счастья, довольства и здоровья, и весьма часто говорил о пользе милостыни. К полудню бикшу возвращались в сангарамам с запасом набранных подаяний: одна часть их, так по крайней мере требовало правило, уделялась голодным беднякам, если они встречались, другую относили в пустое место для диких зверей и хищных птиц, остальное служило обедом для братства. Пища разделялась между бикшу поровну.
Остальное время дня Будда посвящал беседам со своими приближенными или, что было всего чаще, уходил в уединённое место, в пещеру или под дерево, и здесь, на свободе, предавался любимому занятию своему – созерцанию, сидя с поджатыми ногами и приведя свой стан в неподвижное положение. Так проходил каждый день нищенской жизни Будды, когда он жил вместе с своим братством. Бикшу не должны были иметь в запасе не только пищи, но также и одежды. У кого из них случалась нужда в ней, тот шёл собирать материалы для неё в селение. Если нужны были ему новые сандалии или нитки на починку ветхого платья, он опять шёл за ними в селение. Одним словом, бикшу каждый день своей жизни должен был зависеть от доброхотных подаяний.
Год у индийцев разделялся на три времени: зиму, лето и осень. Зимой Будда, большей частью, жил в обществе своих учеников и на одном месте, чаще всего близ Раджагрихи и Шравасти. С наступлением лета, когда в Мадхьядеше начинались периодические дожди, Ганга и другие реки выступали из берегов и сообщения между городами и селениями делались чрезвычайно трудными, Будда распускал бикшу в разные места на летнее жительство для того, чтобы избежать скудности и недостатка в пропитании для многочисленного его общества и чтобы облегчить милостынедавцев, которые сами жили летом заранее приготовленными припасами.
Каждый бикшу выбирал для себя какую-нибудь деревню и, поселившись близь неё, целые четыре месяца проводил в этом уединении, не видясь с своими собратьями. Будда также уединялся на это время, иногда вместе с одним учеником. По истечении четырёхмесячного уединения, называемого летним сидением, бикшу снова собирались в одно место, куда приходил и Будда. Всякий из них спешил рассказать о своих успехах в духовном саморазвитии во время одинокой жизни, посвящённой созерцанию, или просил у Будды разрешения трудных вопросов по части нравственности или созерцательного учения.
В осеннее время, начинавшееся с окончанием летнего сидения, братство Будды расходилось партиями бродить по Магадхи и Косале. Будда чаще всего посещал Шравасти, в окрестностях которого у него был дарственный сад, Джетавания, а также ходил к разным городам Магадхи, Косалы, Мадуры и Уджджаяни и даже в Андру, находившуюся в средине-южной Индии, и Калингу, занимавшую часть Коромандельского берега, но не более трёх или четырёх раз посещал свой отеческий, но не гостеприимный город Капилавасту.
Ни по образу и роду жизни Будды, ни по обстоятельствам, сопровождавшим появление, подвиги и смерть его, ни по древним преданиям нельзя заключить, чтобы он переступал границы собственно Индии из прозелитизма или по другим каким-нибудь причинам. О восточной части древней Индии у буддийских писателей ничего не говорится долгое время и после Будды. Из государств южной Индии о немногих упоминается в древних буддийских сочинениях, а из островов южного моря Цэйлон, с которого впоследствии буддизм распространился на другие острова и даже в Сиам и Бирму, который во времена Будды обнаруживал признаки ещё только начинающейся образованности.
Гималаи служили естественной границей Индии с севера. За этим хребтом гор воображение и тёмные предания индийцев помещали баснословные и чудесные страны, ограждённые от любопытства путешественников дикими горцами. Запад и северо-запад от Индии всего более известны были у древних буддистов: в сочинениях упоминаются Паньчала (Пенчжаб), Махачина (Персия), Капина (Кашмир и Кабул), Бахлика, народ, населявший страны от Балха на север и, наконец, Кусатана (Хотан), но все эти имена стран и городов сделались известными для буддистов уже во втором веке по смерти Будды, а некоторые и позже.
В сказаниях о временах более отдалённых нет никакой возможности отыскать признаки сношений древних индийцев с заграничными странами на западе и северо-западе. Существующие ныне у буддистов предания о странствованиях Будды в такие государства, которые образовались уже после него, к народам, появившимся в позднейшие времена – не более чем умышленные рассказы индийских буддистов, желавших польстить тем народам, или туземных прозелитов, которые хотели почтить своё отечество посещением Будды. Подобные предания доводили Будду до подошвы Алтая. По уверению беспристрастных буддийских писателей, Будда, исключая посещений Шравасти и других городов Индии, почти всю жизнь свою провёл в Магадхи, потому, прибавляют они, что эта богатая и счастливая страна в его время была убежищем для жителей других стран, опустошаемых язвой, голодом, или войной.
Скитаясь по Индии значительную часть года, Будда, судя по всему, не увлекался духом распространения своего учения, скорее можно думать, что он следовал только своему навыку к страннической жизни или не желал для своего общества оседлости, которая могла вредить простоте и строгости установленного им уклада жизни. Может быть также перемена мест часто вынуждаемая обстоятельствами, о которых не дошло до нас сведений. Несмотря однако же на скромность и осторожность Будды в проповедании своего учения и правил, духовное общество его с течением времени значительно увеличилось. По общему уверению буддийских писателей, число бикшу простиралось за тысячу. Причины такого приращения учеников Будды легко объяснить. Будда пользовался покровительством многих знаменитых лиц того времени и предлагал в своём братстве безопасный и безбедный приют для несчастливцев и бедняков. Людям, желавшим разрешить занимавшие их философские вопросы, он предлагал свои метафизические взгляды и анализ существования. Кто искал строгих и чистых правил практической жизни, находил их в наставлениях и примере Будды.
Таким образом Будда приобрёл себе весьма много людей, известных по своему уму, образованию или безукоризненному поведению. Из них особенно замечательны были: Махакашьяпа, пользовавшийся предпочтительным уважением Будды за свой суровый аскетизм; Субути, метафизик; Монгальяма, отличавшийся историческими познаниями и совершенствами в созерцании; и, наконец, Шарипутра, самый учёный и, как говорят буддисты, самый красноречивый истолкователь идей Будды. Имя Шарипутры и его трактаты, переходившие по преданию, в последующие времена произвели между буддистами немало споров, в сочинениях его находили даже ересь. Однако же при жизни Будды он был в большом почёте у всего братства, хотя, присоединившись к Будде, он долгое время сохранял светское звание. Нередко он вступал за Будду в споры с последователями других школ Индии и даже заступал его место в поучении бикшу.
Урувилва, Кашьяпа, Махакашьяпа, Монгальяма и Шарипутра присоединились к Будде, каждый имея своих учеников, поэтому прямых и непосредственных последователей его сначала было весьма мало. Уже в одно из своих посещений Капилавасту, он приобрёл себе новых учеников из своих сородичей. Судя по рассказу буддийских писателей, Будде оставалось только произносить: «Сугата!» (добро пожаловать). Этим словом Будда принимал и утверждал в звании бикшу шакьяпутр, которые наперерыв спешили принять обеты отшельничества. Эту страсть к отшельничеству, овладевшую вдруг сородичами Будды, не иначе можно объяснить, как расстроенным и близким к совершенному разрушению состоянием племени шакья.
При этом необходимо сделать два замечания. Первое о том, что, вопреки рассказам буддистов, подобное событие могло совершиться только уже по смерти Шуддходаны, который не благоприятствовал отшельничеству и просил Будду не принимать в общество бикшу молодых шакья, не получивших позволения на то от своих родителей. Второе, в то время были обстоятельства, о которых не дошло до нас сведений, потому что не все шакья, принявшие обеты бикшу, добровольно согласились на такую важную перемену в образе жизни. Некоторые из них сделались бикшу по жребию, другие насильно.
Будда усердно содействовал обращению своих сородичей в шраманы: все двоюродные его братья вступили в его общество, за исключением одного Маханамы, который противостоял всем убеждениям и остался при своём княжеском достоинстве. Будда насильно заставил вступить в общество бикшу родного своего брата Нанду. Нанда был сын Шуддходаны и Праджапати, старшей сестры матери Будды, Махамайи. Он принуждён был покинуть молодую жену, и, страдая от разлуки с ней, несколько раз пытался бежать из братства Будды, но всякий раз неумолимый Будда возвращал его назад. Из двоюродных братьев Будды более других известны Девадатта, прославившийся ненавистью к Будде, и Ананда, брат Девадатты, любимый ученик Будды, не расстававшийся с своим наставником до самой его смерти, однако же не отличавшийся строгой нравственностью. По причине его соблазнительного поведения, буддисты последующих времён, когда хотели представить речь Будды против проступков, поводом к тому весьма часто выставляли Ананду.
Пример молодых князей, сделавшихся бикшу, подействовал и на женщин. Праджапати, иначе называемая Готами, заменившая для Будды мать. Когда Махамайя скончалась через несколько дней после родов, она пожелала оставить мир и вести жизнь подобно своему питомцу. Она была основательницей общества бикшуни. Бикшуни жили отдельно от бикшу, но в образе жизни нисколько не отличались от них. Бикшуни было немного, и, как можно думать, все они происходили из племени шакья. Кроме Праджапати из бикшуни более других известна Утбала, отличавшаяся красноречием. Она вступила в состязание с одним брахманом, принадлежавшим к школе Локаятики, и удачными сравнениями доказала ему бессмертие души. Однако же не все смотрели благоприятно на учреждение звания бикшуни, потому что положение женщины в индийском обществе было унижено, и считалось незаконным допускать слабые существа в сонм подвижников.
Других примеров подобного общества в Индии не было, если не считать за бикшуни йогин, волшебниц, чтивших Шиву и, неизвестно с какого времени появившихся в Индии. В последующие времена, когда буддийские общества далеко уклонились от первобытной простоты и чистоты нравов, строгие буддисты приписали этот упадок учреждению общества бикшуни.
Буддисты напрасно стараются изобразить жизнь Будды блистательными красками. Множество фактов и указаний, неумышленно помещённых в их сочинениях, свидетельствуют, что она полна была тревог и досад. Можно сказать даже, что только личный характер его и покровительство высоких особ ограждали его честь и безопасность. Нет никаких сомнений, что у него было много врагов и завистников. Буддисты не сохранили подробностей об этой тёмной стороне жизни Будды, вероятно, из уважения к его памяти. Враги его причинили ему много беспокойств, но именно он поставил себя во враждебные отношения к другим, кто были самыми неутомимыми его антагонистами.
Будда не принимал на себя роли политического преобразователя, напротив, всё доказывает, что он смотрел на устройство современного ему общества, укреплённого веками, как на естественный порядок. Разделение по кастам также было, как говорил он, законным. Понятие его об этом предмете весьма хорошо изложено в сутре о происхождении каст. Восходя «к первобытному состоянию рода человеческого, к тем временам, когда плодотворная земля без трудов и усилий человека приносила ему плоды и хлеб».
Далее говорится в сутре: «Небрежность и алчность людей ослабила естественную растительность земли и до того наконец истощила производительные её силы, что заставила их самих трудиться и работать для своего пропитания. Люди стали заниматься земледелием. От этого произошло разделение обрабатываемой земли на участки между земледельцами, каждый из них приобрёл земельную собственность. Однако же это разделение полей не для всех было источником довольства и безопасности. Наряду с трудолюбием и прилежанием явилась лень; лень произвела недостаток, бедность, голод; с сих пор между земледельцами возникли распри, жалобы, похищения. Благоразумие заставило, наконец, искать действительного средства для пресечения зла. Люди согласились просить самого умного, опытного и сильного человека разбирать тяжбы, защищать правого, наказывать виновного, изгонять из общества злодеев и своей властью и мудростью обеспечить народное благоденствие. Так как следовало обеспечить содержание избранного главы, то каждый владелец поля отвёл в принадлежащей ему земле особый участок, урожай с которого он обязан был доставлять избранному главе, который таким образом владел известным участком во всех полях, отчего его привыкли называть кшатрия, то есть владетелем полей (кшатра – поле). Впоследствии высокое положение кшатрия в обществе, его власть, сан и доблести приобрели ему название раджи, то есть блистательного (раджа – луч). По мере того, как число людей возросло, новые потребности образовали новые сословия вайшья и шудра, то есть промышленников, купцов, художников и ремесленников: между тем, как некоторые люди, поражённые несчастьями или склонные более к духовным размышлениям, чем к гражданской и семейной жизни, бежали в пустыни и составили особый класс анахоретов, известных под почётным именем брахманов, то есть чистых».
Объясняя таким образом происхождение каст, Будда, естественно, ставил касту кшатрия выше других сословий и необходимой в благоустроенном государстве. В подтверждение своего взгляда, он ссылался на сами брахманские предания. Известен стих, приписываемый самому Брахме: «Каста кшатрия высокопочтенна среди людей и возносится выше прочих каст; украшенная доблестями и умом, она уважается на небе и земле».
Что касается брахманов, то Будда ограничивал важность и значение их касты. Брахман был достоин уважения, когда он сохранял первобытную чистоту нравов и удаление от света. Такое ограничение притязаний брахманов не могло остаться без возражения с их стороны. Несколько обличительных речей Будды против предубеждений брахманов можно считать ответами его на их полемические выходки.
Брахманы не только поставили свою касту выше других каст, но, по приписываемому себе происхождению, считали своим уделом нравственную чистоту. Посягательству брахманов на исключительное превосходство с духовной стороны Будда противопоставил опровержение происхождения их от Брахмы, так что брахманы, теряя важность своей касты в историческом происхождении, какое назначил им Будда ничего не выигрывали и для своего духовного значения.
«Брахманы, говорит Будда, величают свою касту достойной почтения и ставят её выше других каст. Наш род, говорят они, чист, а другие и черны, и темны. Мы происходим от Брахмы, мы рождение уст его, оттого чисты в настоящем и будущем веке. Что касается до меня, я бикшу, и у меня нет каст, нет и непреклонного самолюбия и гордости брахманов – это обычай света, а не мой. В мире для всех один закон: за прегрешения – грозное возмездие, за добродетель – блаженное воздаяние. Если бы этот закон миновал брахманов, если бы они избавлены были от бедственных следствий прегрешений и им только предоставлены были блаженные воздаяния, то они в праве были бы гордиться своей кастой. Но закон воздаяний неизбежно распространяется на всех, без исключения. Недоброе отплачивается недобрым, и чёрное чёрным, так точно, как за чистым следует чистое и за белым белое. Посмотрите на брахманов: они женятся, наживают детей, одним словом, ничем не отличаются от обыкновенных смертных и при всем том величают себя чистыми. Нет, не таковы ученики мои. Моё учение лучше, потому что истинно».
Впрочем не надо представлять себе будто Будда считал своим призванием преследовать предубеждения брахманов. Нет оснований думать, что он считал чрезвычайно важными их притязания, или, чтобы они постоянно тревожили Будду нападениями или преследованием. Дело в том, что в его время брахманы не составляли цельного и устроенного общества, которое могло бы единодушно защищать свои интересы. Одни из них занимали почётные места в обществе и, увлекаясь духом честолюбия или наслаждаясь удовольствиями, мало обращали внимания на приписываемое себе происхождение из уст Брахмы, некоторые из них были друзьями и данапати Будды. Другие составляли свои философские системы и уклонялись от брахманских преданий. Были из них и такие, которых сам Будда уважал за строгую и безукоризненную жизнь. Брахманы, имевшие повод вступить в борьбу с Буддой, были теми отшельниками, которых Будда называл бродячими и уклонившимися от первоначального своего рода жизни. Они назывались шраваками, это, собственно, означает слушателя и весьма часто встречается и у буддистов, но у последних так называется всякий, внимавший наставлениям Будды. Шраваки брахманов имели особенное значение. Из трёх направлений, или общих школ, разделявших во времена Будды учёный мир, то есть школы философской, школы созерцательной и школы преданий, они принадлежали к последней, то есть безусловно верили и следовали тому, чему учило их письменное или устное предание, которое заключалось для них в ведах, оттого они назывались также изучающими или чтущими веды.
От них шраваки черпали понятия о мире и человеке и заимствовали сказания о миротворении и происхождении существ и вместе с тем предубеждения в пользу касты брахманов. Но во времена Будды шраваки большей частью ограничивались изучением в ведах только тех предметов, которые имели связь с верованиями и суеверными привычками народа: гадание и астрология. По роду своей жизни и необходимости питаться за счёт народа, они были соперниками Будды и имели все причины негодовать на его обличения, которые, опровергая происхождение их от Брахмы, могли отнять у них хлеб.
Когда дело идёт о переворотах, какие хотел произвести Будда в религии индийцев его времени, обыкновенно упоминают религиозные обряды и особенно кровавые жертвы. Это требует некоторых замечаний. Действительно, Будда отверг все обряды индийских религий, как недействительные и ненужные, потому что он все средства к саморазвитию сосредоточил в чисто нравственной деятельности человека. Что касается кровавых жертв, то Будда восставал против обыкновения приносить в жертву животных потому, что по его учению всякое убийство есть одно из самых важных преступлений, и что зло, заключающееся в убийстве, в десять раз отплатится убийце. Однако же Будда редко упоминает об этих жертвах, и помещает их наряду с другими обрядами. Это равнодушие Будды не иначе можно объяснить, как только тем, что жертвоприношения животных не были повсеместны в Индии.
В буддийских сочинениях часто упоминаются шесть учителей или шесть сектаторов8, в качестве постоянных антагонистов Будды. Это были философы, оспаривавшие у Будды теоретические начала его учения. Некоторые из них, если не все, были известны при дворах тогдашних государей и пользовались их вниманием. Большая часть их принадлежала к школе Локаятики, другие имели свои мнения, которые трудно приписать какой-нибудь школе. Те и другие вооружились против учения Будды: локаятики, защищаясь от ударов, какие наносил им Будда учением о причинах; другие философы, восставая против положения Будды, отвергавшего существование самостоятельной и неизменной души в человеке, или в мире. На положение о существовании «я» он нападал сильно и постоянно, существование «я» преимущественно возбуждало диалектику Будды.