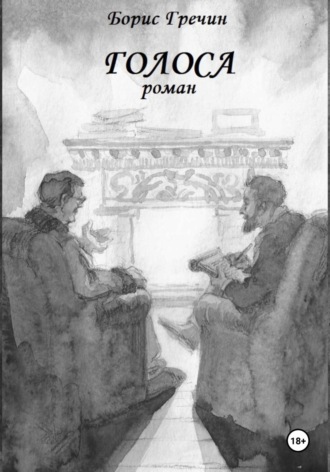
Полная версия
Голоса
Мы, разумеется, не считаем мадам Кшесинскую единственной виновницей деградации государственного управления, совершившейся из-за смены власти в нашей стране, это было бы reductio ad absurdum22, но часть вины за народные страдания, безусловно, лежит и на ней. Ваша честь, я закончил.
КЕРЕНСКИЙ (назидательно). «Господин судья», Павел Николаевич, «господин судья», или даже «гражданин судья», давайте отучаться от старых привычек и языка раболепия… Я горжусь званием гражданина, единственным, которое сохранила революция! Благодарю! Слово предоставляется защитнику.
РОЗАНОВ (встаёт). Граждане свободной России, я не юрист, и поэтому с некоторой робостью приступаю к судоговорению в этих стенах. Но даже мой дилетантизм в вопросах юриспруденции не препятствует мне обнаружить очевидные изъяны в речи обвинителя. Павел Николаевич допускает не одну, не две, а целых три ложных посылки. Эти посылки тянут за собой одна другую, вроде вереницы слепцов, что держатся каждый за плечи идущего впереди, и все эти слепцы падают в яму.
Начнём с первой. Обвинитель утверждает доказанность плотской связи, ссылаясь на личный дневник Государя…
КЕРЕНСКИЙ. Что значит «Государя», что за слово?! Революция смела эту династию как ветхий мусор!
РОЗАНОВ. Александр Фёдорович, вы не можете протестовать против того, что в нашей русской истории был последний Государь, как вы не можете протестовать против того, что вода замерзает при нуле градусов Реомюра. Вы хотели бы отменить саму историю? О, вы – хотели бы…
КЕРЕНСКИЙ. Настаиваю на уважении к новому демократическому суду.
РОЗАНОВ …Государя, говорю я. Как, любопытно знать, попал вам в руки этот дневник, и насколько это честно – судить кого-либо на основе его личных, сокровенных записей, не предназначенных для чужих глаз?.. Запись, на которую ссылается обвинитель, звучит дословно так – разрешите процитировать… (Читает.) «Вечером полетел к моей М. К. и провел самый лучший с нею вечер до сих пор. Находясь под впечатлением её – перо трясется в руках!» И вот на отношении этого пера, которое трясётся в руках, Павел Николаевич делает вывод о том, что отношения перешли известную грань. Да как же вам – да как же вам не стыдно! Господин обвинитель, господа, виноват, граждане присяжные заседатели, да были вы когда-нибудь влюблены со всей энергией юности, до того, чтобы холодели руки и перехватывало немотой горло? Или вы сразу родились с холодным развратом в сердце и профессорской степенью в кармане, чтобы читать эти строки юного человека обязательно таким вот медицинским, физиологическим и пошлым образом?
Что же до «авторитетных зарубежных источников», то Павлу Николаевичу вовсе бы лучше на них не ссылаться, а то всякий раз, как он начинает это делать, выходит позорный конфуз: вот вроде цитаты из той помоечной австрийской газетёнки, как её там, Neue Freie Presse, обвинившей Государыню Александру Фёдоровну в связи с немецким генштабом, лживой цитаты, которую вы ничтоже сумняшеся огласили на всю страну с думской трибуны первого ноября шестнадцатого!
МИЛЮКОВ. Протестую, это не относится к делу! Я был охвачен известным полемическим задором, да и сложно было тогда разобраться…
РОЗАНОВ (кивая). Но ведь после вы даже в ваших воспоминаниях, как честный человек, как мужчина, так ни разу открыто и не повинились?
КЕРЕНСКИЙ. Защитник, держитесь сути вашей речи! Это не Павел Николаевич сегодня на скамье подсудимых.
РОЗАНОВ. Как угодно! Тот самый «авторитетный» источник, что использует слово consummated, пошлое буржуазное словечко, тоже ведь должен на что-то ссылаться, разве нет? И он ссылается – на что, как вы думаете? Да на всё тот же дневник нашего несчастного Государя, на эту, вообразите, «дрожащую руку»!
МИЛЮКОВ. Василий Васильевич, при всём уважении, зачем снова «Государя», зачем вы машете красной тряпкой перед нашим носом и упорно настаиваете на этом слове применительно к господину полковнику Романову? Оно даже юридически нелепо!
РОЗАНОВ. Но я беру пример с вас, Павел Николаевич! Это ведь вы первый здесь в зале суда заговорили о Помазании, тем самым превращая его в юридическую категорию. А Помазание, милостивый государь, есть таинство, каковое таинство не может быть уничтожено хоть сотней манифестов или решений Петросовета! Помазанника, так и быть, что почти одно и то же. «…Дрожащую руку», говорю я, итак, Фома ссылается на Ерёму, а Ерёма на Фому, младший хоронится за старшего, а старший за младшего, и вот вся слава и всё дутое значение ваших так называемых «авторитетных» источников! Как и большей части всей современной учёности, впрочем.
МИЛЮКОВ. А я в вас, Василий Васильевич, всегда подозревал методологический анархизм с таким душком даже мракобесия!
РОЗАНОВ (отмахивается от него рукой). Но продолжим. Связь не доказана. Да и то, женщина, интимный дневник которой вы сегодня бесстыдно вытащили на Божий свет, в этом самом дневнике от восьмого января [тысяча восемьсот] девяносто третьего пишет следующее – простите меня, Матильда Феликсовна… «Ники… теперь вдруг говорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь. <…> Я готова была разрыдаться». Замечу на полях: где вы видите слабую и безвольную натуру? Эта «слабая натура» выстояла против того, против чего далеко не каждый мужчина выстоит. Хотел бы я вас, Павел Николаевич, поставить в такое же положение да посмотреть на вашу стойкость… Да, уже знаю, что скажете вы и вслед за вами целый хор современных собакевичей: «Поскольку все люди физиологически одинаковы, а я бы не упустил своего, следовательно…» Нет, не следовательно: вашу пошлую логику одинаковости всех людей я не принимаю и не приму никогда. Но сделаю, так и быть, допущение в её пользу, хотя бы в порядке умственного эксперимента. «Предположим на одну минуту», как говорил господин Фетюкович, что «он действительно схватил медный пест…»
КЕРЕНСКИЙ. Вы увлекаетесь, Василий Васильевич: при чём тут вообще медный пест? Фаллицизм вашего образа, конечно, ясен…
Сдержанный смех среди присяжных и свидетелей.
РОЗАНОВ. Допустим на минуту существование плотской связи. Что же из неё следует? Грех, любодеяние, осознание своей порочности, недостоинства, надломленная воля и все прочие ужасы. Так по-вашему?
МИЛЮКОВ. А по-вашему как?
РОЗАНОВ. А по моему – конкубинат.
МИЛЮКОВ. Что?! Конкубинат?
РОЗАНОВ (уверенно). Именно так, конкубинат. Законная и юридически невозбранная связь с постоянной наложницей. Матильда Феликсовна, извините меня ещё раз…
МИЛЮКОВ. А кто вам сказал, что канувшая в Лету власть признавала конкубинат?
РОЗАНОВ. А кто вам сказал обратное? Это вы ведь, господа думские и прочие интеллигенты, все стрелы своего красноречия направляли в адрес самодержавия, то есть, по-вашему, абсолютной автократии! Но будьте же последовательны: если власть Монарха ничем не ограничена, то, конечно, она может учредить и конкубинат.
МИЛЮКОВ. Какого монарха, если Романов в девяносто третьем был только наследником?!
РОЗАНОВ. Я про его царственного отца, Государя Императора Александра Александровича. Ведь он обо всём прекрасно знал, судя по приставленным к Цесаревичу полицейским агентам. Знал – и позволил. И своим позволением, гласным или негласным, он…
МИЛЮКОВ. …Учредил конкубинат? Странная, даже извращённая логика.
РОЗАНОВ. Не более странная, чем ваше странное и даже извращённое желание в «дрожании пера в руке» видеть некий положительный признак плотской связи. Моя же логика – вовсе не странная, а ясная, простая и понятная.
МИЛЮКОВ (неуверенно). В любом случае, Церковь не оправдывает конкубинат.
РОЗАНОВ (живо). Но и не осуждает его, по крайней мере, не приравнивает к любодеянию! Хорошо, не конкубинат – назовём это временной помолвкой, если вам это больше нравится.
МИЛЮКОВ. В церковном обиходе нет никакой временной помолвки.
РОЗАНОВ. Ах, батенька, в церковном обиходе много чего нет, что никоим образом не противоречит священному преданию и что давно уже можно было бы учредить, верней, вернуть! Вот, в частности, отец Александр Устьинский в своём письме от второго мая пятнадцатого мне убедительно разъяснил, что во времена земной жизни Спасителя не то что конкубинат – многожёнство у евреев было обычным явлением! Между тем, мы не слышим из уст Христа ни тени обличения этого обычая. А где же, скажите, многожёнство в современном церковном обиходе? Поэтому не ссылайтесь мне в этом вопросе на церковный обиход: Церковь слишком уж осторожна, желая из фальшиво понятого благочестия быть святей самого Христа.
А теперь – ваша третья посылка: из греха якобы происходит невозможность спасения. Вы, дорогой мой Павел Николаевич, не знакомы с учением Церкви о грехе и не знаете, что таковая невозможность следует из одного только злостного упорствования во грехе. Вы незнакомы, говорю я, и никогда не потрудились ознакомиться. В вашем профессорском, немецко-рациональном уме вся Церковь и весь путь к спасению видятся как некая музыкальная табакерка, где поворот заводного ключика с железной необходимостью приводит ко вращению вала со штырьками и касанию именно тех, а не других металлических пластин. Ваша логика атеистична, безблагодатна и, под видом псевдопопечения о церковности, антирелигиозна!
МИЛЮКОВ (принимая оскорблённый вид). Кажется, я никогда в своей жизни не давал основания обвинить меня в оскорблении христианских святынь!
РОЗАНОВ. О, да при чём здесь оскорбление святынь! Можно ведь и в сердце православного монастыря, облачась в схиму, быть равнодушным атеистом. Можно даже быть фанатиком-изувером – и равнодушным к сути своей религии атеистом: эти два состояния никак друг другу не противоречат. Мы с вами говорим на разных языках, милостивый государь, и никогда ни о чём не договоримся… (Обращаясь ко всем.) Господи, какое колоссальное лицемерие! Вот, были некогда два юных и красивых существа, эти существа любили друг друга со всем жаром первой любви. А мы чистый полудетский роман этих существ вынесли на коллективный суд, копаясь в их письмах и дневниковых записях, стремясь разглядеть под лупой, не совершили ли эти двое чего-то, что потом осудят злобные приходские кумушки, высохшие от своего насильственного, недобровольного целомудрия! Какой позор всем нам! Стыдно, господа, стыдно! Александр Фёдорович, я закончил. (Садится.)
КЕРЕНСКИЙ. И то, мы уж дождаться не могли! Подсудимая, встаньте! Вам предоставляется последнее слово.
КШЕСИНСКАЯ (встаёт). Здесь уже так многое было сказано, и почти всё – неправда. Какое, действительно, позорное обвинение! Неужели вы думаете, что я могла бы… Нет! Я действительно ничего не могу объяснить – ни вам, господин Милюков, ни людям вроде вас. Ваше поведение напоминает мне большевиков, которые, захватив мой особняк, перерыли вверх дном все шкафы и комоды, роясь в интимных деталях моего туалета, чуть не примеривая их на себя. Чтó, скажете, они и там искали символы самодержавия? Может быть, оружие? Несуществующие расписки, которые я будто бы получила от фабрикантов? Один Василий Васильевич понял меня, за что ему спасибо, но и его мне было тяжело слушать. “Часть вины и на ней”, – сказал сегодня прокурор. Может быть, но тогда виноваты мы все, и вы не меньше моего. О, как я жалею, что не сберегла последнее письмо Государя! Я прочитала бы его вам, и вы бы увидели, что он не только не упрекает, а благодарит меня за светлые минуты своей юности! Разве мог бы грешный человек написать бы такое письмо, такими словами? Простите. (Садится, закрывая лицо руками.)
КЕРЕНСКИЙ. Прошу присяжных заседателей удалиться на совещание для определения вердикта.
[21]
– Присяжные удалились в угол аудитории и там, немного пошептавшись, вынесли вердикт:
«Невиновна!»
Кажется, три-четыре человека, включая меня, встретили это объявление сдержанными поздравительными аплодисментами.
«Керенский» не знал (не знала), что ему делать, и поспешил(а) объявить о том, что заседание закончено, таким образом опустив официальное оглашение приговора. Никто, впрочем, даже и не подал виду.
Участники суда разбрелись по аудитории, с удовольствием выдохнув от напряжения эксперимента, улыбаясь и переговариваясь.
«Я так и знал, что у нас не получится достоверно следовать всем нормам судоговорения, – заметил Альберт. – Неизбежно возникают сомнения в реалистичности такого суда».
«Тю! – откликнулся Кошт. – То есть то, что Керенский, Милюков и Розанов судили Кшесинскую – здесь у тебя сомнений в реалистичности не возникает? Это, по-твоему, высокий реализм? Странный ты человек, Фёдор». «Фёдором», видимо, стало имя Штейнбреннера, которое Марк всё склонял так и сяк, и наконец уж полностью переиначил на русский лад. Ну да, от «Фрэдди» до «Фреди» и от «Фреди» до «Фёдора» уже совсем недалеко.
«Вы молодцы, – объявил я, и разговоры стихли. – Всё было достоверно, реалистично, со знанием дела, с погружением в материал. Марк – очень грамотно: про Петроградский трубочный завод, про то, что взрыватели были “узким местом” снарядного снабжения, я, например, и сам не знал, вернее, не держал в голове. Правда, уж больно хорош вышел этот ваш Гучков, не чета настоящему…»
«За сто лет он мог и поумнеть, Андрей Михалыч», – отозвался Кошт.
«Может быть, – согласился я. – Сбивание генеральского адъютанта на “старорежимные” формы речи, на “ваши высокопревосходительства” вместо “граждане” – тоже своего рода находка. Ада – отлично. Альфред, то есть господин Милюков, – выше всяких похвал!»
«Всё же это была неравная борьба, Андрей Михайлович, – заметила мне Ада со сдержанной улыбкой. – У вас с Альфредом разные весовые категории».
Я шутливо поднял обе ладони вверх, соглашаясь:
«Может быть, может быть, хотя мне не показалось это лёгкой победой, я боролся изо всех сил! “Матильду Феликсовну” тоже хочу похвалить… Постойте, а где же Марта?»
Марта стояла у окна, и плечи её, кажется, подрагивали. Лиза первая бросилась к ней и развернула девушку к нам. Так и есть: наша «маленькая К.» уже не удерживалась, слёзы текли по её щекам ручьём.
Лиза принялась тормошить нашу героиню, успокаивать её, говоря, как она блестяще справилась, как всем понравилась сегодня и какая она умница. Мы окружили их полукругом.
«Ох, Марта, мне так жаль! – покаянно признался я. – Я не знал, что вас это может так захватить. Простите нас!»
«А не надо было так вовлекаться и принимать эксперимент так близко к сердцу, – прокомментировала Ада прохладнее, чем мне бы хотелось. – Андрей Михайлович ведь предупреждал».
Марта помотала головой:
«Нет, нет, всё в порядке. Спасибо… Я не ждала, что моя жизнь будет вытащена на улицу и перед всеми развешана, словно постельное бельё! – вдруг воскликнула она со слезами в голосе. – Как больно…»
«Да ведь не твоя жизнь, Марфуша, – загудел Кошт. – Не твоя! Ты что это, всерьёз, про твою жизнь? Гляди, так и в больничку попасть можно!»
«Ты не понимаешь, Марк, – ответила ему Марта. – Когда своя жизнь – бесцветная, а тут – такая яркая вспышка, то свою собственную забываешь. Да и ну её совсем… Нет-нет, не думайте, всё со мной хорошо, – поторопилась она успокоить нас. – Сейчас я проплачусь, дайте мне просто время. Письмо жаль! – она встретилась со мной глазами и вдруг улыбнулась мне сквозь слёзы: – Андрей Владимирович, правда?»
Никто, возможно, не понял, что она говорит о последнем письме Николая, но я понял и кивнул. (Опять этот Владимирович!)
Группа вокруг Марты постепенно рассосалась. Ада, сев за стол (бывший председательский), подводила итог первому циклу и вслух подсчитывала, так сказать, примерный объём групповой выработки материала в количестве знаков. Я обещал ей написать вставки между стенограммами экспериментов, краткие выводы по ним и, может быть, недостающую биографическую статью. (Забегая вперёд, скажу, что всё это я сделал тем же вечером, конечно, несколько наспех.) После я сообщил коллективу о том, что с завтрашнего утра мы будем заниматься в учебном классе научной библиотеки по договорённости декана факультета с её, библиотеки, заведующей (это вызвало сдержанное одобрение), и объявил работу лаборатории на сегодня завершённой.
Тэд складывал зелёную скатерть. Остальные расставляли стулья и парты в привычный всем вид, перебрасываясь сегодняшними впечатлениями. Марта так и стояла у подоконника: её все оставили. Видимо, не из равнодушия, а, напротив, из деликатности, да и то, человек, который хочет замкнуться в своей тоске, – это очень сложный собеседник.
У меня оставались ещё дела: следовало бы найти Алёшу, который хотел о чём-то со мной потолковать, разумно было бы разыскать Настю Вишневскую, чтобы узнать, как она справляется с преподавательской нагрузкой. Я же, отложив обе эти вещи на потом, поспешил сделать совсем другое. Сев за свободный стол, я вырвал из ежедневника чистый лист и написал на нём красивым почерком в дореформенной орфографии:
Что бы со мною въ жизни ни случилось, встрѣча съ Тобою останется навсегда самымъ свѣтлымъ воспоминанiемъ моей молодости. Благодарю Тебя за всѣ часы, что мы провели вмѣстѣ. Не держи на меня зла: я не могъ поступить иначе. Знай, что въ любой бѣдѣ безъ всякихъ сомнѣнiй Ты можешь обращаться прямо ко мнѣ, и, если только не въ обществѣ, попрежнему на «ты».
Вѣрный нашимъ воспоминанiямъ,
Nicky
После я сложил этот лист бумаги втрое, подошёл к Марте и протянул ей.
«Что это?» – испугалась она.
«Кажется, то самое письмо, – ответил я и прибавил: – Считайте меня просто адъютантом Его Величества».
Марта медленно кивнула и так же медленно убрала это письмо в сумочку, глядя на меня во все глаза. Больше она мне ничего не сказала и не задала мне ни одного вопроса.
– Зачем вы это сделали? – спросил я рассказчика на этом месте.
– Бог знает, зачем! – с неохотой признался Андрей Михайлович. – Вы правы, совершенно глупый поступок. Безотчётный, понимаете? Есть времена, когда мы совершаем безотчётные поступки.
Что-то было в его тоне, что заставило меня промолчать, и мои догадки или, может быть, упрёки в неосторожности таких жестов по отношению к молодой чувствительной девушке так и не слетели у меня с языка.
– И потом, – прибавил Могилёв, – меня испугало это «ну её вовсе», сказанное про её собственную жизнь. Мальчики и девочки в этом возрасте иногда совершают большие глупости, и мне поэтому хотелось дать ей понять, что хотя бы один человек рядом и готов протянуть руку помощи. Что ж делать, если жанр и условия игры в ту секунду мне могли продиктовать только такие слова!
[22]
– Итак, – рассказывал руководитель проекта, – я заглянул на нашу кафедру, но никого на ней не нашёл. Вообще, весь факультет как вымер: в тот день все студенты с четвёртого сдвоенного занятия были сняты на какую-то внеочередную лекцию в актовом зале. Я спустился в вестибюль первого этажа – и там действительно обнаружил Алексея на одном из сидений неподалёку от входа. Я присел рядом и осторожно спросил его:
«Вы хотели со мной поговорить, Алёша?»
Алёша кивнул, потерянно огляделся кругом. Заодно уж добавлю пару штрихов к его портрету, так как не знаю, представится ли случай дальше. Чистое, простое лицо, несколько крестьянское, но очень миловидное, длинные ресницы, светлые несколько непослушные волосы. Ему бы косоворотку да свирель в руки, был бы настоящий Лель из «Снегурочки» Островского. Внешне впечатление было, надо сказать, обманчивым: Алексей вопреки своей внешности при разговоре производил впечатление человека юного, но умного, вдумчивого. А также – безусловно сдержанного и равнодушного к вульгарным соблазнам нашего века, так что догадка Лизы о том, что он, пожалуй, до сих пор ни с одной девушкой не познакомился, что называется, близко, оказывалась не совсем невероятной. Даже поражал его и облик, и характер, не сам по себе, но – столь контрастный с две тысячи четырнадцатым годом, столь не ко времени в этом году. Итак, юноша немного растерянно осмотрелся.
«Мы можем пойти на нашу кафедру», – предложил я.
«Нет, на кафедру не нужно, но, Андрей Михайлович, может быть, в аудиторию, где вы были? Все ведь ушли?»
«Думаю, да, – подтвердил я. – Суд окончился».
«Я так и понял…» – хмуро протянул Алёша.
Итак, мы вернулись в учебную аудиторию и сели друг напротив друга, верней, сел я, а юноша, посидев немного, встал, подошёл к окну, приложил к губам сложенные молитвенным образом ладони.
«Марта после суда здесь же стояла», – невольно сказалось у меня.
«Мне очень стыдно за то, что я не поддержал её на суде, и выглядит это как бегство, трусливое бегство, но я просто не смог: даже смотреть на это физически больно, тем более участвовать, – ответил Алёша и обернулся ко мне: – Андрей Михайлович, я не могу больше! Это… это ведь святотатство! Что-то, близкое к святотатству».
«Что именно?»
«Эта игра – вся игра, любой театр».
«Вы ошибаетесь, Алёша, – возразил я с улыбкой. – Вам, кстати, известно, что Николай Александрович, ваш исторический визави, в молодости тоже участвовал в домашнем театре? Сохранилась фотография, на которой он – в образе Евгения Онегина, такой молодой, трогательный и безусый».
«Да? – поразился Алёша. – Я не знал… Ну всё равно: ему можно, он же играл Онегина, а не… а не самого себя. Потому что понарошку это играть нельзя, нет смысла, а по-настоящему… Вы ведь Марту, сегодня, наверное, довели до слёз? Не вы лично, а группа?»
«Да, вы, к сожалению, угадали!» – подтвердил я.
«Я этого и боялся… Я сегодня прожил только три минуты жизни Помазанника, то есть ещё даже до его венчания на царство, и вчера не больше, а уже весь выжат, как… как жмых. Вот видите, даже слова говорю первые, какие придут в голову, не выбираю, потому что не выбираются. Как он выдерживал не три минуты, и не шесть, а всю жизнь? Я не имею права им быть, Андрей Михайлович, не имею права».
«Да почему же?!»
«Потому что не стою вровень, – пояснил Алексей. – Что там вровень! И вчетвертьровень не стою. А совсем не потому, что театр дурён сам по себе. Я принимаю вашу задумку, даже восхищаюсь. Это так ново по сравнению с тем, что мы делаем обычно, в этом – источник свежих сил. Но, скажите, я очень вас подведу, вы очень на меня обидитесь, если я откажусь быть Помазанником? – Алёша повторно использовал это слово, естественное в устах священника полтораста лет назад, но такое непривычное сегодня и в устах двадцатиоднолетнего человека. – Григорий Лепс, – продолжил он, – поёт это своё “Я крещён, а может быть, помазан”, не замечая, как смешно выглядит его “может быть”. Ты или помазан, или нет, а “может быть, помазан” – это как “немного беременна”. Я возьму любого другого персонажа, – поспешил он добавить, чтобы пояснить, видимо, что это его решение – не блажь и не прихоть. – Любого, кого назовёте».
Я вздохнул, и мы немного помолчали. Переубеждать его, видимо, не имело смысла, да и чтó можно было возразить ему по существу?
«Вам бы подошёл кто-то из духовенства, – предложил я. – Или из русских религиозных философов».
«Скорее, из первого, – согласился юноша. – Те, вторые, слишком умствовали, блуждали в трёх соснах. Да, я охотно…»
«В любом случае, я благодарен вам за уже сделанное, Алёша: я видел, что вся ваша душа восставала, но вы мужественно исполняли свою службу», – поблагодарил я его.
«Вы, кстати, единственный, кто меня называет Алёшей, то есть через “А” в уменьшительном имени, – заметил юноша. – Такая милая и изящная отсылка к Фёдор-Михалычу, я ценю…»
«Всегда пожалуйста. Ах, кстати! – оживился я. – Ведь я, чего греха таить, надеялся, что вы через вашу роль сойдётесь с Мартой, то есть не планировал специально, но если бы сложилось… Вы не обижаетесь?»
Алёша коротко рассмеялся. Пояснил:
«Нет, я не обижаюсь! Это трогательно, и Марта мне почти симпатична. Её молодая любовь меня сегодня обожгла, хотя совсем и не мне предназначалась. Только ведь это тоже мýка: отвергать любовь молодой девушки, заставлять её страдать, потому что долг Помазанника не позволяет быть с ней. В любом случае, не надейтесь на нас слишком, я не могу обещать, что сложится. Наследник уже расстался с Матильдой, теперь встречаться с ней будет просто бесчестно».
«Но вы только что сняли с себя корону! – запротестовал я. – Так, значит, перед вами нет никаких преград!»
«Я её, как вы помните, даже не надел, – с юмором ответил мне Алёша, видимо, вспоминая распределение ролей в прошлую пятницу и шутливую попытку Лизы его «короновать». – Да, я уже не он. Ну, и какой Матильде тогда во мне интерес?»
«А я ведь передал ей письмо от вас», – признался я вдруг.






