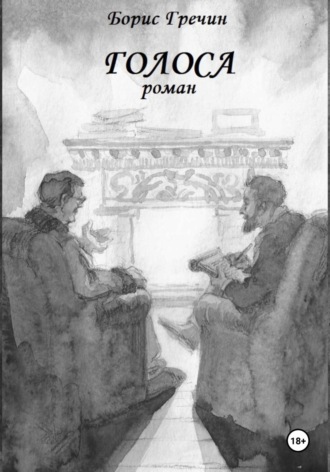
Полная версия
Голоса
[14]
Алёша вернулся минут через пять и хмуро доложил:
«Матильда готова играть только сцену нашего последнего свидания весной девяносто четвёртого, у сенного амбара на Волконском шоссе. Ни на что другое она не согласна».
Тут же завязался спор о важности или, напротив, неважности этой сцены. Иван и Альфред настаивали, что ничего значимого в ней нет, а Гагарины и Лиза упирали на то, что Марта уже навела макияж, специально по случаю надела выпускное платье и стерпела все манипуляции со своими волосами, поэтому теперь, если отказываться от сцены, все труды пропадут даром. Мечтательно-задумчивый Герш после некоторых колебаний склонился ко второй точке зрения, и она победила. Алёша позвонил Марте и пригласил её присоединиться к группе.
Тэд в ожидании нашей героини написал на хлопушке мелом The Last Date18. Хотел, кажется, The Last Meeting19, но выбрал Date как более короткое слово. Все мы молча следили за этими почти жреческими действиями.
Марта вошла и замерла на пороге. Тэд объявил:
‘ “The Last Date”!’
– и щёлкнул хлопушкой-нумератором. Матильда бросилась Наследнику на шею.
[15]
Здесь автор этого текста должен был бы привести стенограмму «эксперимента номер два». Стенограмма имеется, но я решил её опустить. Сохранившаяся запись – это просто набор отдельных мало относящихся друг к другу фраз, даже обрывков фраз, ни одна из которых не доведена до конца; в ней нет ничего от связности речи Алисы Гессенской, которую Анастасия Николаевна Вишневская за день до того произнесла с таким мастерством, находчивостью и самообладанием. Запись устной речи имеет свои области употребления и свои пределы: далеко не всё из того, что убедительно на бумаге, прозвучало бы так же убедительно в живой жизни, и наоборот. Чтобы читатель не чувствовал себя обманутым, считаю нужным после «звёздочек» привести отрывок из подлинных воспоминаний балерины. Возможно, вы заметите, что Матильда Феликсовна не обособила запятой деепричастный оборот во втором предложении второго абзаца. Автор не счёл нужным восстанавливать эту запятую: в конце концов, даже мелкие (или крупные) ошибки исторических источников характеризуют их автора и через это становятся сами частью истории.
* * *
Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как это всегда бывает, когда хочется многое сказать, а слёзы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах…
Когда Наследник поехал обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся вдали. До последней минуты он ехал всё оглядываясь назад. Я не плакала, но я чувствовала себя глубоко несчастной, и, пока он медленно удалялся, мне становилось все тяжелее и тяжелее.
Я вернулась домой, в пустой, осиротевший дом. Мне казалось, что жизнь моя кончена и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя.
[16]
Но вернёмся к рассказу Андрея Михайловича, который как раз пояснял:
– Всё заняло не больше трёх минут, но психологически – минут пятнадцать, может быть, целых полчаса. Мы глядели как заворожённые: их действие захватывало полностью, и это вопреки тому, что, положи их слова на бумагу, всё стало бы невнятным, почти детским лепетом. Мера их нахождения внутри своих персонажей и, так сказать, актёрской отрешённости от нас – или от тех, кто стоял за дверью и подглядывал в щёлку, – мера даже некоего бесстыдства изумляла: они действительно о нас забыли.
Наконец, Наследник пошёл по направлению к своей лошади, смирно стоявшей у сенного сарая – я почти видел эту лошадь, уверяю вас, – а «маленькая К.» стояла и смотрела ему вслед. Тэд щёлкнул хлопушкой, и только тогда мы очнулись.
«Я же говорил, что собственного исторического значения в этом частном эпизоде не имеется», – тут же прокомментировал Альфред.
«Дядя Фредя, ты дурак», – ответил ему Кошт, переиначив русскую поговорку, снова достал свои антибликовые очки и снова надел их. Я успел подумать, что теперешний жест тоже раскрывает психологию встречи Гучкова и Государыни: в конце концов, ему могло быть просто неловко.
Лиза не таясь плакала, утирая слёзы и шмыгая носом.
Марта опустилась на ближайший стул и застыла в каком-то оцепенении. На её лице была слабая, отрешённая от нашего мира улыбка, глаза блестели.
«Марта, может быть, тебе водички?» – спохватилась наконец Лиза.
Марта покачала головой, верней, медленно повела ей из стороны в сторону.
«Нет, мне хорошо, – ответила она каким-то новым голосом. – Хотя… ты права, пойду умоюсь. Сделать бы ещё что с этой публикой у дверей». С этими словами она вышла из аудитории.
Штейнбреннер заговорил вновь:
«Я понимаю, что все сейчас находятся во власти эмоций, и именно поэтому мой долг как единственного человека, способного избежать этой самоиндукции и аутосуггестии, – поставить вопросы, которые остались вне поля нашего рассмотрения. Мне хочется познакомить со своими выводами пару-тройку человек, которые способны рассуждать безэмоционально».
Ада со вздохом пересела к нему, и они оба принялись о чём-то толковать вполголоса. Иван через некоторое время к ним присоединился (тоже, кажется, без большого удовольствия).
Алёша подошёл ко мне и, сняв, протянул мне свой китель, причём не просто так, а будто с некоторым смыслом.
«Вы можете его оставить на весь апрель», – предложил я.
«Нет, спасибо! – отозвался Алёша, какой-то повзрослевший. – Я точно не надену его сегодня, хоть вы меня режьте. А про весь апрель – я хотел с вами поговорить. После занятий, наверное…»
Я кивнул.
[17]
– Пока я разговаривал с Алёшей – продолжил рассказчик, – выяснилось, что «безэмоциональная», мозговая часть нашей группы, посовещавшись, решила готовить «суд истории над гражданкой Кшесинской». Я немного удивился, но не подал виду: в конце концов, этот метод мы ещё не использовали, а испробовать стоило каждый.
Как-то само собой стало ясно, что Ада будет председателем суда, а Альфред – обвинителем: это вытекало и из их собственных интересов, и из характеров их персонажей. Я не возражал, но отметил, что им лучше остаться совершать суд от лица своих героев: в конце концов, «министр юстиции Керенский» звучит куда представительней, чем «студентка четвёртого курса Ада Гагарина». Они оба с этим согласились.
Оставалось найти защитника. Алексею, казалось бы, сам Бог велел быть таким защитником, даже по греческому смыслу его имени, но он вышел, как только «рабочая мини-группа» из Ивана, Альфреда и Ады начала привлекать к обсуждению суда остальных. Вслед за Мартой, наверное. Это могло бы вызвать смешки, но нет. Напротив, Лиза, глядя на закрытую им дверь аудитории, произнесла вполне серьёзно:
«Если у этих двоих что-то сложится, то и слава Богу – Андрей Михайлович, правда? Они ведь оба невинны, как… как…»
«Как овцы», – закончила за неё Лина.
«Верно, как овцы, – согласилась Лиза, не замечая невольной грубости выражения. – Лёша, думаю, и с девушкой-то ни разу не был, а про Марту вообще молчу…»
Я вслух заметил, что теперь мы, кажется, потеряли естественного адвоката для подсудимой. Штейнбреннер немедленно возразил: дескать, Цесаревич никак не может выступить на суде адвокатом, во-первых, потому что никогда не имел юридического склада ума, а во-вторых и в главных, потому, что после Февральской революции личной свободой не пользовался, гипотетическое же судебное заседание с участием Милюкова и Керенского могло произойти только во временнóм промежутке от Февраля до Октября. Против такого крючкотворческого подхода можно было бы сказать многое, но у меня не было никакого желания с ним спорить. Вместо этого я позвал Герша:
«Василий Витальевич! Может быть, вы в качестве верного монархиста не откажетесь быть защитником?»
Борис Герш пожал узкими плечами (кстати, обращение к нему по имени его персонажа он счёл чем-то совершенно естественным, даже виду не подал). Вздохнул:
«Увы, неверного, то есть не оставшегося верным… Я не против, я бы даже хотел. Но у меня не немецкий ум, а самый что ни на есть русопятский! Я поэтому не смогу дать настоящего отпора господину Милюкову, который сейчас готовит обвинение… Андрей Михайлович, может быть, вы?»
Идея, кажется, понравилась: со всех сторон раздались возгласы одобрения. Ада, тоже улыбнувшаяся мысли, правда, заметила:
«Ради справедливости должна сказать, что Андрей Михайлович тоже должен взять на себя роль кого-то, кто был жив в 1917 году. Иначе это будет… несимметрично, что ли! Вот хоть этот – великий князь Андрей-как-его-там…»
«Андрей Владимирович, который не отличался особым умом, – тут же вставил Иван Сухарев и сразу покаялся: – Извините! Но я же не про вас».
Тут, замечу от себя, он, скорее, ошибся: письма великого князя не демонстрируют никакой особой глупости. Я, улыбнувшись, объявил группе, что принимаю обязанности защитника мадмуазель Кшесинской и буду на суде в роли русского религиозного философа Василия Розанова («Почему не отца Павла Флоренского?» – немедленно выскочил Штейнбреннер, но я не удостоил его ответом), что предлагаю всем остальным быть присяжными заседателями, наконец, что сейчас должен их оставить, так как вспомнил: Сергей Карлович просил меня к нему зайти. Предложил им: не хотите ли пока посмотреть исторический фильм на служебном ноутбуке, который могу принести с кафедры? Студенты заверили меня, что найдут, чем заняться, и без всякого фильма. Мы договорились встретиться после обеда, то есть после окончания большой перемены.
[18]
– При выходе, – рассказывал Андрей Михайлович, – я столкнулся с небольшой кучкой студентов разных курсов, которые шарахнулись от двери. «Подслушивать нехорошо», – буркнул я, и тут же поймал себя на мысли: а подсматривать? Ведь ещё хуже – а между тем мы, зрители «сценического эксперимента номер два», именно и подсматривали за чужой жизнью.
В своём кабинете декан с улыбкой протянул мне лист бумаги:
«Пожалуйте! Вот копия. Ваша лаборатория теперь существует de jure».
«Не знаю, как вас и благодарить, Сергей Карлович…»
«И вот ещё что: ваша работа среди студентов уже возбудила лёгкую сенсацию, – продолжил Яблонский. – А эта сенсационность и их отвлекает от учёбы, и вам совсем некстати. Думал сегодня весь день: как бы вам переехать куда подальше от любопытных глаз? И, представьте себе, придумал! Вы знаете, что у нашего университета есть собственная научная библиотека?»
«Ну, а как же! – подтвердил я. – По адресу улица Загородная роща, дом 1А».
«Верно, в ста метрах от проходной Нефтехимического завода. А в этой библиотеке имеется учебный класс, аккурат над читальным залом. Использовался раньше активно, а сейчас – в основном для разовых семинаров и всяких инструктажей. Созвонился сегодня утром с заведующей библиотекой, полюбезничал с ней и – в общем, держите второе распоряжение! Не распоряжение, конечно, – поправился он: – я не могу распоряжаться в подразделении, которым не руковожу. По жанру это ходатайство: “Уважаемая Таисия Викторовна…” – и всё остальное как положено. На этот раз оригинал, точнее, один из двух оригиналов, второй оставлю у себя. Вы ведь простите старика за то, что я так по-хозяйски вмешался? Место, конечно, на отшибе, но зато…»
Я заверил декана, что лучшего и желать не мог. И правда, сомнительное удовольствие работать на одном этаже с кафедрами отечественной и всеобщей истории, когда и Бугорин, и профессор Балакирев в любую секунду могут войти и бесцеремонно поинтересоваться: а что это мы делаем?! Ещё и сами захотят поучаствовать, чего доброго… бр-р!
«Вы очаровательный человек, Сергей Карлович!» – прибавил я в порыве благодарности.
«Полно, полно! – замахал на меня руками декан. – Что вы мне расточаете комплименты, словно девице! Кстати, пошёл тут новый слушок: будто все девицы в вашем исследовательском коллективе от вас настолько без ума, что вы им уже и во снах являетесь. Насколько это обоснованно, скажите?»
Я тогда с удовольствием рассмеялся, и он со мной тоже. Только выйдя от него, я припомнил сон Марты Камышовой и поразился: как хорошо, оказывается, у нас на факультете поставлено осведомительство всякого рода, и как проворно работает пошлое «сарафанное радио»!
[19]
– Войдя в аудиторию после обеда, – вспоминал Могилёв, – я увидел уже полностью подготовленное сценическое пространство. Три парты поставили «покоем»20, что, видимо, изображало столы судьи, обвинителя и защитника. Стол судьи оказался покрыт зелёной тканью. Тэд пояснил, что купил ткань в обеденный перерыв, пожертвовав обедом, и что, будь у него больше времени, купил бы и деревянную киянку, то есть судейский молоток. Я только покачал головой, видя такую преданность делу. Имелись и составленная из стульев скамья подсудимых, – рядом с адвокатским столом, – и места для четырёх присяжных заседателей: урезанный состав, но не могли ведь мы расширять свою рабочую группу до бесконечности. Правда, даже из этих четырёх Алёша отсутствовал. Из лекторской кафедры соорудили свидетельскую трибуну. Тэд, выполнявший роль секретаря суда, указал мне моё место. Прежде чем занять его, я обратился к группе с коротким воззванием:
«Уважаемые юные коллеги! Разрешите напомнить вам несколько очевидностей, и простите за то, что делаю это только сейчас. Любой наш эксперимент – это всего лишь допущение, игра ума. Вот почему прошу вас в глубине души отнестись к нему совершенно бесстрастно. В ходе эксперимента вы можете делать всё, что хотите, до тех пор, пока это оправдывается характером вашего героя: бранитесь, возмущайтесь, негодуйте, плачьте, смейтесь. Сразу после окончания, пожалуйста, забудьте все чувства, что пережили, не держите на ваших товарищей никакого зла и взгляните на совершившееся со стороны. Могу ли я надеяться на то, что вы постараетесь это сделать?»
Лаконичными откликами группа заверила меня, что постарается.
«Андр… Василий Васильевич, мы можем начинать?» – уточнил у меня секретарь, и после моего кивка, откашлявшись, объявил о начале заседания.
[20]
СТЕНОГРАММА
сценического эксперимента № 3
«Суд истории над Матильдой Кшесинской»
от 8 апреля 2014 г.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Александр Фёдорович Керенский, председатель суда (исп. Альберта Гагарина)
Павел Николаевич Милюков, обвинитель (исп. Альфред Штейнбреннер)
Василий Васильевич Розанов, защитник (исп. А. М. Могилёв)
Секретарь суда (исп. Эдуард Гагарин)
Александр Иванович Гучков, свидетель (исп. Марк Кошт)
Вестовой Михаила Васильевича Алексеева, свидетеля (исп. Иван Сухарев)
Матильда Феликсовна Кшесинская, подсудимая (исп. Марта Камышова)
Присяжные заседатели (исп. Елизавета Арефьева, Борис Герш, Акулина Кошкина)
СЕКРЕТАРЬ СУДА. Прошу всех встать, суд идёт! Прошу всех садиться.
КЕРЕНСКИЙ. Подсудимая, подойдите к свидетельской трибуне. Назовите ваше имя.
КШЕСИНСКАЯ. Матильда Феликсовна Кшесинская, в замужестве княгиня Романовская-Красинская.
КЕРЕНСКИЙ. Революция русского народа устранила аристократию и фальшивое чинопочитание! В новой свободной России нет князей и княгинь.
КШЕСИНСКАЯ. Мир не ограничивается Россией.
КЕРЕНСКИЙ. Назовите вашу дату рождения.
КШЕСИНСКАЯ. Девятнадцатое августа тысяча восемьсот семьдесят второго года.
КЕРЕНСКИЙ. Прошу секретаря суда зачитать обвинительный акт.
СЕКРЕТАРЬ (встаёт). Матильда Феликсовна Кшесинская обвиняется, во-первых, в создании снарядного голода в Российской армии посредством распределения заказов на производство снарядов между угодными лично ей производителями.
КШЕСИНСКАЯ. Какая чепуха…
КЕРЕНСКИЙ. Признаёте ли вы себя виновной по первому обвинению?
КШЕСИНСКАЯ. Никогда не слышала ничего более нелепого, никогда в своей жизни!
СЕКРЕТАРЬ. Во-вторых, она обвиняется в… (Долго смотрит в свои записи, наконец, выговаривает с некоторым сомнением.) …В соблазнении наследника русского престола и его моральном падении, что привело к краху российской государственности, поражению России в Первой мировой войне и безмерным страданиям наших соотечественников. (Садится.)
КЕРЕНСКИЙ. Признаёте ли вы себя виновной по второму обвинению?
КШЕСИНСКАЯ. У меня нет слов. Я – я нахожу ниже своего достоинства отвечать.
КЕРЕНСКИЙ. Суд переходит к допросу свидетелей. (О чём-то шепчется с секретарём.) В зал приглашается Александр Иванович Гучков.
Гучков подходит к свидетельской трибуне и встаёт за ней.
КЕРЕНСКИЙ. Свидетель, вы предупреждаетесь об ответственности за… Александр Иваныч, снимите очки! Вы демонстрируете неуважение к суду.
ГУЧКОВ. У меня болят глаза, Алексан-Фёдорыч.
КЕРЕНСКИЙ. Сочувствую, но порядок есть порядок. У меня тоже много что болит, почки уже почти отнялись, но я ведь не приехал сюда в инвалидном кресле!
Гучков снимает очки.
КЕРЕНСКИЙ. Александр Иваныч, вплоть до начала нашей великой бескровной революции вы были председателем Центрального военно-промышленного комитета. Что вы можете сказать по существу первого обвинения?
ГУЧКОВ. Только первого? А я уж боялся, меня и к разбору второго тоже привлекут.
КЕРЕНСКИЙ. Александр Иваныч, не паясничайте.
ГУЧКОВ. Алексан-Фёдорыч, вы уж простите, из нас всех вы – главный паяц. Это знает каждый здесь сидящий. (Передразнивает.) «Не смейте прикасаться к этому человеку!» «Я готов умереть прямо здесь!» Это вы – меня, русского патриота, просите не паясничать?
КЕРЕНСКИЙ (ищет судейский молоток, не найдя его, стучит кулаком по столу). Свидетель, вы призываетесь к порядку! Вы будете выдворены!
ГУЧКОВ. Вот уж чему не огорчусь.
КЕРЕНСКИЙ. Обвинение может задавать свидетелю вопросы.
МИЛЮКОВ. Алексан-Фёдорыч, каким образом происходило распределение заказов на производство снарядов?
ГУЧКОВ. Через Цэ-вэ-пэ-ка. Формально отвечало министерство, но как-то так вышло, что мы взяли всё в свои руки. От военного ведомства поступали заказы, мы делили их между заводами. Вы меня, Пал-Николаич, спрашиваете такие вещи, которые и сами знаете. Ваш Шингарёв тоже входил в Особое совещание по обороне. Или вы не беседовали со своими однопартийцами? Считали ниже своего достоинства?
МИЛЮКОВ. Пожалуйста, давайте придерживаться формы! И Особое совещание, и ЦВПК были созданы в пятнадцатом. Могла мадам Кшесинская вмешиваться в распределение заказов до пятнадцатого года?
ГУЧКОВ (жмёт плечами). Мне-то откуда знать?
МИЛЮКОВ. То есть вы не исключаете?
ГУЧКОВ. Я свечки не держал… но, с другой стороны, через кого?
МИЛЮКОВ. Через Государя Императора, который уже влиял на всем печально известного Сухомлинова. Одни фабриканты, более щедрые на свою благодарность, получали заказы, другие нет, и вот плачевный итог.
ГУЧКОВ. Пал-Николаич, вы… Вы, как бы вам это мягко сказать… Вы, извините, как втемяшите себе в голову какую-нибудь химеру, так и преследуете её вопреки здравому смыслу. Вы и раньше этим отличались: вспомните, пожалуйста, ту ахинею, которую вы несли с трибуны Государственной Думы про низкие закупочные цены на зерно и про то, что чем ниже будут цены, тем охотнее и быстрее крестьянин повезёт его продавать. Не припоминаете такого? Ну как, повёз зерно на рынок русский мужичок по твёрдой низкой цене?
МИЛЮКОВ. Прошу вас отвечать по существу и не переходить на личности!
ГУЧКОВ. По существу – пожалуйста, только ведь вы не умеете, никто из вас, слушать по существу, сразу взбираетесь на идеологического конька… Вы, интеллигенция, не знакомы, по сути, ни с одним настоящим ремеслом! Вы говоруны и дилетанты!
РОЗАНОВ. Как и вы, Александр Иваныч, как и вы…
ГУЧКОВ. Все заводы работали на фронт, все до единого! А снарядов – не хватало, из-за чехарды с составами, например, из-за вечного нашего русского бюрократического головотяпства. Ещё: надо было, как я понимаю теперь, задним умом, нарастить производство на одном ключевом заводе, Свято-Петроградском Трубочном. Снарядам не хватало трубок. Если вы произвели сто снарядов и десять взрывателей к ним, сколько на фронт уйдёт снарядов, пригодных для боеприменения? Верно, десять штук. В нашей бестолковщине сложно доискаться, кто виноват в том, что такое простое дело не было сделано. Но что до мадам Кшесинской, к которой, поверьте, я не испытываю никакой симпатии: это она, по-вашему, должна была организовать правильное движение составов? Расширять производство на Трубочном заводе? Разобраться, в чём беда, и потребовать увеличить выпуск трубок от своего ненаглядного Ники? Пал-Николаич, вы в своём уме?
МИЛЮКОВ (с оскорбленным достоинством). Обвинение не имеет больше вопросов к первому свидетелю.
КЕРЕНСКИЙ. Защита может задать вопросы свидетелю.
РОЗАНОВ. Ваша честь, благодарю! Господин Гучков, мы с вами не были до этого знакомы, и всё же благодарю и вас: вы очень облегчили мою работу, так что я, по сути, мог бы обойтись и без вопросов. Но всё же спрошу: скажите, а откуда пошёл слух о влиянии Матильды Феликсовны на дело снабжения?
ГУЧКОВ (вновь пожимает плечами). От главковерха.
РОЗАНОВ. От Государя?!
ГУЧКОВ. Да нет же, от верховного до августа пятнадцатого года. От великого князя Николая Николаевича.
РОЗАНОВ. Согласитесь, распространение таких слухов его прекрасно характеризует?
ГУЧКОВ. Я ему не судья, а вообще, его больше характеризует тот позорный хаос, который устроился и на фронте, и в тыловом обеспечении в то время, когда он был верховным.
РОЗАНОВ. Может быть, идея Государя самому принять верховное главнокомандование в августе пятнадцатого была не такой уж дурной, вы не находите?
ГУЧКОВ (кисло). Это не относится к сути дела.
РОЗАНОВ. Скажите ещё, пожалуйста… впрочем, нет, вопрос о ящиках для снарядов, произведённых казёнными заводами, причём на ящиках неизменно ставилась маркировка «Военно-промышленные комитеты», будто это именно ваши комитеты их произвели, я задам как-нибудь в другой раз. (Смешки среди присяжных.) Защита не имеет вопросов к первому свидетелю.
СЕКРЕТАРЬ. Приглашается в качестве свидетеля Михаил Васильевич Алексеев.
ВЕСТОВОЙ (встаёт и отвешивает короткий поклон). Его высокопре… господин генерал приказали мне доложить вашим высоко… гражданам судьям, что в этот тяжёлый для Родины час он не находит возможным покинуть фронт ради участия в… в позорном судилище над невинной женщиной. Виноват! (Вытягивается по стойке «смирно».)
РОЗАНОВ (вполголоса). Ах, что за умница его высокопревосходительство! Если бы только он пораньше проявил свою принципиальность…
КЕРЕНСКИЙ. Вот как? Ну конечно, что ждать от верных псов старого режима…
РОЗАНОВ. Со всем почтением, ваша честь: мы не на митинге, а в зале судебного заседания. Вы тратите своё красноречие попусту.
КЕРЕНСКИЙ (скороговоркой). Суд переходит к прениям сторон. Слово предоставляется обвинению!
МИЛЮКОВ (не спеша поднимается со своего места; говорит медленно, весомо). Приняв во внимание и взвесив факты, приведённые первым свидетелем, мы считаем возможным отказаться от первого обвинения. Тем большее значение приобретает второе!
На протяжении двух лет подсудимая настойчиво соблазняла Наследника российского престола, вынуждая того вступить с ней в интимную связь, и в январе тысяча восемьсот девяносто третьего года наконец добилась своего! О событии свидетельствуют некоторые несколько двусмысленные записи в дневнике Николая, а также, прямым текстом, авторитетные иностранные источники, например, Миранда Картес в своей книге «Три императора». Позвольте цитату: ‘It took her nearly two years of—highly decorous—near-stalking to persuade the extraordinarily diffident Nicholas to install her as his mistress. It was a further six months before the affair was actually consummated.’21
Указанная связь с точки зрения православной веры не может считаться ничем иным, как блудным сожительством, актом любодеяния. Блуд – это смертный грех согласно древней вере отцов наших. В религиозных убеждениях Николая Александровича, кажется, никто не сомневается? Мы берём на себя смелость утверждать, что переживание греха этой совестливой, но слабой натурой, привело доброго, в сущности, но не получившего систематического научного образования, склонного к болезненному мистицизму человека к сомнению в том, действительно ли он как грешник способен восприять благодать Помазания Божия. Это сомнение, никогда его не оставлявшее, ослабило его волю, заставило его подчиниться тирании деспотичной жены, наконец, прислушиваться к колдунам, шарлатанам, проходимцам и фаворитам всякого рода и быть уловленным в сети нездоровой спиритуальности.






