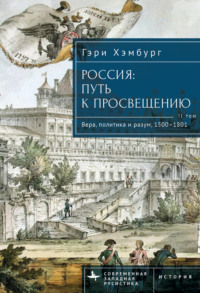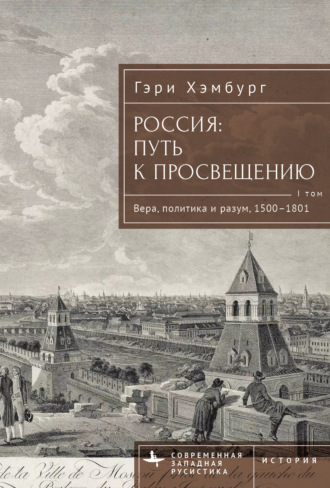
Полная версия
Россия. Путь к Просвещению. Том 1
По мнению Пересветова, Иван должен начать преобразование Московского государства, прекратив «кормление» своих вельмож за счет городов и областей и путем «непомерных поборов». Обе эти практики, с его точки зрения, преступают правосудие и противоречат христианской вере, вплоть до ереси. Во-первых, вельможи присягали служить государю, но вместо этого набивают собственные кошельки. Во-вторых, споры о границах областей влекут за собой обоюдные ложные клятвы сторон. Пересветов замечает, что в Византийской империи сборщики налогов, помимо взимания установленного налога в казну, забирали в десять раз больше этой суммы в свою пользу. В итоге это вылилось в «разорение царства и царской казны» и междоусобицу вельмож, соперничавших за контроль над сбором налогов. Иван опасался, что та же участь ожидает Московское государство, если царь не пресечет произвол сборщиков податей. Таким образом, как напрямую, так и посредством исторической аналогии Пересветов выступает за строгий надзор за сборщиками налогов.
Пересветов полагал, что Иван должен последовать примеру мусульманского султана Мехмета, который создал в Османской империи судебную систему с судьями на жалованьи, «чтобы судьи не соблазнялись [брать взятки], не впадали в грех и Бога не гневили». Пересветов пишет, что если судьи Мехмета все же брали взятки или выносили произвольные решения, их приговаривали к смерти и публичному поношению с вердиктом: «Не сумел с доброй славой прожить и верно государю служить». По словам Пересветова, в Османской империи «…нынешние цари живут по закону Магометову с великой и грозной мудростью. А провинившемуся смерть предписана, а как найдут провинившегося, не помилуют и лучшего, но казнят по заслугам дел его». Восхваляя исламскую судебную практику, Пересветов приближается к мысли, что суд и правда Богу могут быть важнее, чем приверженность «истинным» религиозным догмам. В одном из пассажей «Большой челобитной» Пересветов описывает Московское царство как страну, где провозглашается истинная вера, но где «правды нет». И все же, по словам Пересветова, «…в каком царстве правда, там и Бог пребывает, и не поднимается Божий гнев на это царство. Ничего нет сильнее правды в божественном Писании. Богу правда – сердечная радость, а царю – великая мудрость и сила».
Пересветов сетовал на лень государственных служащих – ленивые вельможи, по его мнению, «царство… в скудость приводят» и не имеют мужества в военных делах. Иван предостерегал царя от чрезмерной роскоши у военачальников, ибо «…нет у них верного сердца, а смерти боятся и умирать не хотят. Богач никогда не мечтает о войне, а о покое мечтает. Пусть хоть богатырь разбогатеет, и тот обленится». «Над всем миром один Бог, – пишет Пересветов. – А есть такие, кто расписывается в рабстве навеки тем, что прельщают и дьяволу угождают, и такие, кто прельщается на блистательные одеяния и тоже расписывается в рабстве навеки, – и те и другие гибнут навеки».
Пересветов предлагал создать большую постоянную армию, чтобы воины получали жалованье от государства и выплаты за боевые заслуги. В составе войска он предлагал создать корпус воинов, владеющих огнестрельным оружием, в составе 20 тысяч человек, и разместить эти специальные подразделения в крепостях на степных границах для борьбы с крымским ханом. Идея Пересветова заключалась в том, что 20 тысяч хорошо подготовленных и вооруженных воинов «будут тогда для него [царя] лучше, чем 100 тысяч». Он писал, что благодаря такой защите южных границ «приграничные области все богаты будут и не в разоренье от врага». В целом, писал он, главным для выживания государства является поддержание «воинского духа». А истинный воинский дух, по утверждению Пересветова, можно взрастить, лишь отвращаясь от ворожбы и чародейства, учась божественной мудрости и мобилизуя царство на защиту христианской веры [Каган-Тарковская 2000].
Лишенная религиозных и риторических изысков, программа Пересветова состояла из трех основных пунктов: эффективная централизованная система сбора налогов, не обремененная взяточничеством; справедливая система царских судов с судьями на государственном жалованье; постоянная армия, укрепляемая мудростью и воинским духом, с хорошо вооруженными и опытными пограничными отрядами. Во многом эта система управления зависела от практического умения царя назначать чиновников исходя из их заслуг. Картина идеального государства у Пересветова предполагала значительную степень социального выравнивания: хотя он никогда прямо не призывал к устранению вельмож или к смещению существующего поколения служилых людей, он считал, что все они порочны и препятствуют справедливости. Пересветов считал, что процветание Московского государства возможно только при системе управления, основанной на заслугах. Если этого не будет, царство рухнет перед мусульманской угрозой, как рухнула Византийская империя под натиском турок.
Идеи Пересветова нелегко поддаются интерпретации. Зачинатель русского марксизма Г. В. Плеханов охарактеризовал идеал политической справедливости Пересветова как «турецкий деспотизм». По мнению Плеханова, Пересветов почерпнул свое видение царской власти не на европейском Западе, где власть короны сдерживалась «естественной свободой» дворян-собственников, а на Востоке, где монархи смотрели на подданных как на рабов. Идеи Пересветова Плеханов счел симптомом «восточной складки» московского общества: «По мере того, как историческое развитие раздвигало пределы власти московского государя до той широты, какая свойственна была соответствующей власти в восточных “вотчинных монархиях”, московская общественная мысль все более и более приобретала восточную складку» [Плеханов 1925: 152–153, 160, 164–169]. В суждении Плеханова, конечно, есть доля правды: как мы видели, Пересветов восхищался османскими институтами и политическими добродетелями, и в сравнении со своим представлением о них оценивал положение дел в Москве. Однако Пересветова не следует принимать за апологета Османской империи и тем более за проповедника деспотизма. Он был традиционным мыслителем во многих отношениях. Он восхищался Сильвестром и Адашевым, и многие из его предложений не выходили за рамки тех, которые обсуждались в Избранной раде. Конечно, он ненавидел порочных бояр и хотел, чтобы их влияние снизилось, но не выступал категорически против существования их как класса. Фактически, суть его неявного требования заключалась в том, чтобы московские вельможи жили добродетельно, как, по его мнению, жила османская знать. Добродетельным поведением бояре должны были продемонстрировать достоинства и заслуги, которыми следовало обладать представителям власти. Представление Пересветова о правосудии принципиально не отличалось от идеи справедливости, отстаиваемой иосифлянами. Даже его настойчивое требование, чтобы суды были инструментом достижения истинной справедливости, можно интерпретировать как традиционную византийскую позицию. Оригинальной идеей Пересветова можно счесть его мысль, которая, при условии широкого распространения, могла бы поразить многих русских, особенно священнослужителей, – убеждение, что вера менее важна, чем правда, а также пример Османской империи для иллюстрации его «истинности». Тем не менее даже при своей кажущейся еретичности мысль о том, что в глазах Бога правда выше веры, можно понять как переформулировку новозаветного утверждения о том, что любовь – бо́льшая из всех добродетелей, превосходящая даже веру и надежду (1Кор 13:13).
Согласно интерпретации Лихачева, Пересветов был сторонником «последовательной и постепенной секуляризации, обмирщения всей жизни», противником «церковного провиденциализма», рационалистом, который считал, что «сам человек творит свою судьбу, а Бог только «помогает» тем, кто стремится ввести в жизнь «правду» – справедливость и разумность. По мнению Лихачева, Пересветов был также бескомпромиссным сторонником централизации власти, яростным критиком боярства и «феодальной раздробленности» Московского государства, поборником интересов служилых дворян. Наконец, Лихачев рассматривает творения Пересветова как свидетельство «культа разума» и книголюбия, которые в Московском государстве XVI века выражали «общий подъем веры в разум», характерный для культуры Европы эпохи Возрождения [Лихачев 1945: 170, 173]51. Отчасти эта характеристика, безусловно, верна: несомненно, Пересветов выступал против церковного «провиденциализма» и ценил государственных деятелей, которые были поборниками справедливости и разума. Также он критиковал боярский эгоизм и был сторонником продвижения по службе на основе заслуг – эту позицию разделяли многие представители служилого дворянства. И, конечно же, Пересветов был самопровозглашенным поклонником латинской и греческой книжной мудрости. Однако в трактовке Пересветовым добродетели сильно сказывалось его христианское мировоззрение: он выступал против ереси, отвергал языческие практики (ворожбу, чародейство, гадания), радел за христианские книги и христианскую мудрость. Вряд ли его можно назвать «секуляристом» в современном понимании. Предполагаемую «бескомпромиссность» Пересветова и его тягу к политической централизации невозможно обоснованно отделить от византийской традиции, в которой подчеркивалась самодержавная власть императоров, – даже султана Мехмета он хвалил за то, что тот практиковал «греческую» мудрость. В том, что Пересветов выступает от имени служилого дворянства как класса, можно усомниться хотя бы потому, что и в «Малой», и в «Большой» челобитной он описывает себя социально изолированным. Наконец, связь между рационализмом Пересветова и культурой Возрождения была бы более убедительной, если бы можно было доказать, что он действительно был начитан в тех греческих книгах, которые рекомендовал.
Однако если принять во внимание интерес Пересветова к османской культуре, его одобрительные упоминания латинских и греческих мудрецов, его любовь к книгам и разуму, а главное, приоритет правды над верой в его убеждениях, то можно усмотреть в нем выразителя некоторой неоднородности московских политических элит – то есть их все более космополитический состав и восприимчивость к влияниям с Запада и Юга. И все же было бы ошибкой рассматривать двор Ивана IV как предвестие петровского государства, поскольку у Пересветова не было известных последователей.
Бог и политика в «Степенной книге»
«Степенная книга царского родословия» – одно из самых значительных религиозных и политических произведений Московского государства середины XVI века. Историки долго спорили о точном времени и обстоятельствах его составления, но в итоге большинство ученых согласились с тем, что состав книги сложился приблизительно между концом 1550-х и началом 1563 года, а окончательно она была отредактирована между мартом и декабрем 1563 года52. Выдающийся историк П. Г. Васенко утверждал, что заслуга создания книги принадлежит московскому митрополиту Макарию (годы жизни: 1482–1563, митрополит Московский в 1542–1563). Однако, по мнению Васенко, Макарий скорее был инициатором проекта, чем редактором и составителем. По замечанию Васенко, несмотря на хорошее знакомство митрополита с древнерусскими источниками, «собственно писательская деятельность Макария ни в количественном, ни в качественном отношении не представляется… особенно выдающеюся». Тем не менее тематическая связность книги, повторяющиеся упоминания определенных происшествий и исторических деятелей, а также единообразие ее стиля навели Васенко на мысль, что книга, скорее всего, создана одним автором. Исключив прочие кандидатуры, Васенко пришел к выводу, что наиболее вероятным автором был протопоп Андрей, впоследствии – преемник Макария на посту митрополита (с именем Афанасий) [Васенко 1904: 208–212].
Андрей начал священническое служение в Переяславле, своем родном городе, где его духовным наставником был великий святой, преподобный Даниил Переславский, покровитель странников, бездомных нищих и сирот. После кончины Даниила в 1540 году Андрей почтил его память, составив умилительное житие, текст которого позднее был включен в «Степенную книгу» [Васенко 1904: 207–210]53. В 1550 году Андрей был поставлен протопопом Благовещенского собора Московского Кремля, а также стал духовником Ивана IV. Он сопровождал царя в казанском походе 1552 года – этот эпизод блестяще изложен в конце «Степенной книги». Два года спустя он крестил царевича Ивана Ивановича. Будучи приближен ко двору, протопоп Андрей установил дружеские отношения с митрополитом Макарием. В 1556 году он помог Макарию поновить любимую им икону святителя Николая. В 1562 году, когда Макарий тяжело заболел, Андрей передал царю письмо митрополита с просьбой уйти на покой [Васенко 1904: 211–212]. Литературное мастерство Андрея, стилистические соответствия между составленным им житием Даниила и текстом «Степенной книги», его близость к царю и дружба с Макарием в значительной степени свидетельствуют в пользу создания Андреем «Степенной книги». Предположение Васенко об авторстве протопопа Андрея было принято русским редактором последнего издания книги Н. Н. Покровским, но с двумя оговорками: во-первых, нельзя с уверенностью исключить непосредственное участие Макария в составлении и редактировании книги; во-вторых, найдены списки книги с правками, которые производились «не только в одном месте, но и почти в одно и то же время» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 90]. Таким образом, вдохновителем и автором плана «Степенной книги», возможно, был Макарий, но составил и написал ее в основном его протеже Андрей при редакторской помощи нескольких монахов-книжников в монастырском скриптории.
«Степенная книга» представляла собой огромную рукопись. Томский и Чудовский списки состоят из более чем 750 листов каждый. Последнее научное издание текста насчитывает почти 850 печатных страниц, не считая комментариев [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 147–594; Покровский, Ленхофф 2007, 2: 5–404]. С точки зрения структуры книга содержит в себе родословную правителей Древней Руси и Московской Руси, разделенную на 17 поколений, или степеней, отсюда и название – «Степенная книга царского родословия». Однако в действительности книга представляет собой историю России от ее истоков до правления Ивана IV, в которой переплетается история и политика, с особым упором на деяния православных святых и митрополитов. В названии каждой степени фигурируют имена митрополитов, тогда как имена князей упоминаются не всегда54.
Первые три раздела «Книги Степенной» – «Сказание о святом благочестии», «Житие святой княгини Ольги» и степень первая – занимают 130 страниц, или примерно пятую часть всего текста. В этих трех разделах описывается основание российского царствующего дома. В «Сказании» царствующий дом уподобляется райскому древу:
…яко райская древеса насаждени при исходищихъ водъ и правовѣриемъ напаяеми, богоразумием же и благодатию възрастаеми, и божественою славою осияваемии и явишяся яко садъ доброрасленъ, и красенъ листвеемъ, и благоцвѣтущь, многоплоденя же и зрѣлъ и благоухания исполненъ [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 147].
По замечанию Гейла Ленхоффа, «Степенная книга» здесь ссылается на образ небесного древа из Книги псалмов, где праведник – «как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё» (Пс. 1:3), а также на метафору райского сада из Книги бытия (Быт. 2: 8–9) [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 133–134].
Этими сравнениями и царскому дому, и Руси придавался ореол святости. «Многообразные подвиги» представителей царского рода также сравнивались с золотыми «степенями» лестницы, поднимающейся на небо. Как отметил Ленхофф, этот фрагмент содержит двойную аллюзию: во-первых, на лестницу Иакова, описанную в Быт. 28:12, которая «стоит на земле, а верх ее касается неба»; и, во-вторых, на 30-ступенчатую «Лествицу» Иоанна Синайского, объект созерцания православного монашества, образ, значимый для Сергея Радонежского и Иосифа Волоцкого [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 135–136]. Аллюзия на лестницу Иакова связывала жителей Московской Руси с избранным народом Израиля и побуждала читателей «Степенной книги» думать о Москве как о Новом Иерусалиме. Упоминание о «Лествице» Иоанна поощряло вспомнить о союзе веры, надежды и любви в Царстве Божьем. Таким образом, автор «Степенной книги» видел Россию и святым местом, и поприщем духовной борьбы за спасение.
В «Житии святой блаженной Ольги» и текстах степени первой речь идет о первых христианских правителях Руси, Ольге и ее внуке Владимире. Автор называет Ольгу «святой, богомудрой и равноапостольной», «блаженной» и «благословенной в женах русских», «праведной», именует «богоизбранной рачительницей премудрости, предивной в женах». [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 150, 159, 161, 178, 185]. Еще до обращения в христианство Ольга «премудрость и чистоты хранение обрѣте отъ Бога», так что ее будущий жених, князь Игорь «удивитися… мужеумному смыслу ея и благоразумнымъ словесемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 152]. Перед лицом убийц своего мужа Ольга «женьскую немощь забывши, и мужескимъ смысломъ обложися, и умышляше, како месть крови мужа своего сътворити» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 154]. Позднее она перехитрила не только византийского императора Иоанна Цимисхия, но и «лукаваго диявола, Еввина запинателя» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 160]. По мысли автора, Ольга после своего обращения стояла не в ряду женщин, происходящих от Евы, из-за которой «раискиа породы лишени быхомъ», а в ряду женщин, следующих за Матерью Иисуса Марией, «Ею же райская порода отверзеся». Ольга уподобилась святым женам-мироносицам, которые первыми приветствовали Воскресшего Христа, поскольку «…нынѣ в нашей Рустеи землиа женою первие обновихомся во благочестие» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 182–183].
Для автора «Степенной книги» Ольга была образцовой фигурой, по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, ее жизнь была примером того, как в истории могут плодотворно сочетаться Божие избранничество и человеческий разум. По мысли автора, Бог послал святого Андрея в Херсон, а затем на горы близ Днепра, где впоследствии будет построен Киев, где он благословил славянские земли и произнес пророчество о крещении Руси [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 150–151]. Бог также избрал Ольгу, чтобы та стала первой христианской правительницей Руси. С другой стороны, Ольга проявила «мужеумный смысл» еще до своего обращения, а после обращения принимала политические решения исходя из интересов своего народа, которые не вытекали напрямую из религиозных соображений. Автор подчеркнул тот факт, что мужчины из семьи Ольги – муж Игорь и сын Святослав – предпочли не креститься. Святослав, услышав от нее рассказ об истинной вере, ответил ей: «Аще и хотѣлъ быхъ креститися, но никто же не послѣдуетъ ми… И аще единъ азъ законъ христианъскиая вѣры восприиму, и тогда вси боляре мои и прочии чиновники вмѣсто повиновениа иже ко мнѣ поругаютъ ми ся и поношение и смѣхъ составятъ о мнѣ». О поведении Святослава автор замечает: «Въ душу бо неразумнаго не внидетъ премудрость» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 170–171]. Автор хотел этим подчеркнуть, что божественное избранничество и человеческий разум должны действовать вместе, чтобы народ преуспевал в христианской вере и благоденствии.
Во-вторых, Ольга проявила главные добродетели правителя. Помимо личного целомудрия, разума и хитрого расчета в достижении политических целей, она творила милостыню, «нагиа одевая, алчныя напитая, жадныя напаяя и странныя упокоивая всякимъ потребьствомъ, и нищая, и вдовица, и сироты, и болящая по премногу милуя и сихъ довольствуя всякимъ требованиемъ, и ему же что удобно, сими учрежашеся тихостию и любовию отъ чиста сердца» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 173]. Автор «Степенной книги» использует святую жизнь Ольги как зерцало для будущих праведных правителей.
В-третьих, обращение Ольги стало свидетельством того, что «Христосъ Богъ нашъ не презрѣ дѣла рукъ своихъ и не забы заблуждьшихъ людии своихъ, но благоволи помиловати насъ и воздвиже намъ рогъ благочестиа и начало спасениа не отъ иныя страны, ни отъ чюжиа земли, но отъ дому и отечества рускаго изращениа» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 158]. Для автора книги было очень важно установить, что православие – не чуждая вера, привнесенная извне, но произрастает из родной почвы. Это утверждение позволило автору изобразить Ольгу предвозвещающей на Руси истинную веру: «аки звѣзда предъ солнцемъ и яко заря предъ свѣтомъ, яко луна в нощи сиаше, тако блаженая в невѣрныхъ человѣцѣхъ светяшеся» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 178].
В «Степенной книге» излагается происхождение Владимира от римского императорского дома (от родственника кесаря Августа Пруса), но также и от «въ премудрости блаженныя и великиа княгини Олги» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 221]. Владимир именуется «Божиим избранным сосудом», «блаженным… равноапостольным царем», «благочестия ветвью», «апостольским ревнителем», «церковным утверждением», «идольским разрушителем», «благоверия проповедником» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 218–220]. Автор предполагает, что Крещение Руси проистекало из многих чудес: крещения болгар [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 277], «чудесного» перевода Евангелий с греческого на старославянский язык [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 278], исцеления Владимира от болезни, которая могла оказаться смертельной [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 276–278]. В книге утверждалось, что крещение народа произошло по воле Божьей, предзнаменовано пророчеством святого Андрея в окрестностях будущего Киева и вымолено Ольгой: «…мощенъ есть Богъ помиловати и рода моего и вся люди сиа рускиа. И яко же хощеть благостию Своею, тако да обратитъ сердца ихъ к разумѣнию благочестиа и всѣхъ просвѣтитъ святымъ крещениемъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 240–244].
Однако, согласно «Степенной книге», Крещение Руси также стало результатом усилий Владимира постичь веру с помощью разума и проверить ее приемлемость с политической точки зрения. Великий князь отправил посольства во многие страны, чтобы «слышети словеса премудрости», ибо «не бяше тогда въ дръжавѣ его ни книгъ, ни благочестивыхъ учителей». Он выслушивал многих, «кто же хваля свою вѣру» – ислам, римское христианство, иудаизм, греческое христианство. Греческое христианство он выбрал только после того, как удовлетворил свое любопытство относительно его догматов [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 245266]. Он также позволил своим приближенным выслушать посланных, затем спросил их совета и, наконец, обязал простой народ принять Крещение [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 271–272]. Воспроизводя эти подробности обращения Руси, автор «Степенной книги» стремился не только проиллюстрировать соработничество божественной и земной мудрости, но и обосновать необходимость для будущих князей действовать с религиозным рвением и земным благоразумием. Автор также попытался увязать более раннюю историю об исконном происхождении христианства с тем «фактом», что Владимир принял крещение лишь после того, как познакомился мудростью многих земель.
Согласно «Степенной книге», Владимир, крестившись, «…греческий законъ приатъ и научение вѣре, и многа блага дѣла показа: правду, длъготрьпѣние, любовъ, смирение, человѣколюбие, милость» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 281–282]. Епископ наставлял его:
Очи же твои да не причастны будутъ выну всякаго лукаваго зрѣниа. Ушима же твоима не приимаи никогда словесъ праздныхъ… Рукы же твои простерты имѣи къ требующимъ, удръжаваи же ихъ отъ всякаго неправеднаго граблениа… Тако же и ногы твои укрѣпляй тещи неослабно по пути заповѣдей Христа Бога… Пребывай же всегда в тихости и кротости, и въ смиреномудрии и въ умилении [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 282–283].
В то же время Владимир должен был оберегаться «да не прельстятъ [его] нѣцыи отъ еретикъ» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 282]. Таким образом, ему предстояло не только нести истину неверующим, но и противостоять им. В Киеве он уничтожил идолы языческих богов, бросая их в воды Днепра или сжигая [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 291]. Он стремился просветить Крещением всю Русь, «яко да вси отвратятся отъ идольскиа льсти, и отъ грѣхъ очистятся», «и сихъ учителными словесы с любовию наказати, прочим же и страхомъ запрѣщати» [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 292–293]. Таким образом, политическая программа Владимира основывалась на сочетании пассивных добродетелей и физического принуждения против врагов истинной веры.
Автор «Степенной книги» приложил много стараний, чтобы объяснить, как возможно примирить следование христианским добродетелям и применение силы. Это было совсем не сложно, когда православный Владимир воевал с безбожными печенегами: тогда он «всю надежю възложи на всесилнаго Бога» и «изыде противу имъ», а после победы построил на месте битвы церковь [Покровский, Ленхофф 2007, 1: 309–311]. Проблема насилия, однако, стояла более остро, когда Владимир размышлял о том, должен ли он применять силу против разбойников в пределах своего княжества – то есть, вправе ли он наказывать нарушающих закон христиан. Когда церковные иерархи сообщили ему, что «разбоиници умножишяся в земли нашей, многы бѣды и убийство людемъ съдѣвающе», и спросили его, почему он не положит конец этой напасти, он ответил: «Сего ради не дръзаю истребляти сихъ, бою бо ся Бога, аще въ грѣхъ вмѣнит ми ся, я мню, яко Богъ тако попусти. Аз же кто есмь, яко осужати на смерть человѣки? Сам бо много съгрѣшихъ и беззаконновахъ паче всѣхъ человѣкъ на земли». Епископы в ответ укорили его, заметив: