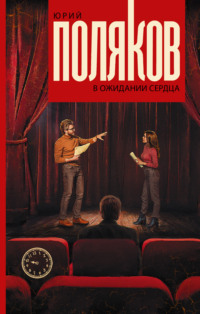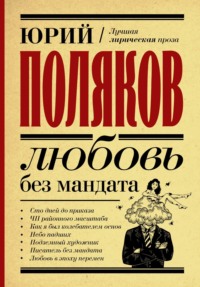Полная версия
Совдетство. Книга о светлом прошлом
После денежной реформы в первое время, если цена казалась слишком высокой, на всякий случай спрашивали у продавцов: это новыми или старыми? Потом такой вопрос стал вроде удивления: мол, почему же так дорого?! Когда маман принесла первую зарплату новыми деньгами, отец, увидев коричневую рублевку, чуть больше спичечной этикетки, аж крякнул:
– И это деньги? Как жить-то будем!
Но ничего – жили. Скопили сначала на гардероб со скрипучей, самооткрывающейся дверцей, потом на хрустальную вазу, затем на китайский стенной ковер с оленями, на фотоаппарат ФЭД и, наконец, мне на письменный стол.
– Вещь совсем недорогая, отечественная, – объяснял продавец. – Такой же стол, но румынский, стоит семьдесят два рубля. Берете?
– А он не из опилок? – с тревогой спросил я.
– Ну что вы, юноша! Исключительно – массив. Наши до опилок не скоро додумаются.
– Выпишите! – согласилась маман дрогнувшим голосом.
– Только видите ли, гражданочка…
– Ну, вот… так и знала… Сказали б сразу, что это образец, – с рыдающим укором начала она.
Слезы у нее всегда близко.
– Ну почему же образец? Товар продается, товар хороший, отличный даже товар, не опилки какие-нибудь, но с брачком.
– С каким таким брачком?
– А вот! – Продавец, словно фокусник, сдернул с угла журнал «Работница», и открылось страшное зрелище.
Полированная, почти зеркальная поверхность стола в этом месте была похожа на рваную рану, затянувшуюся лакированными струпьями, как сбитая об асфальт коленка.
– Кошмар! – вскрикнула мама. – Как же такое ОТК пропустил?
– В ОТК тоже люди работают, – вздохнул продавец. – И вовсе даже не кошмар. – Он положил на угол журнал, и стол снова стал совершенством советской мебельной промышленности. – Ну и что – выписывать?
– Даже не знаю… – Она сняла журнал с бракованного угла и в ужасе вернула на место.
– Тогда записывайтесь в очередь… Думайте! Стол мигом уйдет! – шепотом предупредил он, пряча приготовленную чековую книжку и карандаш в нагрудный карман.
Я в отчаянье представил себе, как стол, будто посыпанный порошком Урфина Джюса, стуча деревянными ножками, выходит из магазина и пропадает в толпе трудящихся, которые удивленно расступаются перед ним.
– Что же делать? – дрожащим голосом спросила маман и с надеждой посмотрела на меня.
Она снова и снова открывала и закрывала рану журналом – с обложки сурово смотрела женщина-водолаз. В отличие от покорительницы глубин моя маман страдает жуткой нерешительностью. Покупка, даже самая пустячная, – для нее мука. Сколько раз было так: она со счастливой готовностью говорит: «заверните!», но пока идет к кассе, на ее лице появляется сомнение, которое к тому времени, когда надо доставать из сумки деньги и платить, превращается в отчаянье.
– Гражданочка, выбивать будем? – сердится кассирша, занеся маникюр над клавишами аппарата, изукрашенного бронзовыми завитками. В маленьких окошечках прыгают цифры, складываясь в окончательную сумму, это чтобы покупатели не сомневались и готовили деньги заранее. На аппарате есть еще чеканная готическая надпись «Rheinmetall». Я учу немецкий и могу прочитать. Дядя Юра утверждает, что кассовые машины у нас трофейные, отобранные у побежденных фашистов.
– Дамочка, побыстрей! – возмущаются в очереди.
– Я… думаю…
– Тогда не мешайте другим! Отойдите и думайте, сколько хотите!
Но даже если маман совершала над собой нечеловеческое усилие, решилась, покупала и приносила вещь домой, начиналась новая мука. Выложив обновку на кровать, Лида сначала радостно ею любовалась, затем хмурилась, потом начинала всхлипывать, понимая, что совершила жуткую жизненную ошибку. Она лихорадочно искала чек, шуршала серой оберточной бумагой, упаковывая все, как было, и бросалась вон – сдавать покупку. Однако по мере приближения к магазину вещь начинала ей снова нравиться. Несчастная возвращалась, опять раскладывала обновку на кровати… И так несколько раз. Мученья обычно прекращал отец, вернувшись со смены. По красным заплаканным глазам он сразу определял, в чем дело, и грозно кричал:
– Где эта чертова тряпка? Дай мне ее сюда! Порву на куски! Разделаю, как черт черепаху!
Я никогда не видел, чтобы он действительно рвал в клочья какую-нибудь обновку, но, возможно, еще до моего рождения нечто подобное все-таки произошло, потому что при этих словах маман жутко пугалась и сразу приходила в себя. Лишиться покупки, пусть и неудачной, а также потраченных денег она, конечно, не хочет.
– Гражданочка, думайте скорей! – поторопил продавец. – Скоро закрываемся.
– Ну?! – Она с надеждой посмотрела на меня.
– Там будет стоять настольная лампа! – солидно объявил я.
– Правда! Ну конечно, лампа! А что же еще! Выписывайте немедленно!
– Вот, сразу видно, в доме есть мужчина! – Продавец снова вынул из нагрудного кармана карандаш и чековую книжку.
– Стойте! – взмолилась Лида и повернулась ко мне. – А если отцу с этим… с брачком не понравится?
– Понравится! – ответил я с той железной уверенностью, с какой в кино большевики убеждают несознательные массы.
– Точно?
– Абсолютно! У ФЭДа ведь выдержка на «125» не работает, а ему все равно нравится.
Речь шла о фотоаппарате, купленном месяц назад в универмаге напротив нарсуда. Придя домой, Тимофеич сразу же обнаружил неполадку. Он, конечно, злился на себя, что прошляпил брак, прицениваясь, но из гордости возвращать покупку в магазин отказался, несмотря на долгие уговоры матери.
– А ну их к лешему! Поработаю диафрагмой.
Услышав про ФЭД, Лида не обрадовалась, а побледнела.
– Господи, как же я забыла!
Оказалось, часть денег, скопленных на мой письменный стол, ушла на увеличитель, кюветы, бачок для проявителя пленок, фигурный резак, запасы дефицитной тисненой бумаги и прочие радости фотолюбителя. Маман пошла на все эти траты, чтобы отца не тянуло по воскресеньям из дому. Меня вот тоже все время тянет во двор, в ящики, но мне почему-то за это никто не покупает фотоаппарат, даже пустяковую пионерскую «Смену».
– А можно оплатить завтра? – жалобно спросила Лида.
– Только для вас! – вздохнул продавец, явно от нас уставший.
– В обед…
– В порядке исключения. Но не позже!
– Выписывайте! – коротко, словно решившись на безумство, выдохнула она.
– Как вывозить будем?
– У нас есть… на заводе…
– Значит, самовывоз? А то можем заказать грузовик?
– Сколько?
– Вы где живете?
– В Балакиревском переулке.
– Возле Казанки, – солидно уточнил я.
– Этаж?
– Второй.
– Лифт?
– Ну, какой у нас лифт!
– Рубля три с доставкой нащелкает.
– Нет, самовывоз! – отшатнулась маман.
– Ну, как знаете. Хозяин – барин! – Продавец лихо выписал чек и подмигнул мне, мол, видишь, как все хорошо получилось.
Мы вышли на улицу. Там совсем стемнело, и фонари оплывали густым ярким светом. На облетевших ветках тополей искрились капли воды. Ночью они замерзнут и превратятся в льдинки. Прохожих поубавилось. Мимо нас большая лохматая собака протащила на поводке свою очкастую хозяйку – мою ровесницу.
– Стоять, Рекс, фу! – строго пищала девочка и гордо озиралась.
Заговорить о пользе собаки в домашнем хозяйстве сразу после покупки стола я не решился, отложив на будущее.
Напротив, возле витрины гастронома, толстый мужчина в шапке-пирожке громко объяснял милиционерам на мотоцикле, что он ни в одном глазу и сам прекрасно дойдет до дому. Но старшина крепко держал его за рукав и ласково увлекал в коляску. Тот гневно отказывался. Зря! Я бы прокатился с удовольствием.
– Наверное, не надо было… – вздохнула маман, – …с брачком…
– Надо! – возразил я, понимая, что начинается приступ нерешительности.
– Может, все-таки потерпеть в очереди и взять нормальный стол?
– Там будет стоять лампа. Забыла?
– Нет, но…
– Бабушка Аня сказала, что у меня искривление позвоночника.
– Кому она сказала? Господи, не свекровь, а наказание!
– Пока только тете Клаве.
– Ах, ну что же мне делать?
– Купить настольную лампу.
На следующий день Лида взяла деньги в заводской кассе взаимной помощи и попросила у начальника транспортного отдела Компанейца «каблучок» – это такой грузовой автомобиль «москвич». Когда я вернулся из школы, у подоконника, закрывая батарею, уже стоял мой письменный стол. Поврежденный угол прикрывала своим широким основанием черная, явно не новая лампа. Я чуть не заплакал от радости, подбежал, погладил полировку, выдвинул и задвинул ящики, а потом нажал кнопку светильника, но он не зажегся.
– Ты думаешь, отцу понравится? – с тоской спросила маман.
– Конечно! А почему лампа не горит?
– Сломалась… она с завода… списанная… Но сказали, починить можно.
Когда Тимофеич вернулся с работы, я сидел за столом и, разложив учебники по заранее продуманной системе, делал уроки. Моя грудь удобно упиралась в ровный торец этого чуда советской мебельной промышленности.
– Удобно? – спросил отец, ласково потрепав меня по волосам.
– Очень!
– Хлипкий какой-то стол! – усомнился он.
– Это стиль теперь такой, современный, – занервничала, оправдываясь, Лида. – Сейчас вся мебель такая.
– Допустим. А почему без света глаза портим? – спросил отец и тоже нажал кнопку на основании лампы.
– Не работает, – объяснил я.
– Зачем же ты купила сломанную лампу, кулема? – Отец снисходительно посмотрел на жену, явно сводя счеты за бракованный ФЭД.
– Я не купила… это с завода… бесплатно…
– Позор несунам и взяточникам! – громким плакатным голосом объявил он.
– Ты что, она списанная… Мне просто так отдали. Но ты же починишь?
– Конечно! Или у нас в семье нет электрика? – Тимофеич потянулся к черной лебединой шее лампы, чтобы со всех сторон осмотреть неисправности. Мы с маман переглянулись. Это катастрофа. В ее глазах было отчаянье, даже паника. Разведчицы из нее явно не получилось бы.
– Матч! – коротко произнес я. – Сегодня матч!
– Молодец, сын! Как же я забыл-то! Заморочили голову столами и лампами. Потом, в воскресенье починю! – торопливо пообещал электрик и метнулся к телевизору. – А что у нас на ужин-то?
– Солянка.
– Да? К солянке полагалось бы… – несбыточно вздохнул он, включая наш многострадальный «Рекорд».
После визита мастера, устранившего неисправность, отец решил кое-что доделать в «ящике», поэтому теперь на экране метались искаженные тени, в которых с трудом угадывались хоккеисты, мечущиеся по льду за шайбой. Зато голос спортивного комментатора Озерова был отчетлив, бодр и громок: «…выходит к штрафной площадке, обводит защитника. Бросок! Шайба в воротах! Го-о-ол!»
– Твою ж мать! – взревел отец и без спросу полез в форточку за авоськой, где охлаждались напитки, заранее купленные к 7 Ноября.
– Миш, селедочку разделать? – тепло спросила маман.
– Разде-елать… – ответил он и посмотрел на нее с подозрением.
Помогая расставлять к ужину посуду, я вдруг замер и чуть не выронил из рук тарелку. Меня осенила гениальная мысль: «канцелярскую машину для очинки карандашей» можно привинтить как раз к дефектному месту. А если еще подложить под упор дощечку, якобы для сохранности полировки, то брачок будет надежно и навсегда скрыт от посторонних глаз. Дощечек у нас осталось много с тех пор, когда я увлекался выпиливанием лобзиком, но недолго, так как это занятие для неестественно усидчивых и терпеливых детей.
После ужина отец, разгоряченный тремя рюмками и проигрышем любимой команды, вышел на лестницу покурить и обсудить с соседями невероятный разгром «Спартака». А я торопливо, озираясь на дверь, выложил маман свой план окончательного сокрытия нашей тайны. У нее от радости даже округлились глаза: больше всего на свете она не любит, когда ее называют кулемой.
– А где это продается?
– В «Канцтоварах» у метро. Но ты все равно не купишь…
– Почему?
– Очень дорого.
– Ну, сколько?
– Шесть рублей.
– Новыми! – ахнула она.
– А какими же еще?
– Куплю. Возьму в бухгалтерии в счет прогрессивки. Завтра в обед сбегаю и куплю!
В тот вечер я долго не мог уснуть от счастья, стараясь различить в полутьме родные очертания письменного стола. Из форточки повеяло горелой гречкой: на Пищекомбинате опять пересушили концентрат. Удивленные рыбки толпились у освещенного стекла, разглядывая мое счастливое приобретение. Отец кряхтел, ворчал и ворочался, переживая за продувший «Спартак», потом встал, пошаркал к подоконнику и выключил рефлектор. Для обитателей аквариума тоже настала ночь.
2016, 2024
Природа шепчет. Повесть
1
По четвергам я хожу в изостудию Дома пионеров Первомайского района. Это на Спартаковской площади рядом с кинотеатром «Новатор», занимающим первый этаж большого кирпичного здания, а к нему примыкает старинный дом мышиного цвета – с куполом, с огромными окнами разной формы и высокими колоннами, словно вросшими в стену. У входа, слева от тяжелой широкой двери с латунными ручками, висит мраморная плита, а на ней золотыми буквами выбито, что здесь 30 августа 1918 года выступал перед рабочими сам Владимир Ильич. Отсюда он, между прочим, поехал на завод Михельсона, где в него стреляла подлая эсерка Каплан. Когда мы с классом ходили в Музей Ленина, я видел там в витрине черное пальто вождя: места, пробитые отравленными пулями, помечены красными нитками – крест-накрест. Я иногда воображаю, как вырасту, изобрету машину времени, перенесусь в прошлое, приду на митинг, протолкаюсь к вождю и тихо предупрежу:
– Владимир Ильич, не ходите на завод Михельсона, там засада!
– Что еще за глупости! – усмехнется бесстрашный Ленин. – Рабочие ждут. Я обещал. Непременно поедем!
Но бдительный Дзержинский, в длинной до пят шинели, нахмурится:
– Откуда, мальчик, у тебя такие сведения?
– Из будущего.
– Ты не ошибаешься?
– Исторический факт! – твердо отвечу я. – Честное пионерское! – и отсалютую.
Ильич будет спасен, история пойдет другим путем (каким именно, надо еще придумать), а меня Феликс Эдмундович наградит именным оружием – золотым маузером с кобурой из карельской березы. У тети Вали есть шкатулка из этого дерева, очень красивая. Посмотреть на мои награды, когда я вернусь назад, в наше время, сбежится вся 348-я школа. Любоваться я разрешу всем, но подержать в руках маузер Железного Феликса позволю лишь моему другу Петьке Кузнецову и Шуре Казаковой.
…Какие только фантазии не приходят в голову, когда, сдав контрольную работу, сидишь за партой и, глядя в манящее школьное окно, ждешь звонок на перемену.
Руководит нашей изостудией Олег Иванович Осин, настоящий художник, бородатый, одетый в грубый свитер, синие брезентовые штаны и обутый в ботинки на толстой подошве. Иногда он останавливается у меня за спиной и, тяжело вздыхая, наблюдает, как я на ватмане пытаюсь карандашом изобразить гипсовое ухо, в моем исполнении напоминающее пельмень. От Осина веет пряным запахом иностранных сигарет – у нас в общежитии такие никто не курит. К нему порой заходят друзья-художники, одетые в такие же свитера и штаны. Посасывая душистые трубки, они хмуро разглядывают наши рисунки, изредка бросая: «Недурственно». Это у них самая высокая похвала.
Раз в месяц Олег Иванович читает нам лекции по истории искусства, чтобы мы Репина от Рублева отличали. Задернув плотные шторы на высоких окнах, он гасит свет и с помощью черного проектора, похожего на небольшой гиперболоид инженера Гарина, показывает на белой стене разные знаменитые картины, рассказывая попутно, кто их нарисовал и к какому направлению они относятся. Иногда Осин сначала предлагает нам угадать автора, проверяя эрудицию старших студийцев. Вот, например, на штукатурке появляется странное изображение: перекошенные человеческие лица, рогатые бычьи головы, оторванные руки-ноги, а нарисовано все это в детском стиле каля-маля.
– Пикассó! – радостно узнает восьмиклассник Марик Каплан (как он живет с такой фамилией?).
– Верно! Но только – Пикáссо, – поправляет руководитель.
– Я тоже так могу нарисовать! – простодушно объявляет пятиклассница Даша Лунько.
– И я могу, – вздыхает Олег Иванович. – А толку?
Однажды он показал нам «Завтрак на траве» – и все захихикали, мальчики громко, девочки тихонько, в ладошку. Ну сами посудите, в лесу на лужайке в компании двух одетых дядек сидит совершенно голая тетя и смотрит на вас так, словно для нее позавтракать на природе в чем мать родила – дело обычное. Конечно, и у нас в общежитии тоже можно наткнуться на Светку Комкову, разгуливающую по коллективной кухне в распахнутом байковом халате и полупрозрачной комбинашке. Но чтобы вот так, без всего, на поляне, при всех – извините!
Услышав смех, Осин рассердился и долго, горячась, объяснял нам, что в искусстве обнаженное тело – это совсем не то что в жизни, на пляже или в бане, что великий Эдуард Мане нарочно поместил разоблаченную даму рядом с одетыми кавалерами, чтобы оттенить живую белизну кожи грубой фактурой коричневого сукна брюк и черным бархатом мужских курток, а заодно бросить вызов ханжеской буржуазной морали.
– Вы посмотрите, как написана зелень! Это же с ума сойти, а не трава! Видите голубой шелк, на котором она сидит? Какие переходы! Господи! Невероятные переходы! Нет, вы еще не понимаете! Вот поедем летом на этюды – тогда поймете! Теперь же просто запомните: Эдуард Мане, «Завтрак на траве». Не путать с Клодом Моне…
Между прочим, с середины мая, когда прогреется земля, мы тоже всей родней по воскресеньям выезжаем на травку – в Измайлово. Раньше мы бывали там часто – а теперь, после случая, о котором хочу рассказать, все реже и реже. Недавно, читая книжку про Тома Сойера, я узнал, что такой вот питательный выезд на природу называется «пикник». Смешное слово, почти «пинг-понг» или «пингвин». Пикники бывают разные. Если завком заказывает целый автобус, в который набивается пол-общежития, а всю компанию, набравшую с собой выпивки и закуски, вывозят куда-нибудь на берег Пахры или Клязьмы, такое мероприятие называется массовкой. Потом весь завод долго обсуждает, как наладчик Чижов пошел купаться и пропал. Его долго искали в камышах. Жена исчезнувшего уже начала рвать на себе волосы, рыдать, спрашивая у всех, на кого муж ее оставил? Хотели вызывать водолазов, и тут выяснилось, что наладчик просто-напросто в мокрых трусах пошел в соседнюю деревню испить парного молочка, как в детстве. Это и есть массовка.
Воскресный выезд на травку – это совсем другое дело, это мероприятие не профсоюзное, а семейное. В нем участвует родня, иногда отдаленная, и самые близкие товарищи, например Лидины подруги по пищевому техникуму или Пошехонов, ведающий на отцовом заводе «Старт» распределением спирта для протирки контактов, – очень добрый и отзывчивый человек.
Вот я иногда думаю: почему всех так влечет на природу? Ответ вроде бы простой: насидевшись за целую неделю в каменно-асфальтовом городе, люди, понятно, тянутся к зелени. Но я уверен, причина гораздо глубже: человек, как известно, произошел от обезьян, живших поначалу на деревьях, а вниз спускавшихся, чтобы размять задние конечности, если вокруг нет хищников. Этот неумолимый зов отдаленных предков постоянно манит и влечет горожан в лесную зону отдыха. А почему учащиеся дети, выбежав весной во время перемены во двор, тут же, несмотря на грозные окрики учителей, начинают цепляться и раскачиваться на ветках пришкольных деревьев? Потому что в них просыпаются первобытные инстинкты мохнатых предков. То-то и оно!
Впрочем, наша соседка Алексевна, ходившая в школу еще при царе, верит, будто первых людей Адама и Еву слепил из глины Бог и поначалу они жили в раю, напоминающем Ботанический сад в Сухуми, гуляли по лесу голые, как на картине Эдуарда Мане, а потом распоясались, забыли правила поведения в общественном месте, послушались говорящего змея-искусителя, типичного провокатора, сорвали и съели яблоко, запрещенное к употреблению, за что были с позором изгнаны из рая. Наверное, их выставили так же показательно, как милиционеры выводят под руки из парка культуры и отдыха подвыпивших граждан, которые шатаются, сквернословят, хохочут и всех уверяют, что капли в рот не брали.
Но история эта, на мой взгляд, какая-то непонятная и нелогичная. У нас в пионерском лагере «Дружба» возле столовой растут две яблони. Из года в год в начале второй смены медсестра обходит все отряды и объясняет: незрелую мелочь рвать с веток и есть нельзя, опасно для желудка, надо дождаться, пока плоды хотя бы начнут желтеть. И что? Ничего. Я езжу в «Дружбу» не первый год и еще ни разу не видел на ветках хоть одно созревшее яблоко, зато изолятор в июле забит пионерами с дальнобойным поносом. Короче, странно, что Бог так уж разозлился на Адама и Еву из-за одного-единственного фрукта. Дело-то житейское…
Алексевна, видя, что я не верю ее словам, обычно нервничает, капает себе ландышевую настойку и читает мне разные места из толстой ветхой книги – Библии. Чтобы не огорчать старушку, приходится кивать, хотя любому школьнику ясно: все это наивные сказки для малограмотных людей, не открывавших учебник «Природоведение». Но если, как иногда выражается кинопутешественник Шнейдеров, мы примем данную небылицу за рабочую гипотезу, то выйдет, что желание людей в воскресенье поехать на природу в Измайлово есть не что иное, как манящее воспоминание об утраченной жизни в райском лесопарке с бесплатным санаторным питанием. Что и требовалось доказать! Так говорит наш математик Ананий Моисеевич, ткнув в доску бруском мела и прикончив теорему, смысл которой во всем классе понятен только ему одному.
Однажды, в четвертом классе, наша учительница Ольга Владимировна растолковывала нам попавшееся в диктанте выражение «райские яблоки». Сначала она объяснила, что такое рай, а потом, словно спохватившись, уточнила, что такого места на небесах нет и никогда не было. Зато на земле рай, который называется коммунизмом, построить можно, чем и занят весь советский народ под руководством партии, стараясь поспеть к 1980 году.
Я поднял руку.
– Юра, у тебя вопрос?
– Да.
– Задавай!
– Значит, райком так называется потому, что оттуда руководят строительством рая?
– Кто тебе это сказал? – встревожилась учительница.
– Никто. Я сам догадался. Мама, если ее вызывают в райком, очень переживает, что ее там пропесочат, а когда возвращается, ворчит: «Руками водить все умеют!»
– Так и говорит?
– Ага.
– Очень интересно. Садись!
На перемене, играя у подоконника с Андрюхой Калгашниковым в фантики, я краем глаза заметил, как Ольга Владимировна шушукается с учительницами начальных классов Валентиной Ивановной и Зоей Петровной, и все они как-то странно на меня посматривают, загадочно улыбаясь и переглядываясь. Я хотел прислушаться к их разговору, что довольно-таки трудно во время шумной перемены, но в этот момент тонкий фантик Андрюхи, сложенный из обертки ананасового суфле, ткнулся в самый край моего толстого «Мишки на Севере».
– Подка! – объявил Калгашников.
– Целка, – возразил я.
– Ты где, ханурик, видел такую целку? – заорал он на весь коридор. – Чистая подка!
Учительницы вскинулись, будто их током ударило. Пожилые Ольга Владимировна и Валентина Ивановна строго нахмурились, а молоденькая, работающая первый год Зоя Петровна вспыхнула, как первомайский шарик, и убежала в класс. Оставшиеся учительницы подозвали нас, отругали за игру в неположенном месте, конфисковали фантики, посоветовали не употреблять слова, значение которых нам не понятно, и отправили в туалет – мыть руки, оказавшиеся, как всегда, грязными.
В уборной стоял густой дым: курили старшеклассники, они специально ходят на «детский» этаж, где ловить их с папиросами никому в голову не придет. Услышав, как мы взволнованно обсуждаем прерванную игру в фантики и недоумеваем, что именно так задело учительниц в слове «целка», курильщики обидно заржали и ушли, ничего нам не объяснив…
2
Потом, конечно, мне все растолковали. Дело в том, что «подка» – слово вполне приличное, а вот…
Но я, кажется, хотел рассказать о наших выездах на травку в Измайлово. При чем тут фантики? Ни при чем. Так иногда бывает у бабушки Ани, она начинает рассказывать про вредную врачиху Хавкину, не выписывающую нужные лекарства, а потом вдруг перескакивает на подушку, из которой неведомым образом исчезла половина перьев. Но у бабушки склероз, с этим даже Хавкина не спорит. А у меня? Неужели бывает и детский склероз? Надо полистать журнал «Здоровье». Хорошо бы. Тогда меня, как от физкультуры после простуды, освободят и от домашних заданий. Придет в класс новая практикантка, начнет урок, посмотрит в журнал:
– Полуяков, к доске!
А Ирина Анатольевна ей тихонько на ухо:
– У ребенка детский склероз. От всего освобожден.