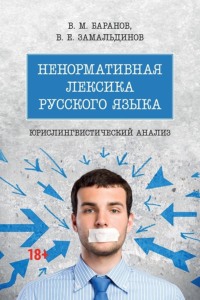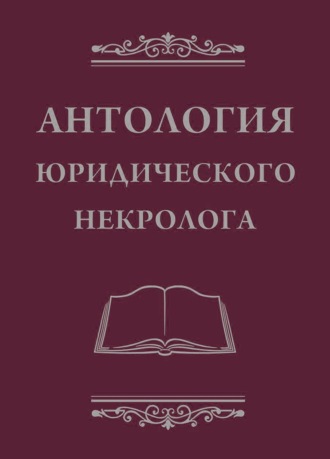
Полная версия
Антология юридического некролога
Он действительно говорил, что думал. Поэтому он и признавался слишком прямолинейным и не достиг того блестящего положения, на которое вправе был рассчитывать по своим талантам. Но все же он и не затерялся в толпе судебных деятелей.
A.M. выделялся среди них умом, образованием, верой в правосудие своей страны и верой в свои силы.
Он убежденно делал то, что мог на своем посту. Он не ронял достоинства своего положения и дал пример честного служения Родине.
Мир праху его!
Л.Л.Богацкий Феликс Доминикович[139]
4 мая в Одессе скончался один из старейших присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты, председатель совета присяжных поверенных Феликс Доминикович Богацкий. Покойный родился в 1847 году. По окончании курса юридических наук в Новороссийском университете со степенью кандидата прав в 1871 году Ф.Д. был зачислен кандидатом на судебные должности при одесской судебной палате и в течение свыше двух лет исполнял обязанности секретаря палаты. Однако служба по магистратуре его мало удовлетворяла, он оставил ее и перешел в ряды адвокатуры, записавшись помощником присяжного поверенного к Адаменку. По отбытии 5-летнего стажа Ф.Д. был принят в сословие присяжных поверенных округа Одесской судебной палаты и сразу выдвинулся как выдающийся цивилист. Скоро Ф.Д. был приглашен городским самоуправлением на должность городского юрисконсульта, каковую должность покойный занимал в течение многих лет. Ф.Д. Богацкий, помимо городских дел, имел еще немалую юридическую практику, главным образом по гражданским делам. Он выступал в некоторых громких гражданских процессах, обнаруживая всегда полное знакомство с порученными ему делами и тонкий юридический анализ правоотношений. Покойный был почти единственным в Одессе представителем того поколения варшавских литераторов, которое в эпоху 1877–1883 годов обновило литературную жизнь Польши и положило начало новейшей литературе о публицистике под знаменем «позитивизма». Богацкий помещал много статей научного характера в «Еженедельном Обозрении», в «Ниве», издал брошюру «Мнемоника» (1874), «Тайники духовной жизни» (1881), «О сущности психических явлений» (1883). Фамилия Богацкого часто встречалась в разных журналах того времени наряду с именами Бодуэна-де-Куртенэ, Юлиана Охоровича и др. Переехав в Одессу, работая здесь без устали на юридическом поприще, Богацкий, однако, не забывает литературы. Некоторое время вместе с покойным Милятицким он преподавал польскую литературу в частных семействах, в 1900 году в сборнике «Правда», изданном в честь Свентоховского, он поместил статью «Закон ритма». В 1914 году он издал на польском языке философские очерки. Когда в 1908 году были открыты польские клубы «Огниско» и «Дом Польский», Ф.Д. охотно присоединился к начинаниям Каленкевича и все время до 1916 года интересовался жизнью «Польского Дома», ежегодно читая два-три реферата на литературные темы. Эти его выступления были очень интересны и охотно посещались публикой. (Некролог его: «Одесский Листок». 1916. № 121.)
Богданович Николай Модестович[140]
6 мая в Уфе убит уфимский губернатор, действительный статский советник Николай Модестович Богданович. Преступление совершено двумя злоумышленниками, напавшими на начальника губернии во время его прогулки в городском парке. Н.М. Богданович был энергичным администратором, заявившим себя в сфере судебной и административной деятельности. По окончании курса в Петербургском университете со степенью кандидата прав он начал свою служебную карьеру в Министерстве юстиции в 1865 году, был товарищем киевского губернского прокурора и в 1879 году назначен товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. В 1887 году перешел на службу в Министерство внутренних дел и был назначен в Ломжу вице-губернатором. Через три года переведен вице-губернатором в Ригу и в 1892 году назначен исправляющим должность тобольского губернатора. В Сибири пробыл, однако, недолго. В 1896 году приглашен занять должность начальника главного тюремного управления, перешедшего незадолго до этого из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции, и в конце того же года назначен уфимским губернатором. Покойный управлял Уфимской губернией в течение семи последних лет и деятельно заботился о нуждах населения и об удовлетворении народной потребности в образовании, путях сообщения и экономическом благоустройстве. (Некролог его: «Новое Время». 1903. № 9759.)
Богдановский Александр Михайлович[141]
В Киеве скончался 5 января заслуженный профессор Новороссийского университета, известный криминалист Александр Михайлович Богдановский. Покойный родился в 1832 году в Тамбовской губернии, воспитывался в Николаевском сиротском институте, затем кончил курс в Московском университете со степенью кандидата прав. На двадцать первом году он был назначен исполняющим должность адъюнкта Ришельевского лицея по кафедре уголовного права и практического судопроизводства, через четыре года защитил диссертацию «Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого» на степень магистра уголовного права, назначен профессором лицея и вскоре – директором. При преобразовании Ришельевского лицея в Новороссийский университет A.M. принял деятельное и видное участие в этой реформе, затем был назначен экстраординарным профессором по кафедре уголовного права и занимал эту кафедру до 1887 года. В 1870 году он защитил диссертацию «Молодые преступники» на степень доктора уголовного права. Помимо профессорской деятельности, покойный занимался и публицистической работой. В 50-х годах он редактировал «Одесский Вестник» и умел привлечь к участию в этой газете Н.И. Пирогова, Ордынского, Савича и др. Под его редакторством «Одесский Вестник» отражал в себе передовые течения тогдашнего времени. Кроме того, он издавал вместе с А.И. Георгиевским Новороссийский литературный сборник, был председателем местного педагогического общества, членом Одесской городской управы, почетным мировым судьей. По выходе в отставку A.M. поселился в своем имении в Полтавской губернии и занялся сельским хозяйством, затем переселился в Киев. Покойному пришлось пережить несколько университетских историй: студенческую в 1869 году, Богишичевскую и др. Как профессор он пользовался большими симпатиями своих слушателей за свое всегдашнее добродушие, гуманность и нравственное мужество.
Бондырев Константин Васильевич[142]
И еще новая потеря в лице на днях умершего в Батуме от чахотки мирового судьи Константина Васильевича Бондырева, которому еще так недавно признательные батумцы подали сочувственный адрес. Думаю, что все знавшие и имевшие к К.В. дело как к знакомому и судье с грустью пожалеют о преждевременной кончине его.
К.В. – первый мировой судья в Батуме после взятия его в русское владение. Ему, представителю нового суда в бывшем турецком городе, – порто-франко – со всевозможными национальностями и обособленностями как в отношении права владения на землю, так и местного судилища – меджлиса, – пришлось много и много вынести трудов, чтобы показать и установить не только населявшим, но и всем пришлым европейским национальностям значение русского мирового суда. И это он достиг благодаря своему честному отношению к делу, образованию, знанию дела и опытности. Как бывший мировой судья 2-го отдела г. Тифлиса К.В. и здесь оставил по себе память хорошего и беспристрастного судьи.
При впечатлительности натуры непомерная деятельность и до гроба трудовая жизнь рано свели его в могилу. К.В. умер, изнеможенный от трудов и чахотки, оставив семье, к которой так сильно был привязан, собственных денег… 6 рублей!
Со смертью К.В. Бондырева общество лишилось идеального судьи. От души: «Мир праху твоему, честный человек!»
Г.В. ДаниловБоннер Александр Тимофеевич[143]
Это, конечно же, большая смелость – писать о человеке, который уже писал до того времени, когда ты родился, и общение с которым было лишь последние 14 лет из 83-х. Но кто-то еще меньше общался с ним и мог только читать его работы, а кому-то еще предстоит их открыть для себя.
Александр Тимофеевич начал писать свои замечательные работы еще в 1960-х годах. К тому времени, когда я поступил в Казанский государственный университет им. В.И. Ленина, он уже был широко известен. Надо отметить, что тогда еще не было интернета, не было правовых систем «Гарант» и «КонсультантПлюс». В то же время юридические книги в СССР выходили огромными тиражами, оставаясь при этом дефицитом. Поэтому чаще всего знакомиться с юридической литературой приходилось в библиотеке. Ну а тот юрист, который посещал Москву, старался посетить магазин «Юридическая литература», который располагался рядом со станцией метро «Студенческая».
Мое заочное знакомство с А.Т. Боннером состоялось даже не с прочтения его статей, а из восторженного отклика моего преподавателя Я.Ф. Фахрутдинова[144]. Притом, что я не читал работ А.Т. Боннера, этот восторженный отклик заинтриговал.
Первую книгу А.Т. Боннера я приобрел в Санкт-Петербурге в 2005 г. в книжном киоске, который располагался в арбитражном суде. Это была книга А.Т. Боннера «Избранные труды по гражданскому процессу», прилож. к Российскому ежегоднику гражданского и арбитражного процесса / А.Т. Боннер. СПб., 2005. Признаюсь честно, она стоила по тем временам очень дорого, но объем в 992 страницы говорил в пользу ее приобретения. Тот факт, что в книге не был указан размер тиража, вызывал опасения, что она скоро исчезнет из продажи. Поэтому я ее, конечно же, купил, а книга скоро исчезла из продажи.
Купив ее, я наслаждался тяжестью увесистого тома. Это прекрасно выполненное, можно сказать, роскошное издание было подготовлено Издательским домом Санкт-Петербургского университета, которое баловало процессуалистов Российскими ежегодниками гражданского и арбитражного процесса[145], трудами процессуалистов.
Пролистав содержание в очередной раз, я начал с очерка профессора М.К. Треушникова, посвященного автору. Познакомившись с А.Т. Боннером, его жизненным путем, приступил непосредственно к чтению книги.
К тому времени я уже практиковал в судах 15 лет и накопил большую кучу вопросов, на которые не было ответов в кодексах и в учебниках, по которым я учился. Среди них были вопросы о справедливости, пробелах в праве и прочее, прочее… К тому времени в поисках справедливости я уже окунулся в изучение доктрины: в 2005 г. Конституционный Суд РФ уже принял нашу жалобу о неконституционности ст. 336 ГПК РФ как не допускающей обжалование судебного акта лицами, не привлеченными к рассмотрению дела, даже когда решение вынесено об их правах и обязанностях[146]. Фактически в данной жалобе мы доказывали, что мы оспариваем не просто пробел, а квалифицированный пробел, который создает необоснованный доступ к суду. Остроту ситуации придавал тот факт, что судебное решение, которое мы пытались оспорить, было не просто несправедливым, а было частью атаки в корпоративной войне.
Таким образом, книга А.Т. Боннера была не просто интересна, а крайне важна для меня. Многие ее положения либо давали ответ на наши вопросы, либо приближали к получению ответов. В книге были раскрыты сложные вопросы разрешения споров из публичных правоотношений, пробельности процессуального закона, принципов процессуального права, проблемы доступности правосудия, соотношения законности и справедливости и др.
Почти тысяча страниц текста, написанного не просто ученым, но практиком делали эту книгу бесценным сокровищем. Она до сих пор в закладках, причем взяв сейчас ее в руки, я сделал еще несколько закладок – она до сих пор содержит в себе ответы на вопросы сегодняшнего дня.
Беспристрастность некоторых авторов воспринимается как равнодушие к предмету, данная же книга свидетельствовала о пристрастности автора к истине и справедливости. Эта книга была свидетельством не равнодушного, а страстного поиска автором истины. Огромное количество примеров из судебной практики показывало предмет обсуждения с разных сторон и обогащало понимание читателя. Использование А.Т. Боннером межотраслевого подхода, рассмотрение и анализ проблемы с разных областей юридических знаний, соединенное с демонстрацией на примерах правоприменительной практики, делало его книгу особенно ценной. Мое уважение к А.Т. Боннеру после прочтения данной книги выросло многократно.
Следующее столкновение с творчеством А.Т. Боннера было еще более впечатляющим. Осенью 2006 г., когда мы готовились к рассмотрению в Конституционном Суде РФ нашей жалобы о неконституционности ст. 389 ГПК РФ (которая предусматривала ничем не ограниченное ни по основаниям, ни по срокам право Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей истребовать любое дело и передать для рассмотрения в Президиум Верховного Суда РФ), мы получили из Конституционного Суда РФ большое количество научных заключений.
Среди них было и Заключение Московской государственной юридической академии, подготовленное доктором юридических наук, профессором кафедры гражданского процесса МГЮА А.Т. Боннером и кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского процесса МГЮА О.Ю. Котовым.
Было очень приятно узнать, что авторы согласились со многими положениями нашей жалобы: с тем, что порядок возбуждения надзорного производства, предусмотренный ст. 389 ГПК РФ, не зависящий от воли сторон недопустим, – «такой порядок возбуждения дела в одной из стадий гражданского судопроизводства находится в противоречии с принципом диспозитивности гражданского процессуального права»… «Принцип правовой определенности не носит самостоятельного характера, является частным проявлением принципа законности. Отклонение от принципа правовой определенности в отдельных случаях возможно, однако отклонение от этого принципа оправданно, только если это необходимо при наличии существенных и бесспорных обстоятельств. Применительно к российским реалиям к числу таких существенных и бесспорных обстоятельств можно отнести, например, наличие постановлений, определений Конституционного Суда Российской Федерации, которым нормы, на основе которых разрешено дело, признаны неконституционными либо дается толкование закона, в свете которого становится очевидной серьезная ошибка, допущенная судебными органами при разрешении существующего спора или дела. В качестве существенных и бесспорных обстоятельств могут быть признаны не учтенные судом, разрешавшим спор по существу, решения Европейского Суда по правам человека, принятые по аналогичному делу. Сюда же может быть отнесено наличие грубых, а порой вопиющих судебных ошибок, которые не должны заключаться лишь в существовании двух взглядов по делу, т. е. разных точек зрения, имеющих по тому или иному вопросу в теории или практики»[147].
Также эксперты обратили внимание Конституционного Суда РФ на противоречивость и неясность норм ГПК, касающихся такого основания для пересмотра судебных актов, как «единство судебной практики», указанного в ст. 389 ГПК. При этом они привели конкретные примеры, когда сложившееся единство судебной практики в судах общей юрисдикции противоречит, во-первых, закону, во-вторых, другому единству – единству судебной практики в арбитражных судах по применению той же нормы материального права.
Безусловно, высокопрофессионально подготовленное заключение было нам хорошим подспорьем. К сожалению, мы его получили слишком поздно и не успели связаться с авторами заключения, чтобы узнать об их готовности выступить экспертами в Конституционном Суде РФ. Чуть раньше мы получили другие заключения, в том числе заключение Санкт-Петербургского государственного Университета, подготовленное профессором, доктором юридических наук В.А. Мусиным. Дозвонившись до В.А. Мусина, мы получили согласие на его участие в качестве эксперта и заявили соответствующее ходатайство в Конституционный Суд РФ.
К сожалению, не все запланированное в судебном процессе удается реализовать. Наше ходатайство Конституционный Суд стал рассматривать лишь в судебном заседании в ноябре 2016 г. и, поскольку В.А. Мусин не был официально приглашен, он не прилетел из Санкт-Петербурга (напомним, что тогда Конституционный Суд РФ был в Москве). Когда началось судебное заседание и мы поняли, что удовлетворение нашего ходатайства вызовет отложение судебного разбирательства, мы вынуждены были отказаться от этого ходатайства.
Но на этом же судебном заседании присутствовал один из ученых – доктор юридических наук, который давал письменное заключение по поставленным Конституционным Судом РФ вопросам, – это был А.Т. Боннер[148]. К нашему сожалению, мы об этом узнали не до судебного заседания, а лишь в перерыве, когда он к нам подошел пообщаться. Нам было очень приятно с ним познакомиться вживую и получить его поддержку. Впрочем, он подошел также потому, что, выслушав другого доктора юридических наук, привлеченного экспертом, хотел бы ей возразить, но как непривлеченный в качестве эксперта он не имел возможности выступить и просил высказаться вместо него.
Позже мы даже написали статью, в которой мы высказали идею, что «лицо, которое по поручению Конституционного Суда РФ давало письменное заключение, должно иметь возможность, при наличии желания, выступить в Конституционном Суде РФ. Хотя, конечно, о таком желании Конституционный Суд РФ должен быть извещен заранее, с тем, чтобы Конституционный Суд РФ мог обеспечить данное лицо всеми материалами дела. Вполне возможно, что изъявление такого желания может изменить процессуальный статус лица, дававшего заключение, с amicus curiae на эксперта либо специалиста»[149].
Надо отметить, что Александр Тимофеевич хотел обратить внимание Конституционного Суда РФ на ошибочность утверждения, «поскольку мировые судьи рассматривают мелкие незначительные дела, то нет необходимости предусматривать их обжалования в Верховный Суд РФ». Это утверждение легко разбивалось о факты – мировые судьи рассматривали разводы, в том числе разводы олигархов. (Не могу не отметить, что его замечания носили не абстрактный характер, не были просто его мнением, а сопровождались ссылкой на конкретные дела.) Соответственно, решения мировых судов могли быть о миллиардах рублей, о судьбах предприятий…
Вот так произошло наше очное знакомство, мы обменялись телефонами, эл. почтой. Я был счастлив познакомиться с крупным ученым, живым классиком и иметь возможность общаться. В этой встрече мне он открылся не только как высококомпетентный специалист, но и как принципиальный борец за справедливость, а не равнодушный созерцатель.
Следующая наша встреча раскрыла для меня А.Т. Боннера с другой стороны. 3 октября 2008 г. в Московской государственной юридической академии состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти доктора юридических наук, профессора Рафаэля Егишевича Гукасяна «Судебная защита прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций». После окончания конференции состоялось небольшое застолье, где тамадой был А.Т. Боннер. Я увидел, как органично у него получалось быть душой общества, как он легко и с юмором управлял этим обществом, не забывая никого и передавая слова с необыкновенным красноречием. Видно было, как коллеги его любили и гордились им, его красноречием. Его тосты были высокоинтеллектуальны и очень органично вплетались в русло встречи – продолжения конференции.
Год спустя мне удалось приобрести его новую книгу: Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: Монография. СПб.: Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2009. Книга оказалась не просто великолепна, она была глотком свежего воздуха после атмосферы формализма и бездушности судебных баталий, в которых судьи истину даже не искали, а лишь пытались отписать судебный акт с тем, чтобы он был более устойчив в вышестоящих инстанциях.
Мне запомнились слова Боннера, предваряющие книгу: «…слухи о смерти принципа объективной (судебной) истины в современном гражданском процессе явно преувеличены…»
Эта книга вызвала еще больше уважения к Александру Тимофеевичу, к его компетентности и работоспособности. Безусловно, он был человек науки, и общаться с ним по поводу сложных правовых проблем было очень легко, поскольку он имел живой интерес к науке и ее развитию. Совпадение точек зрения по многим вопросам сделало общение простым, естественным. И через некоторое время пиетет и волнение, существовавшие, как барьер, при общении с мэтром перестали быть барьером, тем более, что он был открыт для общения, и вскоре мы с ним уже даже спорили.
С тех пор было много телефонных разговоров, электронной переписки, и когда я вылетал в Москву, я мог себе позволить договориться о встрече для обсуждения различных процессуальных проблем. Он поддержал нашу идею издания и «Вестника гражданского процесса», и «Классики гражданского процесса», согласившись войти в редакционные советы. Было еще много встреч на конференциях и симпозиумах.
Через некоторое время общения я стал считать необходимым отправлять ему свои статьи и книги и даже некоторые свои жалобы в Конституционный Суд РФ. Причем многие статьи я отправлял, даже еще не опубликованные. Я должен признаться в том, что их мной написано достаточно много отчасти благодаря дружеской поддержке А.Т. Боннера, который всегда находил необходимым ответить и написать ободряющие и мотивирующие слова:
И Вам привет, Айдар Рустэмович!
В порядке «алаверды» посылаю Вам свою по КАСу.
С уважением, Боннер Александр ТимофеевичАйдар, добрый день! С большим удовольствием прочитал Вашу новую статью[150]. А где она будет опубликована? Мне также приятно, что Вы знакомы с работой моего бывшего аспиранта В.А. Пономаренко[151].
Всего наилучшего! А.Т.Молодец, Айдар Рустэмович, хороший мальчик! Научная потенция бьет ключом! Осталось только собрать «кубики» в виде книг и статей и сложить из них крепость. Желаю здравствовать!
Ваш А.Т.Ну Вы, друг мой, даете!
А.Т.Айдар Рустэмович! У меня нет слов. Удивлен и восхищен! Ну, а может быть при очередной задержке самолета Вы смонтируете еще одну работу?
А. Т.Айдар! Статья, безусловно, очень интересная и хорошо написанная. А вот что касается «последней статьи», то не поверю. Уверен, что Ваша на самом деле последняя, а точнее – серия последних статей – будет опубликована после Вашей безвременной кончины.
(Да продлит Великий Аллах Ваш годы на долгие лета!)
А.Т.Айдар, я Вас приветствую! Ваша статья очень глубокая и интересная.
Но полагаю, что она могла бы быть еще более интересной, если бы там было использовано больше судебной практики, а не единственное Постановление ЕСПЧ.
Ваш А.Т.Дорогой друг и неоднократный товарищ!
Волею судеб встретил день 1 мая, как праздник труда, просидев пару дней над Вашим опусом. По сути все правильно, но, как мне кажется, имеются некоторые редакционные шероховатости. Исходя из собственных представлений о прекрасном в стилистике, я попытался подправить. Вполне естественно, что мои замечания и предложения Вас ни к чему не обязывают. Можете принять их полностью или частично либо полностью отклонить.
Синим выделено то, что, как мне кажется, следует убрать, красным – вставить, а коричневым – разного рода пожелания, размышления и рекомендации.
Да поможет Вам Всевышний!
Ваш А.Т.Безусловно, такие слова и забота старшего товарища побуждали и дальше писать и заниматься наукой. И радуясь каждой новой работе А.Т. Боннера, сразу же покупая его новые книги, черпая в них ответы на актуальные вопросы практики. Мы не будем перечислять здесь все его книги, поскольку большинство из них вошло в вышедший в 2017 г. семитомник избранных трудов А.Т. Боннера[152]. Хотя надо отметить, что не всё вошло в эти тома. Более того, мы не знаем, сколько на самом деле у него было работ. Известно, что более 260, но часть работ была опубликована под псевдонимом, был период жизни, когда его не публиковали из цензурных соображений, которые были основаны на его родстве с Еленой Боннэр – членом Московской Хельсинской группы, женой академика А.Д. Сахарова.
Семитомник был прекрасно издан, но достаточно дорог по цене, которая меня не остановила, и я сразу же приобрел этот семитомник, как только узнал о его выходе. Впрочем, я об этом немного пожалел, не из-за содержания, ни в коем случае. Этот семитомник и по сей день является подспорьем в разрешении нетривиальных вопросов, по некоторым вопросам из процессуалистов только у Боннера хватало смелости поднять их для рассмотрения и обсуждения и поиска их решения.
Причина моего сожаления была в том, когда я был у А.Т. Боннера дома по его приглашению, он хотел мне подарить этот семитомник и подписать его, но черт меня дернул сказать, что у меня уже есть… Получилось весьма глупо – у меня были практически все его книги, и я лишил его возможности подарить книги, о чем до сих пор жалею. Я себя оправдываю тем, что я знал, как дорого стоит семитомник и что это был бы очень дорогой подарок при том, что он у меня уже был… Но все же я здесь был неправ. Автору всегда приятно поделиться своими трудами, особенно зная, что книга не будет пылиться на книжной полке, а будет прочтена внимательно и будет использована, а идеи автора будут продолжены.