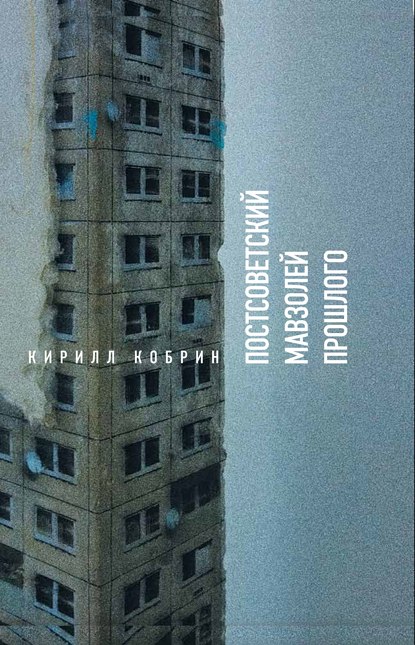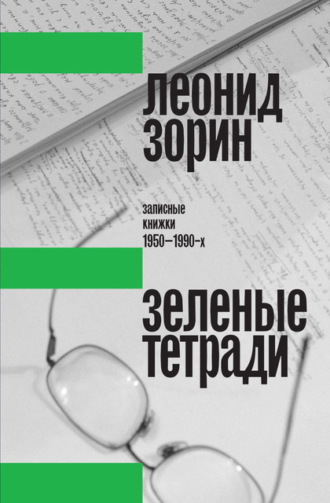
Полная версия
Зеленые тетради. Записные книжки 1950–1990-х
Бойтесь убежденных людей, бегите от аскетов и праведников – они никогда вас не пожалеют. Как только встречаете человека, который сообщает, что органически не способен солгать, немедленно переходите на другую сторону улицы.
У Шеллинга интуиция – вершина интеллекта. У Бергсона – как раз наоборот. Вечный спор – мысль ли рождает прозрение или прозрение рождает мысль.
Мастер объединяет крайности. Комизм и трагедийность, реалии и мифы – все рядом и вместе в его стране. Истина, верная и в частностях. Вспомним призыв Анатоля Франса: «Сталкивайте эпитеты лбами!»
Чем больше мы знаем, тем меньше становимся.
Иногда кажется, что уж лучше Сталин, чем Суслов. Вот до какого умопомрачения может довести триумф бездарности.
Нет коварнее западни для писателя и – соответственно – большей драмы, чем официальное признание.
Лишь подумать, сколько лет распевают: «А паразиты – никогда», плодя иждивенцев и казнокрадов.
Грибоедов в советскую пору дважды был подвергнут цензуре. И оба раза за две строки: «Хоть у китайцев бы нам несколько занять Премудрого у них незнанья иноземцев». В 1949-м эти строчки вычеркивали, чтоб не обидеть китайцев. В 1969-м – вычеркивали, чтобы не похвалить.
П. рассказывал о своем дяде. Приезжая в Москву, почти на рассвете, он будил их звонком, входил в дом и спрашивал: «Объясните получше, где тут гостиница?» – «Что за глупость? Поставь чемоданы…» Дядя: «Ах, так? Ну, хорошо… Будь по-вашему…»
Какая женщина не мечтает вызвать в мужчине сильное чувство и какую женщину не тяготит это желанное сильное чувство? Маяковский – красавец, талант, победитель, но каждую встречу воспринимавший как драму, был изначально обречен.
Ни похвала, ни порицание ничего не меняют в произведении. Оно таково, каково оно есть.
Отборные крупнокалиберные болваны.
Неоднократно читал, что Ливанов был и умен и остроумен. Недаром же и Борис Пастернак находил безусловное удовольствие в обществе своего тезки. Разумеется, я знал его мало, мои впечатления поверхностны. Возможно, что мне не повезло. В подпитии он терял тормоза и что-то твердил, не умолкая, жарко прижимал меня к сердцу, требовал написать ему роль. В трезвом виде он поражал каким-то младенческим простодушием, хотел похвал, был крайне обидчив. Помню, однажды в Театре Вахтангова столкнулся со мной в антракте и – с ходу:
– Слава Богу, мы с вами встретились на этой нейтральной территории. В Художественный театр я не хожу. Отвратно видеть этих шакалов, всю эту ядовитую нечисть. Каждое слово – это ложь. Каждая улыбка – обман. А хуже всего – администрация. Директор – это же просто Лоуренс. Помните, Лоуренс Аравийский. Агент этой министерской шайки. Он надевает овечью шкуру, притворяется вашим благожелателем, на самом же деле плетет свою сеть! И не свою! Фурцевский прихвостень!
В ту пору руководителем МХАТа был назначен Олег Ефремов. Ливанов, естественно, претендовавший на это место, был оскорблен.
– И все проделано за спиной, по всем правилам низкопробной интриги. С отвратительными улыбочками, поцелуйчиками и приседаниями, с уверениями в любви и преданности. Акулы, кашалоты и спруты. При этом – с куриными мозгами. Не понимают, что не меня – себя раздели, себя унизили. Предстали теперь перед всем миром в своей омерзительной наготе! И если кто-то до сей поры думал – по наивности, – что перед ним люди, теперь и этот простак убедился: нет, не люди – грязные твари! Не люди, а человекоподобные! Гориллы, макаки и шимпанзе. Пусть они даже млекопитающие, на самом деле они пресмыкающиеся. Змеи, фаланги и скорпионы.
Зрители, проходившие мимо, слушали, с интересом поглядывали. Мое положение было нелегким, но Ливанов на этом не успокоился, почел своим долгом меня остеречь:
– Избави вас Боже им довериться. Они вас оближут, но в этом елее будет яд, и при этом – яд смертельный. Я вам дружески говорю: бегите, бегите от этой публики! Едва завидите их вдалеке, поворачивайтесь и тут же бегите! И упаси вас Бог обернуться. Бегите, бегите, не останавливаясь! Только так и спасете свою жизнь.
Чехову, оторванному от Книппер, от милой Москвы, от столичной жизни, которая кажется на расстоянии столь притягательно живописной, нравились такие стихи маленького поэта Федорова: «Шарманка за окном на улице поет. Мое окно открыто. Вечереет. Туман с полей мне в комнату плывет, Весны дыханье ласковое веет. Не знаю, почему дрожит моя рука, Не знаю, почему в слезах моя щека…» Господи, до чего жаль Чехова!
Скучно на вашем свете, товарищи!
«Remplir ma mesure du destin» – все же слишком по-галльски кокетливо, чтоб поверить в эту покорность судьбе.
В который раз возвращаюсь к словам Чернышевского: «Земля не место суда, а место жизни». Он это знал, вечный судья, вечный арбитр, вечный наставник! Должно быть, проговорился в тот миг, когда не охранял своей тайны. Эти несчастные доктринеры умели сами с собой расправиться, как не снилось ни одному их гонителю, ни самому злобному жандарму, ни самому злобному режиму! Вот и Герцен: «Мы – не врачи, мы – боль». Да оттого и писатель, что «боль». А все врачуют, врачуют, врачуют…
ИнтерлюдияКак сокрушительно сильна не блекнущая с годами власть запахов! Помню, как радовал меня в детстве праздничный резкий запах мастики, будто обновлявшей полы, а в юности – запах кожи и дерна, запах футбола и стадиона. И эти сводящие с ума, ни с чем не сравнимые запахи лета – только что скошенной травы и хвои, сухой, прогретой солнцем.
Помню один летний денек. Девушка собирает вишню, вся красная от вишневого сока – и руки, и грудь, и смуглая шея. Великое множество перепелок с их криком «пить пора! пить пора!». Жарко горят желтые мальвы, так светятся, что и комната солнечней. Полевые цветы пахнут медом, трава уже поднялась по пояс и тоже пахнет – ветром и жаром.
Помню и летний киевский вечер после одной из моих премьер – Крещатик, исходящий от зноя, кипящий асфальт, гул голосов и сразу же – душный гостиничный номер. И это внезапное чувство сиротства, когда я остался в нем один. И все-таки не вполне один – так долог и стоек был запах духов. А молодая весна в Крыму! Вьются лепестки миндаля. На базаре гуляют запахи. Острый запах талой земли, острый запах свежего лука.
Помню и другую весну – неприветливую, суровую, северную. На сопках распустились подснежники. Пушистые, в серебристых шубках, словно скрывающих под собой темно-сиреневый колокольчик. Лес пахнет лиственницей и березой. Скоро уж брызнет березовый сок. Пахнет уже начавшимся таяньем.
И все же сильнее всего на свете меня волновал и дурманил запах сырого прибрежного песка, так напоминавший о море.
Надо ж было всю жизнь отдать этим пьесам, чтоб понять, что твое спасение в прозе!
Мережковский цитирует Никитенко: «Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича. …Правительство… принимая начало, не допускает последствий». «Но начало без последствий, – пишет Мережковский, – в этом вся сущность рабьей свободы: по усам текло – в рот не попало».
(Позднейший комментарий: Если в 1972-м эти слова так задели, когда «началом» вовсе не пахло, то как они жгут в 1998-м!)
И вновь Мережковский: «Кошачьи подарки, собачьи отнимки… в конце медового месяца – тещина рожа реакции. «Все это уж было когда-то». Было и есть. Есть и будет».
Да, темпераментный был господин. И весь темперамент ушел в перо. Для женщины ничего не осталось.
Это сакральное слово «семья» так часто стыкуется в твоей памяти с чем-то бесконечно унылым и бесконечно неэстетичным.
По пляжу шествует рыхлая дама лет сорока в черном купальнике. Рядом тащится дочь, лет примерно пятнадцати, с длинным вытянутым лицом, с глазами, похожими на оловянные пуговицы, с руками, повисшими, как ветви ивы. Дама громко и кокетливо-томно ее призывает: «Ну же, заяц, быстрей». Дочь не реагирует. Сзади трусит сухопарый лысый глава семейства в черных длинных трусах, с худыми ручонками, с венозными тощими ногами. Сколько таких же тоскливых картинок застряло в моей несчастной памяти.
Когда хочешь освободить человечество и тем более его осчастливить, вспомни, отправляясь в поход, слова Милля о «сплоченной посредственности». Conglomerated mediocrity – сила столь же невосприимчивая, сколь беспощадная и безжалостная.
Если человек – венец творения, то зачем ему личное спасение? Видимо, в этом и есть отличие иудаизма от христианства. Еврей всегда спасал человечество, вместо того чтобы спасать себя. Вот он и получил по заслугам.
Хасиды считают, что Бог всюду, куда мы сами впускаем его, цель и назначение – впустить Бога. Вот и толстовское «царство Божие внутри нас» привело графа, в конце концов, к отлучению. В первооснове – хасидская ересь.
Даже Лейкин, искренне расположенный к Чехову, Лейкин, издававший «Осколки», укорял Чехова за легкомыслие! И нашел он его в «Даме с собачкой». «Этот рассказ, по-моему, совсем слаб… Действие в Ялте… Пожилой москвич-ловелас захороводил молоденькую… только что вышедшую замуж женщину… Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли?»
Бедный Чехов! Весь век одно и то же. Либо зависть врагов, либо тупость друзей.
Даже для маленького газетчика не существует произведения, не заключающего в себе необходимое моралите. В «Волжском слове» в 1911 году помещен такой отзыв о «Пиковой даме», исполненной некими гастролерами: «Опера замечательна тем, что два великих художника – А.С. Пушкин и П.И. Чайковский пришли к одной мысли – пригвоздить к позорному столбу нашу позорную приверженность к картам».
Мы серьезны, мы чрезвычайно серьезны. Недаром усвоили законы приличия и правила хорошего тона. Особенно неудобоваримы писатели-миссионеры. Еще бы! Наставляя людей, ты просто обязан смотреться мыслителем. И что за чтение, если оно не изнурительный каторжный труд?! Никогда я не мог читать Леонова. Неужели он заходился от радости, когда сидел за своим столом? Высокопарное чревовещание, перенесенное на бумагу. Всегда вспоминались слова Глазунова, сказанные одному композитору: «Мне кажется, вам предложили выбор – сочинять музыку или идти на виселицу».
Никто так не выразил драму старости, как Петр Вяземский одной лишь строкой: «Я жить устал, я прозябать хочу».
Сел читать пьесу N. Что за дьявольщина! Вот уже десять страниц пролетело – ничего в голове не остается, ничто не задерживает внимания. Какой-то бессмысленный галоп. Стал перечитывать и понял: каждая реплика – вне характера. Все лица сливаются в одно.
У скромного поэта Лисянского нашел я славное четверостишие, вполне способное вызвать отклик: «Отмечталось, отлюбилось, Отболело все давным-давно. Даже имя вроде позабылось. А ведь было музыкой оно».
Смотрю на наших ученых дам, на наших создательниц репутаций, штамповщиц вердиктов и тайно думаю: «Может быть, эта несчастная Гипатия из города Александрии была растерзана темной толпой в году 415-м не потому, что она увлекалась философией и астрономией, не потому, что она была сторонницей неоплатонизма и не потому, что преподавала в прославленном Александрийском музее… Что, если она допекла земляков своей гордыней, своим тщеславием, всегда демонстрируемым превосходством и нескрываемым самодовольством? Тем более было ей сорок пять, а эти свойства прощают лишь в двадцать…
В старости Олеша часто вздыхал: мы увидим небо в тех или иных алмазах. Постареть он так и не смог – южный неутоленный мальчик угадывался в каждом движении, в каждом слове и каждом жесте. И вся повадка была мальчишеской – вечно он куда-то спешил, не мог усидеть на одном месте. Старый, много видавший шарф, трехцветный, как французское знамя, бился под ветром на дряблой шее, точно плохо натянутый парус. Пальтишко расстегнуто, как и рубашка, – видна была грудь в седых волосках. И говорил он, как будто несся, слова наскакивали одно на другое.
Он смотрел на ее лицо в окне, едва его видел, не различал. «Почему так смутно?» – не понимал он и лишь потом догадался, вспомнил, что так и не снял темных очков.
Шоу был мастер обставлять свои дискуссии декоративно. Они неизменно происходят в самых немыслимых ситуациях между, казалось бы, самыми странными, несочетаемыми оппонентами. Это было его уступкой сцене и ее подростковым условностям, уступкой зрительской жажде игры – снисходительной уловкой мыслителя, отстаивающего право быть выслушанным.
Июнь 1973. Надо написать об Алексее Орлове – как глуп он был, отказавшись от Таракановой ради своей государевой службы. (Позднейший комментарий: «Царская охота» была написана год спустя.)
Издатель требовал от Брамса веселой музыки – только ее и хочет публика. Брамс сдался и принес ему ноты. «Вот то, что вам хотелось», – сказал он. Издатель с дрожью прочел заголовок: «Весело схожу я в могилу». Сразу же вспомнился Томас Манн, точно определивший гуманность поистине прелестной триадой: музыка, пессимизм, юмор.
Идее недостаточно быть великой, ей жизненно важно быть своевременной. В отличие от Аристарха Самосского Коперник дождался момента истины.
В редакции «Советского спорта» над входом в буфет с грязноватой стойкой (бутерброды с несвежей колбасой, соки, винегреты, салат), с четырьмя столиками и металлическими стульями висит вывеска «У трех репортеров». О, господи! Все как у людей.
Противоречие в искусстве наиболее плодотворное – между видимостью и сущностью. Недаром Толстой считал несимметричность одной из надежных примет достоверности.
Как умилительно, что столь скромно и целомудренно описанное «падение Анны» и Катков, да и сам бесстыдник-автор считали почти порнографической сценой!
Постулат монгольской философии «моргеш уло» (завтра утром, отложим) сходится – и почти дословно – с главным девизом Латинской Америки – «маньяна, маньяна», иногда даже – «аста маньяна». Первые – от степной созерцательности, от одиночества в пустыне, вторые – от странной южной мудрости, так контрастирующей с южной кровью, когда-то пришли к одному и тому же: «Не нужно спешить, дело рожденного: жить для жизни, а не для дела». Монголы знают: «Хома угей» – ладно, все равно, обойдется. Мне бы, южанину, причаститься к этому Главному Завету.
Смешно говорить о нескромности автора. Искусство нескромно по определению.
В коммунистической эгалитарности так много хамской самоуверенности, что это и сделало ее притягательной. Этот охлократический пафос и обусловил ее жизнестойкость. Любимец и друг Фиделя Кастро Габриэль Гарсиа Маркес назвал коммунизм «фашизмом бедных».
Жизнерадостный, жовиальный, румяноликий оптимист-прозаик. Глаза его так влажны и круглы, словно родился он не на берегу Клязьмы, а на бреге Евфрата. «Отлично сегодня опростался», – сообщает он, потирая руки. Это значит, что он изверг из себя еще несколько страниц своей повести.
Тщательно, объективно, объемно – в высшей степени пристальная работа.
Смотрим «Отелло». После каждой сцены О. наклоняется ко мне и озабоченно произносит: «События развиваются в стремительном темпе».
Пьеса моя «Римская комедия» рождалась на театре с премногими муками. Спектакль Товстоногова в Ленинграде, по общему единодушному слову, был его высшим достижением, но снят он был после первого же просмотра, сама же пьеса была изъята из журнального номера за десять дней до его выхода к читателю. Лишь великий артист и великий политик незабвенный Рубен Николаевич Симонов, многоопытный театральный кормчий, сумел добиться права играть эту пьесу только на вахтанговской сцене. Через полгода после питерского разгрома «Римская комедия», вся в купюрах, спешно переименованная в «Диона», все же начала свою жизнь.
Разнообразные неожиданности на зыбкой грани меж драмой и анекдотом продолжались в течение шести лет, пока пьеса удерживалась в репертуаре. Было что-то в ней роковое, фатальное. То и дело у властей возникала потребность вычеркнуть то одно, то другое. Эту задачу, дабы не общаться со скандальным опостылевшим автором, они возлагали на добрейшего измученного директора театра, здоровье коего не справлялось с обрушившимися на него перегрузками.
Самая первая после премьеры критическая ситуация возникла быстро, через три месяца с хвостиком. 10 февраля в театре был назначен дневной просмотр исключительно для писателей, заполнивших весь зал на Арбате, и по мистическому совпадению в этот же день, всего часом раньше, начался процесс Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Это обстоятельство внесло в спектакль да и в его аудиторию почти истерическую ноту; каждая реплика встречала нервный – повышенной горячности и напряженности – прием. И когда Дион – Ульянов воскликнул: «Домициан, перестань убивать, убивают книги, а потом – их создателей. Рим стал какой-то огромной бойней», в зале началось плескание рук, имевшее к древнеримской истории весьма относительное касательство.
На следующий день было передано, что ввиду деликатной ситуации, надо бы эту реплику снять.
Я сказал:
– И не подумаю. Я эту ситуацию не создавал и расплачиваться за нее не намерен.
И совсем, как Несчастливцев, добавил:
– Цензуровано!
Удрученный директор страдальчески посмотрел на Симонова.
У Рубена Николаевича был испытанный трюк – когда ему не хотелось сказать что-либо внятное, определенное, он многозначительно произносил либо некую нейтральную фразу, либо известную цитату. На сей раз, пожав плечами, он бросил: «Изрядная, скажу вам, поручик, фортеция». После чего сказал, что спешит. Тем дело благополучно и кончилось.
Прошло немногим более года, и на взрывоопасном Ближнем Востоке пронеслась шестидневная война. Израиль позволил себе ее выиграть, и, смертельно оскорбленное этим, наше правительство разорвало дипломатические отношения с ним. Между тем в злополучной «Римской комедии» был персонаж с характерным именем Бен-Захария – когда прокуратор Афраний, хвалясь Римом, втолковывал ему: «Ничего подобного ты в своей Иудее не видел», Бен-Захария весело соглашался: «Мы ведь бедная пастушеская страна».
Наш друг-директор вскоре нам передал авторитетное соображение: сегодня такая миролюбивая характеристика агрессора никак не уместна. Я заявил – не без напыщенности, – что не пишу на злобу дня, и вычеркнуть реплику отказался. Рубен Николаевич, помолчав, веско заметил: «Всяк солдат должен знать свой маневр», – было неясно, к кому отнести это напутствие – к Герою Советского Союза Насеру или, напротив, к Моше Даяну, но Симонов не стал уточнять и быстро ушел – дела, дела!..
Иудейская война тем не менее на этой битве не завершилась. Спустя девять месяцев в Польше начались студенческие волнения, и правители народной республики выпустили молодой пар через мгновенно организованную борьбу со зловредными сионистами – последовала массовая высылка евреев из братской народной демократии. Тут уж несвоевременным стал другой диалог в злосчастной пьесе:
«– Сильно увял Бен-Захария. Указали этим людям их место.
– Это как раз мудрая мера. Все римляне очень ею довольны».
Мне было разъяснено, что сей текст обиден для друзей по Варшавскому Договору. Я отвечал, что перебьются. Главный арбитр Рубен Николаевич, лишь самую малость перефразировав Пушкина, задумчиво проговорил: «Н-да, отец мой, полячка младая…»
К тому времени он уже поставил мою «Варшавскую мелодию», и фраза эта могла относиться скорее к Гелене, чем к Гомулке, но директор, на всякий случай, не стал уточнять – он заметно осунулся, стал задумчив.
Самые главные испытания были у него впереди. Прошло всего несколько месяцев, и 21 августа 1968-го года мы самоотверженно ринулись на помощь чехословацким братьям – наши победоносные танки вступили в Прагу, а все мы – в новую эру. Каждый день газеты печатали ту или иную информацию о нашей армии-освободительнице, напоминая, что в Чехословакию она вошла «временно, до нормализации положения».
А жизнь шла своим чередом, и первого сентября вахтанговцы открыли театральный сезон. Вскоре состоялся спектакль неунимавшегося «Диона», и в третьей картине зритель услышал следующий обмен репликами между поэтами Сервилием и заглавным героем.
«Дион. Значит, и варвары сюда идут?
Сервилий. Временно, до стабилизации положения. Кстати, об их вожде тебе тоже следует написать несколько теплых слов».
Реакция зала вряд ли нуждается в дополнительных комментариях – стоял какой-то шизофренический хохот. На друга-директора тяжко было смотреть. А сам он точно в воду глядел. На сей раз я лично был зван к начальству. Было сказано, что подобные реплики решительно подлежат исключению – автор должен проявить благоразумие.
Но тут я взвился по-настоящему: «Ну уж нет! Нет и нет! Надоело! Кажинный раз держава мне будет подкидывать новенькое, а я вычеркивай! За ней не угонишься. Снимайте спектакль».
Стало ясно, что нам не договориться. Закрыть же спектакль, идущий с успехом, означало самим создать нежелательную ситуацию, и власти вновь прибегли к посредничеству – мы снова встретились в том же составе.
Директор грустно смотрел на Симонова глазами подстреленной газели. Симонов пожевал губами и глубокомысленно заметил: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» И тут же исчез – пора репетировать!
Знаменитая формула: «Временно, до стабилизации положения», столь благостная в устах руководства и столь крамольная – в моих, по-прежнему звучала в спектакле.
Но жить Симонову оставалось недолго. И спектакль пережил его лишь на два сезона.
Молодость была искалечена – ушла на горестные попытки как-то отстоять душу живу, не испохабиться, не оскотиниться, не стать абсолютным духовным кастратом. Литературные способности истрачены на эзопов язык, на игры с чиновниками всех рангов, на поиски боковых тропинок – только бы увернуться от пропасти, от лганья, от соблазна успеха (такого, по сути своей, естественного, но в предложенных условиях гибельного) – многим ли удалось сохраниться? Бедная, нелепая юность! С какой тоской ее озираешь. Все дело в том, что десятки лет все мы живем в сумасшедшем доме с его поразительным распорядком – ни о логике, ни о каком-то смысле нелепо даже и заикнуться. И, как Чацкий среди безумцев, каждый нормальный человек выглядит душевнобольным.
Тут по-своему замечательна почти искренняя убежденность державы, что человек, не разделяющий ее уставов и установок, есть человек, безусловно, ущербный. Чаадаев не был посажен в психушку – это начали делать через сто тридцать лет – но исходная посылка все та же: конечно, здоровый человек не может не думать официозно.
Подвижническая судьба писателей сплошь и рядом определялась не их натурами и решениями – лишь эпохой и масштабом таланта. Булгаков не был рожден для жизни мученика (боги, как тут не вспомнить Рильке: «Ты знаешь, Господи, нет у меня таланта к мученичеству». К несчастью, Россия всегда в изобилии имела этот Talent zum Martyrtum). Булгаков недаром любил подчеркивать, что он – мастер. Он и стремился жить жизнью мастера, профессионала, работника – делать свое любимое дело и получать от него удовольствие. У него был огромный вкус к быту, к повседневности с ее нехитрыми радостями, вкус к веселому, озорному творчеству. Он не был создан писать для потомков, он жаждал видеть плоды трудов воплощенными, реализованными. Как всякий мастер, он страстно хотел радовать всех своим мастерством. Ничего из этого не получилось. Его время и его дарование обрекли на иное, загнали в угол.
Народ – это закон больших чисел. Понятно, что человек – вне закона.
Не фетишизируйте определенности. Даже у десяти заповедей в книге «Исход» есть два варианта.
14 декабря 1975 года стайка в пятьдесят человек собралась в Питере на Сенатской площади отметить, как они объяснили, сто- пятидесятилетие восстания декабристов. Их прогнали, пятерых задержали. Видимо, снова были они страшно далеки от народа. Но ведь поистине круг замкнулся.
Когда начинается деление на коренных и некоренных – это значит провинция победила.
Если политика – искусство возможного, то жизнь – искусство невозможного.
Два футуролога на пенсии: «Помнишь, какое у нас было будущее?»
Сила слабых в динамике, сила сильных – в статике.
Голодный сытого не разумеет.
Пафос созидания мешает жить.
Фрэнсис Бэкон не жаловал нашего брата: «Сходство обезьяны с человеком, – сказал он, – делает ее отвратительной». Черт возьми, он имел основания!
Терпение – добродетель богатырей и олигофренов.
Можно притвориться спокойным, благожелательным, темпераментным – великим притвориться нельзя, присутствие исполина чувствуешь по ауре, внезапно возникшей. Вдруг обожжет холодок истории. Стендаль вспоминает, как в ложу театра вошел незнакомец и все вокруг почти магически изменилось. Кто-то рядом сказал: «Лорд Байрон!» У Бунина я однажды прочел, как час-полтора он следил за Чеховым, думавшим невеселую думу под солнышком на крымской скамье. Показалось, что это преувеличение. Можно ль смотреть полтора часа на то, как сидит на скамье твой знакомый?