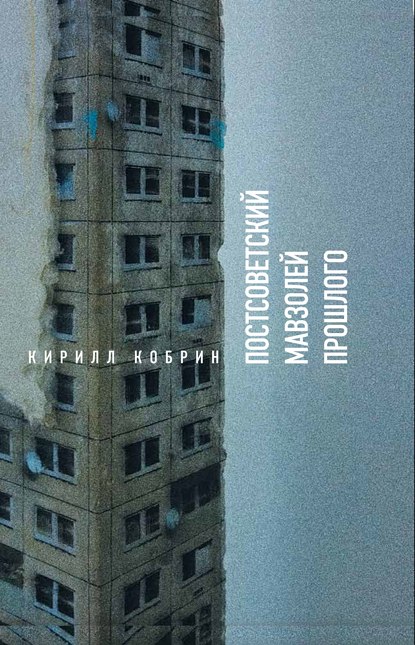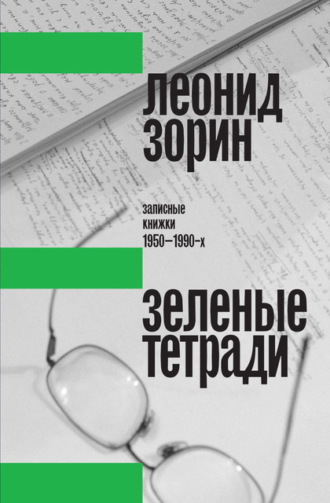
Полная версия
Зеленые тетради. Записные книжки 1950–1990-х
Но однажды в августе 1957-го я приехал к Лобанову в Болшево. Мне сказали, что мой режиссер в лесочке, я пошел искать Андрея Михайловича. И почти сразу его увидел – он сидел на пеньке в белой рубашке, белой панамке, в полотняных брюках. Лицо его было хмуро, сумрачно и невыразимо печально. Я не решился его окликнуть, лишь смотрел на него и не думал о том, что это похоже на соглядатайство. Впрочем, этого не было и в помине – просто я не мог оторваться от прекрасного скорбного лица. День был теплый, но осень уже подкралась, листва отливала желтой подпалинкой. Было тихо и пахло хвоей. Когда я очнулся, то обнаружил, что прошло не менее получаса. Я понимал, что могу еще долго – и час, и два – смотреть на него, любуясь им и стараясь постичь и боль его и его тайну, мучаясь тем, что я бессилен ему помочь и его утешить. И, как всегда, в его присутствии ощущал прикосновение вечности.
Как часто мы бываем обязаны нашим счастьем своим ошибкам. В особенности если считать ошибкой свой отказ от борьбы за счастье. «The lovely toy, so fiercely sought, hath lost its charm by being caught».
Одиночество не такая пустыня, как думают простосердечные люди. Вдоволь мертвых душ и живых трупов.
В искусстве привычные установки то и дело переворачиваются. Настаивайте на своих недостатках, и они продолжатся как достоинства.
Истина хочет родиться в споре, но спор не считается с этим желанием. Дело кончается абортом.
Подлинное прозрение всегда эстетично.
Честолюбие, развитое за счет способностей.
Индивидуальное стремится раскрыться, личностное – потенциально. Первое – часто эксцентрично, добивается первенства и внимания, почему ограничено в возможностях. Второе – естественно, органично, не боится стать периферийным и оттого сохраняет свободу. Поэтому эксцентризм монотонен, а естественность творчески неисчерпаема. Индивидуальность может возбудить интерес, личность способна подарить потрясение. Индивидуальность – попытка реализоваться, личность – осуществление, она и есть – бог в нас.
Интерлюдия1934-й или 1935-й? Во всяком случае, мне едва ли многим больше десяти лет, и совсем недавно местным издательством была выпущена моя детская книжечка.
Летний вечер в бакинской филармонии, в раковине под открытым небом. Небо как смоль, звезд почти нет, снизу невнятно доносится гул – в двух кварталах отсюда шумит Каспий. Сцена ярко освещена точно впаянными в подмостки – по всей их дуге – желтыми лампочками. Я их давно успел сосчитать – двадцать восемь золотых светляков. Пока что сцена еще пуста, пуст наполовину и зал, зрители ходят вдоль балюстрады также под распахнутой бездной. Я стою совсем близко от артистической. Мимо проходит группа людей, они оживленно переговариваются. Чуть поодаль – точно сам по себе – идет человек – невысок, коренаст, редковолос, на квадратный торс давит могучая голова. Крупный, каменный подбородок, вперед выпирающая грудь. Он – в черном костюме, в белой рубашке, без галстука, не то что другие.
Самед Вургун, упругий, счастливый молодостью, вошедшей в цвет и предчувствием близкой славы, весело окликает гостя.
– Егише, – говорит он ему, – погляди, вот наш юный поэт. – И с улыбкой подводит меня к нему. Незнакомец оглядывает меня, чуть прищурясь. Кладет ладонь на мои кудряшки. «Уже пишешь стихи? – рокочет он и качает громадной головой. – Рано начал. Сила нужна». Он проходит в комнату за сценой, а я иду в зал – третий звонок. Выступают армянские поэты. Я уж не помню их имен, кроме имени Наири Зарьяна, – что поделаешь, столько лет… Наконец на эстраду выходит он, мой новый знакомый. Егише Чаренц. Так же прищурясь, он смотрит на зал, будто хочет понять, кто мы, пришедшие. И медленно, словно перекатывая непокорные армянские камни, исторгает рокочущие слова. Я не понимаю их смысла, но чувствую силу каменотеса. Вот почему он сказал: нужна сила. Он хотел, чтоб я понял: мне рано писать, у меня нет силы и быть не может. Но нет – я вспоминаю прищур – похоже, что думал он о другом. О чем же? Да откуда ж мне знать? И лишь теперь, сорок лет спустя, сдается, я понял, о чем он думал. «Рано начал. Сила нужна». Рано вышел в путь, а он длинный и тяжкий, нужна сила, может и не хватить. Смотри же, мальчик. Не надорвись. Копи силу. Не растрать свою силу. Господи, как далек тот вечер. Нет Чаренца. Есть город Чаренцаван. Нет Чаренца. Есть арка Чаренца. Нет Чаренца. Мог ли я думать тогда, глядя на эту львиную голову, что не пройдет и нескольких лет, и он разобьет ее (не метафорически) о каменную тюремную стену?
Красный квадратный глаз транзистора то чуть мерцал, то загорался, и казалось, что это камин, в котором то ярче, то тусклее, потрескивая, горят дрова.
И странное дело! – уже давно она оставила этот город, уже и он забыл ее голос, стали все чаще гаснуть в памяти всякие милые подробности, даже черты ее лица становились все менее отчетливыми, и мысль о ней давалась легко и покидала его почти сразу, а вот доводилось случайно встретить упоминание о городе, увидеть его на фотографии или, того больше, на телеэкране, и словно вспыхивала душа. Это весьма его удивляло и только много позже он понял, что память стала дороже реалий. А в памяти жил не сам человек, но место, где случилась их встреча и где вдвоем они были счастливы.
(Позднейший комментарий: Это все подступы к будущему роману, к основной его части – рукописи Каплина. Медленно, не слишком уверенно, определяется интонация.)
Он не участвовал в разговоре, он только поддерживал его, обозначая свое присутствие. Изредка вставлял свои реплики: «это печалит», «это радует», «что вдохновляет», «стоит обдумать».
О, рассудительный человек, разумный центрист, вечный арбитр! – несбывшаяся мечта моей юности.
Всякое восстание беременно диктатурой. Сначала кровавый и раскаленный инкубационный период, потом – роды и ледяной душ.
Шоу говорил, что «убийство – это крайняя степень цензуры». Показательная ошибка автора из благополучной страны. Цензура – крайняя степень убийства!
И уже газеты «Утренний Гром» и «Вечерний Звон» обнародовали свое осуждение.
Суть классицизма: называть свое чувство, вместо того чтоб его испытывать.
Нет более распространенной ошибки, чем пытаться заранее ответить на возможную критику оппонентов, стараться как можно обстоятельней обосновать свою позицию. Так расточительно тратить время: вместо того чтоб писать – растолковывать!
Прощальные стихи Ушакова – горькое признание в капитуляции: «Все стороны, все государства Глядят ко мне в мое стекло… Не ограничено пространство, Но время… время истекло». Последний взгляд на Вселенную.
Известны три заповеди цинизма: мир ничем не удивишь, упущенные возможности вновь не представляются, себе все дозволено. Все три на поверку ложны. Мир удивляют и потрясают бессчетное количество раз. Упущенные возможности вновь возникают, если с первого раза им не удалось вас одурачить. Себе дозволено вовсе не все, а лишь столько, сколько вы можете выдержать.
Подвижный энергичный просветитель. Из тех, что «за все в ответе». Говорит: «Литературное дело».
Торжественность присяги, клятва Гиппократа, целование знамен, обряд посвящения, театральность обетов – вся эта эстетизация этики (в первую очередь государственной), чтобы легче было нести ее бремя.
Драматургия без мысли бездушна, а без души – бессмысленна.
Мать – колхозница, отец – ахалтекинец. Кентавр с безупречной анкетой.
Вкусил от чаши конформизма и был отравлен до конца своих сладких дней.
Старцы наперебой заискивали перед молодым жеребцом.
Старость хочет быть деятельной, а выглядит суетливой.
Эстонский писатель взахлеб рассказывал о своем невезучем брате-близнеце, все время повторяя: «Мы – из одной клетки». Все мы – из одной клетки, бедный прибалт, впрочем, дай тебе Бог – в этот миг я окончательно решил написать «Незнакомца».
Катаев заметил (делает ему честь), что у Чехова описание никогда не замедляет движения. Оно как бы находится в нем.
Каждый пишет в соответствии с уровнем темперамента. Если созерцатель Беккариа замечает: «Счастливо общество, не требующее героев», то неистовый Брехт переиначивает эти слова на свой лад: «Порочно общество, требующее героев».
На нового чемпиона надели лавровый венок, и я вздохнул про себя: «Вот и начался спуск».
Древнее наблюдение – по какому признаку мы выбираем друзей? Amore, more, ore, re – по любви, нраву, лицу, делам. Житейская мудрость через посредство лингвистического анализа.
Шекспир: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны». Убежденность поэта! Мы созданы из скверной ненадежной глины, а сны наши так на нас не похожи.
Героев великих авторов отличает мера слияния первых со вторыми. Злодеи, написанные классиками, мелкими людьми не бывают.
Так надоешь себе, что и смерть не страшна.
Повтор обладает истинной поэтической силой. Уверен, что рифма начиналась как анафора и, лишь пройдя долгий путь, повторила уже не смысл, а звук.
Плебейство, декретом возведенное в патрицианство, – это и есть Страна Советов.
Театрализация прозы дала нам и Гоголя, и Булгакова, и множество отличных писателей, имевших вкус к озорству, к игре, к гиперболе, к странности персонажей и, наконец, к тому сгустку иронии, с чьей помощью опережаешь свой век.
Конечно, индивидуальный террор бесплоден (в отличие от коллективного), но он дает возможность отвести душу и потому – неискореним.
Мудрость советского человека: «Если нельзя иметь того, что любишь, то надо любить то, что имеешь».
Не в силах читать без негодования жалобы этих драматургов, к услугам которых были издатели, сцены, дирекции, меценаты, которые, наконец, могли заложить штаны, призанять деньжат и издать за свой счет любимую вещь. Их публика не понимала? Вздор! Их критика не любила? Вздор! Эка важность, если ты поставлен и издан?! Придет однажды новая публика, и появится новая критика. Можно ль хоть в отдаленной мере сравнить их тяготы с болью автора, зависящего от расположения или трусости – не говорю сановника, а денщика, писца при сановнике! Да и в стол писать не каждый решится – обыщут, найдут, упекут на галеры! Пусти на волю хоть строчку, и тут же путь ее станет неуправляем, а сама она беззащитной. «Негодяи, – шепчу я бедным теням с зубовным скрежетом, – негодяи! Не смейте брюзжать, не смейте жаловаться! Пожили б с наше в двадцатом веке, в нашей России, в царстве свободы!»
Как много сказал моей душе восхитительный рисунок Эффеля: мышка в клетке, а хвостик – на воле. (Я получил этот подарок из рук художника в его квартире, когда впервые приехал в Париж.)
Эмоциональное отношение к прошлому обычно считается дурным тоном. Оно противоречит правилам фундаментального подхода к познанию. (Оправдали Петра, оправдали Павла, не за горами оправдание Сталина.) У науки об истории своя этика. В отличие от самой истории.
Этот фундаментальный подход всегда приводит к оптимистическим выводам. В этом нет ничего удивительного. Фундаментальные исследователи всегда разделяют государственный пафос. А государство оптимистично. И ценит оптимизм в художниках.
Цензура традиционно была, пожалуй, самым оптимистическим из всех политических институтов – всегда оберегала мажор и не поощряла грустных мотивов. Еще полтораста лет назад Леонтий Дубельт, будучи ее шефом, подробно изъяснял драматургам, что, кроме иноземных влияний, на сцене решительно недопустимо преобладание черной краски над белой. Тут снова приходит на ум дефиниция, принадлежащая Томасу Манну, определяющая гуманность как юмор, музыку, пессимизм. О пессимизме, понятно, нет речи, но и с юмором, сколь ни парадоксально, все обстоит не так уж просто – в составе державного оптимизма иной юмор – ингредиент чужеродный, во всяком случае, подозрительный. Что же до музыки, то, как известно, ее заказывает тот, кто платит. Таким образом, манновская триада придется ко двору не везде – у оптимистического государства с гуманностью сложные отношения. Кажется, во все времена инквизиторы пользовались особым успехом. Возможно, страх создает иллюзию равенства, сплоченного общества, во всяком случае, единой судьбы. Тем более, ко всему привыкаешь. И к постоянному путеводительству и к постоянному укороту. И разумеется – к терпеливости. Пожалуй, тут главная наша привычка. В прошлом веке маркиз де Кюстин все удивлялся этому свойству. Не зря с его книгой стали бороться, стоило только ей появиться. Борются вплоть до наших дней. Конечно, невесело читать, что мы потеряны для первобытности и непригодны для цивилизации, что в России быть несчастным позорно, что здесь «немыслимо счастье, ибо… человек не может быть счастлив без свободы». На все эти французские мысли царь отвечал штыковым ударом – объявил автора педерастом. Этот находчивый ответ был, видимо, принят на вооружение. Приблизительно через сто двадцать лет при высочайшем посещении выставки новых картин и скульптур в Манеже это же самое обвинение было предъявлено их создателям.
И все-таки Николаю Павловичу было бы небесполезно прислушаться к наблюдательному человеку. То же самое и позднейшим правителям. Куда там! Легче упрятать книгу от глаз людских в специальном хранилище. Напрасно втолковывал Жан Поль Рихтер: «Гибель государства несет дух эпохи, а не дух книг» – кто его слушал! Господ авторов просят не беспокоиться.
Что же она, эта тайна поэзии? Что побуждает, в конце концов, вполне нормального человека выразить мысль или чувство в строфе? Поиск ритма для мысли? Поиск созвучия чувству? Что составляет первооснову – эстетическая переполненность или стремление к дисциплине? Мандельштам однажды сказал, что «поэзия есть сознание своей правоты». Определение вполне мандель-штамовское – в нем так напористо отразились его неуступчивая натура и жизнь в постоянной полемике. И все-таки слово «правота» исполнено высокого смысла.
Заголовки в районной газете: «Старту – разгон!», «Лечить до конца». А вот – телепередача о Волге: «Там лоно девственной реки ревниво бдят речные перекаты». Однако ж почему Волга девственна? Фрейдистская проговорка дамы, дополняющей своим текстом картинку.
В пятидесятых – шестидесятых в Москве трудился пожилой журналист. Звали его Евгений Борисович, фамилия его была Герман. Он подписывался – Ев. Гер и был очень горд своим псевдонимом, он казался ему блестящей находкой. Был вальяжен, полон самоуважения, что называется, «нес себя».
Потом появился еще один малый по фамилии Герберштейн, бойкий, напористый корреспондент, работавший во многих изданиях. Я сказал ему как-то: «Вашей фамилии могло бы хватить на трех евреев».
Шутка эта, весьма незатейливая, была воспринята Гербер-штейном серьезно – он стал подписываться – Н. Гер.
Появление однофамильца (или, точней, однопсевдонимца) произвело на первого Гера сокрушительное впечатление.
– Такой проходимец, прохвост, палаточник! И смеет подписываться той же фамилией, что старый, заслуженный человек, не последний в своей профессии.
Знакомые его утешали:
– Бросьте! Мало ли Ивановых? И все пишут, все живы-здоровы. Даже Толстых – три человека.
Однако Гер был безутешен.
– Вы ничего не понимаете. Гер – это мое изобретение. Моя находка! Тут прямой плагиат. Пиратство! Нет, даже хуже пиратства. Вы только представьте, что вашу дочь лапает потными руками какой-то краснорожий насильник. Тогда вы поймете, что я испытываю.
Дернул же черт меня пошутить! Кто знал, что в тот миг зародилась трагедия?
Что старомодней на этом свете разговоров о современном искусстве?
Скоро, скоро присоединимся к абсолютному большинству человечества. Мы отдохнем, мы отдохнем.
Светлая, без окалины, грусть. Неужто, если моя печаль полна тобою, она светла? Только Пушкину это было доступно.
Женщина чаще идет вам навстречу от дурного настроения, чем от доброго чувства.
Столько витиеватых профетов и косноязычных мыслителей. Кажется, всякий раз перед тем, как записать свои откровения, они перечитывают для бодрости Моэма: «Всегда отыщутся дураки, которые найдут скрытый смысл».
Задумчиво-былинный зачин: «Дело было в степях Херсонщины».
Вариант названия старой пьесы: «Тридцать лет жизни игрока, или Персональный кий».
Обычная ситуация в необычной обстановке – первая заповедь кинематографиста.
Слова де Кюстина «в России несчастье позорит» все же не вполне справедливы. Восприятие беды как позора больше свойственно благополучным странам. Быть несчастным в России – почти традиция.
Стертая мысль? Свежая мысль? Оценка зависит только от времени, в которое они произносятся.
В 1839-м начальник Третьего отделения Дубельт обозначил круг понятий и лиц, табуированных для театра: «личность монарха, его приближенные, иноземные влияния, преобладание черной краски над белой». Наша формация унаследовала иерархический подход и подозрительность к загранице. Но все же налицо и прогресс – личность монарха и приближенные многажды воплощены на сцене, не говоря уже об экране.
Диалог. Беспардонный драмодел, бездарный, напористый хват, вручает взятку сотруднику министерства: «Нет, нет, то была ваша идея, ваш совет, ваша творческая находка, не входившие в ваши обязанности». Сотрудник (томно): «Не будем считаться». Автор: «А я считаюсь. Вы – человек занятой». Сотрудник (еще более томно): «Вы ставите меня в неудобное положение». Автор: «А вы – меня. В еще более неудобное. Уж извините, но брать чужое, это, знаете, не в моих правилах. Покойный отец так воспитал. Я тоже хочу умереть с чистой совестью». Сотрудник (качая головой и вздыхая): «Ей-богу, вы меня просто смущаете». Автор (с достоинством): «Ну и смущайтесь на здоровье, а я иждивенцем быть не хочу. И уж тем более – плагиатором. Что мое – то мое, что ваше – то ваше». Агрессия согнутой спины.
Проклятие несчастной планеты: эмоциональное меньшинство.
Ни единой извилиной не вооружен и очень, очень, очень опасен.
Когда вас поносят, пусть вас утешает, что вот и на дружеской улице праздник.
Бунин частенько повторял: «Ничто так не старит, как забота». Нет спора. Но еще справедливей: «Ничто так не заботит, как старость».
Мережковский (по свидетельству Г. Кузнецовой) считал Гоголя символистом. «Но не отдам ни одного его манекена за всего Толстого. А разве Гамлет – живое лицо?» Дискуссия о символизме Гоголя, признаться, не так уж меня захватывает. Необязательно соглашаться с тем, что герои его – манекены. Не нужно брать под защиту Толстого. Но заключительные слова «А разве Гамлет – живое лицо?» – один из самых блестящих вопросов.
Тут только необходимо условиться. По какой епархии ни числи автора – реалистической, романтической, будь он классицист, будь он мистик, но если он достигает вершины, его образы становятся символами. И в этом смысле все силачи, все великаны – так или иначе – символисты по определению. Воспринимался ли датский принц как живое лицо первым зрителем? Не знаю. Он ведь уже тогда был лицом из исторической хроники, а исторические персонажи уже не вполне живые люди. Но и герои великих книг, великих пьес в нашем сознании существуют как герои истории, даже если они не принцы. Есть парадоксальная реальность: чем гениальней исполнен образ, чем соответственно – он долговечней, тем он все меньше воспринимается как некое «живое лицо».
По лестнице Театра Вахтангова спускается элегантный, высокий, всегда подтянутый архитектор Сергей Евгеньевич Вахтангов. Он уже далеко не молод – отцу его и не снилось дожить до такого солидного возраста. Кто и что для него отец, давший некогда свое имя не только ему, Сергею, Сереже, но этому дому на Арбате? Смуглое, нервное лицо, быстрая, нетерпеливая пластика, рокот мягкого баритона или вот этот нарядный дом? Но именно этот яркий фантом, этот предмет театроведения, звук привычный, принадлежащий целому свету – всем и каждому, он-то любил его так безоглядно, так ненасытно его любил!
О, гостиничная тоска, пустыня комнаты с инвентаризованной мебелью, с телефоном, который можно разбить, но он все равно не издаст ни звука.
Нобелевскому лауреату Эудженио Монтале минуло семьдесят девять лет. За всю жизнь издал пять книг стихов, первую – полвека назад. Наверняка он привык к своей участи. Могла ли быть большая жестокость, чем эта награда на самом пороге?
Приятно видеть людей призвания. Мелькнуло знакомое лицо. Англизированный старик с соответствующей фамилией Томас. Всю жизнь дает старт бегунам. Поджарый, седоусый, бесстрастный, в жокейской шапочке, с поднятым пистолетом, полный сознания высшей ответственности, пуляет в безответное небо. Всяк молотит свою копну.
Гения нельзя разгадать – можно разве только почувствовать. В молодости гроссмейстер Таль всех подавлял непредсказуемостью, стремительно стал чемпионом мира. Потом он потерял свое звание, но был убежден, что стал играть лучше – глубже оценивать позицию и, как следствие, реже проигрывать. Возможно, что нечто он приобрел – не мне оспаривать его мнение. Но это говорит лишь о том, что гениальное не всегда самое верное, самое точное. И тем не менее стоит довериться тому, в ком вы ощутили гений. Ему дано особое зрение. Даже когда вы старше на век, не оглядывайтесь на него снисходительно, не уличайте его в ошибке. Не торопитесь. Он видит дальше. Сколько проклятий вызвали «Бесы»! Бойтесь пуще всего прогрессистов. Когда я писал «Медную бабушку», я так отчетливо ощущал сальеризм Петра Андреича Вяземского. Испытанный многолетний друг всегда бил поэта в больную точку. И вроде был прав – укорял в конформизме. Его сокрушительного ума не хватило, чтобы понять, что Пушкин был и выше и больше и конформизма и оппозиции. Он был Пушкин, и этим все сказано.
От врагов – огорчения, от друзей – горе.
Один из самых неоправданных культов – культ прогресса. Никогда не задумываемся – в какую сторону прогрессируем? М. Ген – был такой социолог – сказал, что все дело в «направлении» этого гордого понятия.
Никто, разумеется, не оспаривает превосходства качества над количеством, но не тогда, когда речь о деньгах.
Не просто решить, что занимательней – жизнь великого человека, рассказанная рядовым биографом, или жизнь рядового, рассказанная великим.
Какая все-таки это чушь! Сталкиваются идеи, а гибнут люди.
Написать о человеке, который получил все, что хотел, и ужаснулся нищете обретенного. (Подступался к этому в «Друзьях и годах», вышло ученически плоско. В «Царской охоте» – уже получше. И все же срок еще не пришел.)
Этот лирический толчок наступает в самый неожиданный миг, принимая самый неожиданный облик. Кто возьмется предугадать, что высечет искру в нужный срок в нужном месте? Секрет удачи, чтоб все сошлось – состояние духа, сердечный настрой, вдруг обострившееся зрение, а главное – совпадение вашей внутренней музыки с той, что разлита вокруг вас.
Вы идете по набережной, под дождем, будь он хоть немного сильней, все было бы безнадежно испорчено, но сейчас от него – одна только радость, запах свежести и утренней бодрости. Вы к тому же защищены, непромокаемый плащ и кепка, туфли тоже не внушают тревоги, можно спокойно шагать по лужам, да еще таким скромным, не лужам, а лужицам. И вдруг – равновесие нарушается. Одна из туфель, оказывается, прохудилась. Надо спасаться, пока не поздно. Вы ныряете в первую же стекляшку, сухо, тепло, вернулась надежность, за окном – дождь, и еще пронзительнее то мелькнувшее ощущение молодости, весны, студенчества.
Теперь-то понятно, как нелегки эти лучшие дни нашей жизни. Много надежд, но больше забот, неудачи неизбежны и часты. Несоответствие желаний реалиям слишком явственно и очевидно, но зато неисчерпаемый запас времени делает из нас ванек-встанек, время работает на нас. Безвестный молодой человек смотрит сквозь окно забегаловки, звук дождя еле слышен, но у него есть мелодия, еще одно маленькое усилие – и ее можно будет воспроизвести. Эта способность открылась в детстве, но до поры до времени ее заслоняли неотложные жизненные задачи – пробиться, созреть, сохранить себя. Тем не менее огонек оказался стоек, призвание определило судьбу.
Остановлюсь, ибо дальше придется пересказывать одно из наиболее важных для автора этих строк сочинений. Существенно подчеркнуть еще раз, что вся его проблематика осталась бы абстракцией, если бы не было запаха свежести, весеннего дождика и худых подошв.
Вот еще один побудительный мотив, исходно скорее противоположный, но в значительной степени он обусловил появление пьесы «Друзья и годы».
Чета стариков на маленькой станции, встречавшая и провожавшая поезд, остановила мое внимание, совсем еще юного провинциала, направлявшегося в Москву. В тот же вечер, под стук колес, сложился замысел будущей драмы, хотя для конечного ее воплощения потребовалось двенадцать лет. В пьесе, как вы уже догадались, не было никаких стариков, были три друга, три однокашника, их падения, их взлеты, их путь. Но сейчас для меня важнее сказать о том сокрушительном впечатлении, которое произвели те супруги. Спустя много лет после того, как пьеса была завершена и поставлена, я рассказал об этой встрече в своем романе «Старая рукопись». И – удивительное дело! – обоих я видел не больше минуты, понимаю, что их давно нет в живых, а между тем с такою ясностью до сих пор воскрешаю их старые лица, будто и трех часов не прошло – поезд летит, набирает скорость, сам я лежу на верхней полке, пытаясь хоть как-то придать порядок внезапно хлынувшим мыслям и образам.