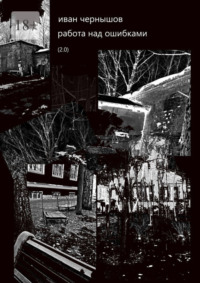Полная версия
Здоровье и дисциплина 2.0

Здоровье и дисциплина 2.0
Иван Сергеевич Чернышов
Фотограф Михаил Михайлович Алексеев
© Иван Сергеевич Чернышов, 2024
© Михаил Михайлович Алексеев, фотографии, 2024
ISBN 978-5-0064-6463-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I. Демотиватор
1. Ревень
Когда Фольгин проснулся, по телевизору повторяли «Программу Максимум». Диктор выкрикивал громкие заголовки великолепным голосом, щурясь на Фольгина с экрана и вызывая у него невероятное раздражение. Впрочем, утренние повторы этой славной программы – лучший из возможных будильников, не верите – пожалуйста, проверьте.
Не выключив, однако, телевизор, Фольгин поднялся и прошел до кухни, где, глянув сперва на выглядящий неким артефактом отрывной календарь, а затем в окно, испытал величайшее изумление: на календаре было восемнадцатое мая, а за окном шел снег.
Фольгин вернулся в комнату, надел носки, и, брезгливо созерцая диктора, продолжавшего выкрикивать невероятные новости, подумал: врать легко и приятно.
Ревень рос у самого забора, слева от дома, между сильно наклонившихся и глубже, чем наполовину, закопанных коричневых кадок. Их и делали коричневыми, чтобы краска затем сливалась с намоченной дождями ржавчиной. Ржой. Ржа.
Ревень никогда не ели, по крайней мере, Фольгин этого никогда не видел. Огромные листы его отрывали и надевали на голову в дни, когда палящее солнце жгло особенно беспощадно, завязав для устойчивости ревень веревочкой, сделанной из разрезанной на тонкие полоски футболки.
По поверьям, ношение ревеня или лопуха на голове предохраняет от солнечного удара. К ревеню пробирались Нахлынули, как с ним бывает, воспоминания о дачной жизни. Отогнав мысли про ревень, Фольгин выключил телевизор, прошелся до своего стола, где у него лежало два ежедневника (он называл их органайзерами): прошлый (что-то вроде дневника) и будущий (туда он вносил списки дел). В будущем органайзере значилось:
«День рождения. Адрес см. телефон».
Это означало, что ему сегодня по работе предстояло ехать на день рождения. Нет, он не был аниматором, он, хм, а ведь я даже не рассказал о Фольгине толком.
Фольгин был двадцативосьмилетний длинноволосый блондин с лицом блестящим и чуть ли не лоснящимся, жирная кожа делала выражение его лица каким-то наполовину довольным, наполовину даже озорным. Короче, я не мастер описаний наружностей, ведь я в каком-то смысле не вижу; кроме того, я не мастер и описаний чувств, ведь я в каком-то смысле не чувствую, поэтому я вмешаюсь и объясню раз и навсегда, что буду рассказывать только о том, что уловил, а внешние детали и обстановку я не берусь передавать в максимальных деталях, хоть и попытаюсь, ведь считается, что настоящий писатель тот, кто умеет описывать детали быта, где у кого лежали зубочистки, в левом ли ящике, или в правом, а может быть, в среднем, ибо в таком расположении зубочисток и кроется настоящее мастерство писателя, а какой я писатель, я даже младше тех, о ком хочу рассказать, поэтому ограничимся такой схематичностью, пускай даже будет карикатурностью – я настолько боюсь забыть то, что действительно кажется мне важным, останавливаясь на описаниях местоположения зубочисток, что без необходимости останавливаться не буду, а если вам интереснее читать что-то в выхолощенной форме и изобилующее описаниями, так ведь таких книг и без того немало (и почти в каждой фигурирует молодой человек с печальными глазами по имени Нил), а вы, выходит, относитесь к другой группе читателей, не той, для которой я пишу, просто, оказалось, мы с вами разные.
Итак, для краткости, про лицо Фольгина скажу, что оно походило на лицо такого известного и прекрасного человека, как Андрей Уральский, только с длинными волосами. Фольгин часто думал по-английски, любил пиво и группу Doors, и сегодня он должен был по работе ехать на день рождения, а работал он демотиватором. В его обязанности входило посещать мероприятия, большей частью увеселительные, и портить людям настроение. Работа была достаточно высокооплачиваемой (хотя Фольгин почему-то жил скромно), и даже, пожалуй, стратегически важной, потому что нельзя допустить, чтобы граждане слишком уж забывались. И трезвая реальность в лоснящемся лице Фольгина невозмутимо врывалась в разгар застолья, и чаще всего его появление приводило к битью дорогих сервизов, слезам, соплям, синякам, заляпанным скатертям и прочим непременным атрибутам праздника. И вот сегодня был день рождения. Рутинное дельце, подумал Фольгин, задумчиво листая другой, «прошлый» органайзер.
Когда закончу работать, надо будет съездить на дачу.
30.07.2008
Демотиватор отодвинул органайзер и побарабанил пальцем по столу. С тех пор дачи не стало, вернее, там было как: дача наполовину принадлежала его семье, а наполовину – родне, но семья Фольгина была вынуждена свою половину продать этой родне, и крайне дешево: никто уж не мог работать, родители стали старыми и больными, а сам Фольгин работать особенно не умел, вот он и не вмешался, и дачу продали. Продали, и продали. Как в той книжке. Чаще всего Фольгин видел дачу во сне. Или дачу видел, или школу, или кошмары. Последнее, видимо, было связано с работой, где он, собственно, кошмары и фабриковал. Бббббрррр, как сказал бы его начальник Жменькин. Бббррр, потому что холодно. Отстраняясь, вспоминая что-либо, из реаль- ности переносишься в мысли, а потом, когда вернешь- ся, чувствуешь холод: реальность тебя не греет. Отсюда и Бббрр. А на улице, видимо, холодно, даже снег идет, а батареи, разумеется, благоразумно отключили еще позавчера.
Побарабанив пальцами по столу еще немного, Фольгин снова скосил одним глазом в органайзер:
Видел собаку с большими ушами.
31.07.2008
Нет, не то. А на даче – как можно забыть! – он был сам себе демотиватор. Вспомнилось, как маленький Сашка из дома напротив в него камнем попал. Ну он же маленький, ему все прощается. Да и дело-то не в нем, занятно было, что Сашка был одет в фольгинский старый свитер, ему старые вещи Фольгина отдавали донашивать (на даче-то сойдет), и вот это-то было важно – Сашка в старом свитере его, как такой фантом его самого, того, прежнего Фольгина, маленького. То есть это прошлое его в него камнем кинуло. Но постепенно Фольгину уда- лось подняться в ivory tower такой высоты, что, наверное, никто теперь не мог его оскорбить по-настоящему, однако вызвать в нем раздражение могла любая мелочь, он придирался, ох, он любил придираться, и поэтому, наверное, именно поэтому ни с одной девушкой у него не получилось построить отношения (тьфу, какой дикий штамп), продлившиеся бы дольше двух месяцев. Аллегорически отношения их можно описать следующим образом: Фольгин растворял створки своего оконца в ivory tower, высовывался оттуда аки Рапунцель и благосклонно взирал на девчушку внизу. По мере общения выяснялось, что девчушка глупа, и створки затворялись. И ведь Фольгин понимал, что если ты хочешь построить какие-то отношения, нужно понять очевидную вещь – не это главное, – но Фольгин не мог, глаза не закрывались, а буровили девиц, пытаясь пробурить им лбы и проникнуть прямо в их мозги, с тем только, чтоб удостовериться: ага, там пусто. Лбы бурились, предположения о пустотах подтверждались, да только Фольгин все оставался один. Но может, это и к лучшему и для него, и для девиц.
Хотя так было не всегда: для первой своей любви наоборот, он оказался незрелым, я имею в виду, психологически; по паспорту-то он даже чуть старше был. С кем-то она сейчас? А с кем та, другая, с которой он частенько ходил гулять по торговым центрам три года назад? Они все (кроме его последней пассии), должно быть, с кем- то, с сильными и во всем уверенными прагматичными мужиками, у которых машины, запонки и весь модельный ряд продукции Эпол. Ну так – будьте счастливы!
Благословляя девиц, Фольгин не заметил, как собрался и отправился в офис, узнать подробности о сегодняшнем дне рождения у вышеупомянутого начальника Жменькина.
Жменькин был человек небольшого роста и киногеничной судьбы: в девяностых он торговал ножами, после дефолта преподавал ДПИ в школе (учил детишек лепить из глины лошадок, свинок и крокодильчиков), потом написал одну из первых «методик» сдачи ЕГЭ на сто восемьдесят баллов, потом оказался в числе первых демотиваторов, пройдя путь (опять штамп, будь он неладен) от помощника до начальника отдела. У Жменькина было семь синих рубах, два синих глаза и двенадцать синих ручек в одном синем стаканчике. Синие глаза плохо сочетались с острым носом и смугловатой кожей, поэтому среди коллег ходил слух, будто Жменькин носит линзы из любви к синему цвету. Другой особенностью Жменькина, о которой вы также успели узнать, было частое звукоподражание. Редкие его реплики были лишены тяжеловесных «пу-пу-пууууу», нахохленных «ббррррр» или задумчивых «та-та-таааа». Когда Фольгин появил- ся в кабинете, Жменькин, выпивший за десять минут до этого фе████пам, как раз тихонько протягивал «та-та-таааа», почитывая газетку «Терьер».
На парад – с орденамиДевятого мая в нашем славном городе состоялся тор- жественный парад, посвященный Дню Победы. По улицам города прошли студенты вузов, школьники школ и солдаты армии. В параде, по доброй традиции, вновь участвовала техника: по улицам города торжественно проехал раскрашенный в цвета хаки УАЗ-452, который, правда, в Великой Отечественной Войне не участвовал, но вызвал ликующие аплодисменты ветеранов. Рассказывает семидесятивосьмилетний ветеран Виктор Могульский: «Внучка у меня есть, Наташа. Про войну ей не рассказываю… мала еще… не поймет…».
«Та-та-таааа», – неопределенно повторил Жменькин, откладывая газетку.
Фольгин в это время спокойно стоял у двери – обыч- но Жменькин нервничал, когда кто-то первым с ним здоровался.
– Та-та-тааа, – повторил он еще разок. – Опошляют День Победы. Великий праздник, а они… ээээх.
Фольгин в это время переминался с ноги на ногу.
– Бу-бу-бу, – через некоторое время добавил Жменькин. – Ты что, сегодня куда?
Фольгин назвал адрес.
– Та-та-таа, – Жменькин достал синюю ручку из синего стаканчика. – Па-па-пам. Скандал устроить будет легко: такая там родня. Виновник, скажем, торжества – восьмипудоооовый. Бууууйвол! Дочка Леночка, коза-егоза. Отец – престарелый глухой тетеря. Легкий вечерок предстоит.
– Специальных предуведомлений не будет? – спросил Фольгин.
– Нет, нет, – покачал головой Жменькин. – Можешь идти готовиться, ты демотиватор опытный, я тебя знаю.
Фольгин попрощался и вышел. Слово «демотиватор» он недолюбливал, мысленно заменяя его словом killjoy. Оставшись в одиночестве, Жменькин посидел еще минутку в заторможенном созерцании ручки, затем вы- нул из ящика стола ароматизатор в форме Don’t disturb pad с игривой надписью «Sex – это наша работа», встал и прикрепил его к ручке на внешней стороне двери, после чего заперся изнутри и вернулся за стол. Проделано это было из чуть ли не самоуничижительной страсти к самоиронии.
«Бууууууу, – подумал Жменькин. – Девку-то ту взяли, самогоном облили и подожгли… в новостях передавали. Ааааа все же пы-пы-пы… например, взять, себя бензи- ном облить прямо здесь, и пождечься, ради каламбура: сгорел на работе. Только ради каламбура. Да нет, не стоит каламбур таких мммм…. мучений».
Жменькин зевнул, положил подбородок на стол и придвинул к себе девятомайского «Терьера».
Знамя над городом
По доброй традиции, активисты молодежного движения
Знамя, огромное и красное, поднялось над городом, как скатерть над столом, и стремительно всех накрыло. И он, Жменькин, выбежавший на улицу, оказался знаменем накрыт и в знамя укутан. И лежал на брусчатке, укутанный в знамя, как младенец, и смотрел безучастно на ускользавших из поля зрения людей. Мимо ползло какое-то светлое насекомое с крылышками, продолговатое, похожее на рисинку; Жменькин его не опознал. Клубника из пластмассовых ведер просыпалась и запрыгала по брусчатке мячиками, пам, пам, все мимо Жменькина: Жменькин только рот разинул. Ссохшаяся, мумиеобразная бабка наклонилась эту клубнику подбирать, беспрестанно перекрещиваясь, перекрещивая Жменькина и клубнику. Подняла, подула на ягоды фууу фууу. И мы под знаменем лежим, утертые, прикрыты им. Рядом со Жменькиным приятель какой-то по-турецки сел. Мы были под знаменем, но были с этой стороны, видели знамины внутренности, знамин кишечник, знамину изнанку. Омерзительный натурализм бестелесного символа, чужого и далекого. С той стороны – какое оно с той стороны? Мы будто дети, спрятавшиеся под стол и накрывшиеся одеялом, как в том рассказе, играем в трех поросят, посмотри, мы и есть поросята, мы уже не играем. Приятель тоном авантюриста предлагает:
«Может быть, нам съездить в Америку?». Только видишь, какая штука, с нами поедет твой враг, ведь он наш лучший друг, но тут уж либо с врагом, либо вообще никуда не едем. А не поехать ли в Америку, правда? Ведь мне уже даввввно пора.
2.Рука человеческая
У молодого учителя русского языка и литературы Романа Мизинцева болел зуб. Вообще, у него много чего болело, но в последнее время больше всего мучил зуб. Это уже не пульпит, это уже хуже, это пародонтит, сказали ему в стоматологии. Сказали, и посверлили там чего-то, при этом запах стоял такой, что если бы остался хоть еще один святой, то его непременно надо было бы вынести. Плохая аллегория, но этот запах гноя вытерпеть едва ли не сложнее, чем саму зубную боль, когда невозможно есть, спать, смотреть телевизор, весь ты сузился до этого зуба, вся душа ушла в него, и кроме боли как будто ничего и не существовало.
Короче, врачи посверлили и сказали приеде класть в дупло вату, а после еды вату вынимать и рот полоскать содой. А потом идти за временной пломбой. И все было хорошо до пломбы. Мизинцеву переставили уже четыре временные пломбы, и всякий раз их приходилось убирать из-за обострявшейся боли: с каждым разом все хуже, все больнее, поэтому он решил заскочить к школь- ному зубному (да, в той школе был свой стоматологический кабинет, и психолог свой был), чтобы с пломбой окончательно покончить, и хоть до конца своих лет толкать в дупло вату, лишь бы боль не терпеть.
Зайдя до урока (у Мизинцева был второй урок, первого у него в субботу не было) к зубному и расставшись с пломбой, а затем накачавшись обезболивающим, Роман медленно прошел в свой класс, уселся за стол и развернул классный журнал. Десятый «а». Дурак на идиоте. Эти девочки, им по пятнадцать лет, а уже готовые бабочки – кто подешевле, кто подороже – но более никто. Эти мальчики, им тоже по пятнадцать лет, и их путь тернистее. Сперва по пьяни изобьют кого-то, это за хулиганство сойдет. Или витрину разобьют. Или из супермаркета водки стащат ради острых ощущений. С мелочи начнут. Потом – взламывать машины ради покататься, в своих-то кататься уже стремно, но родители везде отмажут, и постепенно детки эти займут сытые должности, но если говорить о ценности… одним словом, будущее почти всего этого класса по ценности своей не превышает плевка.
Не всех, конечно. Есть Максимка Беляшев, у него родители самые зажиточные, он поступит в столичный институт, станет вип-менеджером/юристом/экономистом. Есть Антон Шадрин, у него семья интеллигентная, он будет сгорбленный инженер. Зачем их учить? Чему их учить?
После урока Мизинцев решил заглянуть к своему приятелю, молодому (всего на пару лет старше Мизинцева) психологу Голобородьке. Психолог этот был большой оригинал: по школе, когда не было жарко, он разгуливал в белом халате (правда, махровом) поверх рубашки (воротник торчал; чтобы ты, читатель, не домысливал ничего лишнего, поясню, что брюки психолог тоже не забывал надевать) и медицинской шапочке с этой круглой штукой блестящей, какие обычно у лора, черт знает, как она называется – по его мнению, таким образом он улучшал атмосферу в этой несколько унылой МОУ СОШ. Директриса эти чудачества не то чтобы поощряла, скорее, она не обращала внимания на выходки психолога, поскольку хотела выдать за Голобородьку свою косую дочку. Голобородьке дочка почему-то очень уж нравилась, и в основном о ней он и разговаривал с Мизинцевым. Так было и на этот раз. В кабинете психолога музыкальный центр тихонько сопел «You spin me right round», а со стены как-то сварливо поглядывал распечатанный на принтере портрет Эриха Фромма.
– You spin me right round, baby, right round, – подпевал Голобородько. – Знаешь, кстати, вот какое словечко spin, тебе должно быть интересно. Спин – он там еще в этой… квантовой механике, то есть, где свойства атомов изучаются, то есть, спин… это как бы момент импульса, как бы от вращения, и само слово spin… like a record, baby… мда, а вот, Алиночка, кстати, эх, я женюсь, я не удержусь!
Мизинцев после урока был как-то очень раздражен, поэтому он позволил себе неполиткорректное замечание:
– Никогда не понимал, что ты в ней нашел? Она же косая.
– Как раз это страшно меня влечет, – сделал неопределенный жест Голобородько. – Никогда не знаешь, куда она смотрит. Я не могу на нее подолгу смотреть. На части разрываюсь от… я женюсь, я не удержусь!
– Такую тещу приобретаешь, – буркнул Мизинцев.
– Тьфу на тебя, – обиделся Голобородько. – Я изнемогаю от лавины чувств, понимаешь ли, к Алиночке, а ты опять про тещу. Сам-то тоже… отец Леночки твоей… горилла, а не тесть будет.
С чувством выполненного долга Голобородько выключил музыкальный центр. Помолчали. Мизинцев в замешательстве почесал в затылке, попрощался и удалился.
Еще два урока прошли совершенно механистично, в памяти Мизинцева прокручивался только первый из сегодняшних, у десятого класса. Вроде бы все как всегда, тема обычная, Обломов, Настенька Гордеева, отличница, прямо перед ним сидит с какой-то девочкой-филином, чью фамилию Мизинцев так за год и не запомнил, и зазубренное декламирует. На стене оставшиеся от предыдущей учительницы портреты. Масляное личико Жуковского. Чехов в очечках, ну, в этом своем пенсне. В самом углу, у шкафа, рядом со шваброй и пластиковым ведерком сутулый Достоевский. Мизинцеву вроде и хотелось унести Достоевского домой, да все камер боялся. Камеры кругом, хорошо хоть без звука пишут. Передвинуть Достоевского на видное место, поменять местами с Жуковским? А смысл, кто оценит, вот же, до Обломова было «Преступление и наказание». Многое они вынесли из него? Девочки назубрили какой-то галиматьи из гугла, мальчики – циники-сверхчеловечки – что-то протявкали про глупость Раскольникова. Награбленное надо было так-то и так-то сложить. На себя доносить – вообще западло. И прочее. Или проходили Гоголя с кем-то, как там на черте улетели за обувью. Мизинцев и чувствовал себя чертом, которому на шею хотят залезть, да ножки свесить. Противно! А сегодня – Обломов. Русские не хотят ничего делать, говорит юноша с фамилией Николаев. Они всегда были ленивыми и никакой пользы миру не приносили. Какая польза миру? Где он, мир этот твой? Ты видел мир дальше Анталии? А, ну в Египет ездили поди, куда там еще ездят, в Таиланд. И что, в Египте каждый Али ожидает пользы от действий русского Обломова и негодует от его бездействия? А как раз бездействие и было Мизинцеву близко. Бездействие и какой-то кислый нейтралитет. Весь класс доказывал ему, что Раскольников – плохой, девочки – из-за аморальности убийства, мальчики – из-за неумелости в совершении этого самого убийства. Плохой, плохой. Да не плохой никто, и не хороший. Плохи мы все как совокупность.
Нет, все же удобнее четко дифференцировать: этот плохой, этот хороший, вот условятся они все (люди), да и решат – вот этот гражданин плох, и что бы потом он ни сделал, на него будут глядеть сквозь эту призму, в особенности, если будет этот гражданин делать нечто, что может быть расценено как хорошее – тогда просто-напросто будут искать в этих действиях подвох. И непременно найдут!
Леночкиного батю, к примеру, условились считать плохим человеком. А был ли он плохим? Мне ли судить об этом? Сегодня именно у него был день рождения, но уже с утра обстановка в квартире была напряженной, и демотиватору Фольгину предстоял легкий вечер: с утра кто-то тронул слоников на телевизоре, вы знаете, такие слоники, один меньше другого, стоят, кто-то задел слоников этих, и Леночкин батя прочитал всем домочадцам (своему глухому отцу и дочке Леночке) мораль, после чего уселся за стол жевать эти, как их, вылетит же слово, ааа, ва… нет, не вареники, ну, в общем, кусочки, куски хлеба кладутся на сковородку и поджариваются на масле, жирно, жир журчит, яйца иногда еще разбивают и туда же бросают, что-то типа омлета, не знаю, вот этим Леночкин батя завтракал прямо со сковороды. Испортили настроение в собственный день рождения, и прямо с утра.
Считал ли Леночкин батя себя плохим человеком? Определенно, нет. Но не считал и хорошим, он квалифицировал себя как человека делового. Он занимается делом, а не баклушами трясет. Так и сказал дочери с утра. Пока они слонят его двигают, он делом занимается. Дело это важное. Вот какое: Леночкин батя занимался составлением «практического словаря». В кризис две тыщи восьмого он принес в семью печальную новость, что его сократили, и с тех пор он занимался этим своим словарем. Особенность этого словаря была в такой изощренно-прикладной направленности, там были не все слова, а только необходимые в практической деятельности человека, да и толкования были самые утилитарные. И Леночкин батя все этот словарь составлял, а подрабатывал он теперь охранником в супермаркете – при весе около ста тридцати кило он одним видом своим внушал трепет безобразникам. Не, если его (и вещи его) не трогать, он тихо, мирно сопит, но передвижение слоников с телевизора или еще какая подобная мелочь вызывала всегда припадок раздражения, неизменно приправляемый нравоучениями; так, ругаясь сегодня на Леночку за слоников (глухому тестю тоже досталось, ибо не поправил слонят, скотина), он сказал, что вещи передвигать без спросу, пусть и случайно, это непорядок, потому что если какая вещь лежит на каком-то месте, то не просто же так это случилось, значит, эту вещь сюда кто-то положил, а раз кто-то положил именно сюда, то, значит, у этого размещения была какая-то причина, ведь ничто просто так не совершается, а раз что-то совершается, то непременно с каким-то смыслом.
Эта склонность, кстати, была в нем чуть ли не с детства, тогда они жили в другой квартире, и с ними жил старший брат Никита, который на все подобные нотации отвечал: «Я опровергаю это так», разбегался и ударял кулаком по стене, на что получал ответ, что нет, это нанесение самоповреждений имело причину, и причиной этой была именно попытка опровергнуть наличие причин.
Короче, спорить с Леночкиным батей было бесполезно, и корни такого поведения лежат где-то глубоко и далеко. А сегодня он в испорченном настроении доел кусочки и возобновил работу над словарем. Работа не шла, еще бы, момент вдохновения упущен, мерзко, хотя вообще – если себя читать не мерзко, значит, ты плохо пишешь. Чтение – и особенно собственных опусов – не должно доставлять удовольствия, оно должно причинять боль. Во Франции могут сколько угодно квохтать об удовольствии от текста, все равно они неправы: боль от текста (не раздражение от плохо написанного, а именно боль) – вот что должно приносить чтение.
Рука человеческая имеет пять пальцев: большой, указательный, средний, безымянный и мизинец. Каждый палец имеет фаланги (куски пальцев) и по одному ногтю. Большой палец отстранен от остальных и предназначен для одобрения действий сообщества. Указательный палец предназначен для указания на предметы, явления и иные объекты действительности. Взаимодействие пальцев руки и запальчечного пространства образует функционирование ладони, позволяющее осуществлять управление компьютерными и иными механизмами, а также процессы захвата и метания камней, ядер и иных снарядов. Рука прикрепляется к туловищу при помощи плеча. Рука, не прикрепленная к туловищу, не может осуществлять управление механизмами, захват и метание камней и иных снарядов. Функции руки дублируются второй рукой, однако траектории полета камней и иных снарядов при операциях, осуществляемых разными руками, могут отличаться. Человек, не имеющий рук, не может метать камни и иные снаряды.
Я сам себе отвратителен. Смотрел сейчас на себя в зеркало, и даже не было какой-то мысли, а только общее разочарование. Никем не стал, ничего не сделал, а уж мнил-то себя кем! Везде скован, неловок, все неприятно и неинтересно, хочется уйти домой, а дома только музыку слушать да книжки читать. Ха-ха, смешно себе самому признаваться, потому что больше-то кому? Дома, после работы, в качестве отдушины занимаешься поганенькой писанинкой, совершенно самому не нравится, что я делаю. Впрочем, этого никто и не прочитает, сам вслух не читаю даже коту, это и не должно быть произнесено, это все – зарывание тоски и пригоршни бесполезных мыслей в слова, там, за блоками из абзацев, это все зароется, потеряется, я понемногу закапываю свои мысли, закапываю, чтобы избавиться, но не избавишься окончательно, ведь те мысли, что записаны, проигрывают мыслям в голове тем, что они продуманы. Это все и портит. Я хочу избавиться не столько от мыслей, завернутых в пленку из букв, сколько от самого механизма думанья.