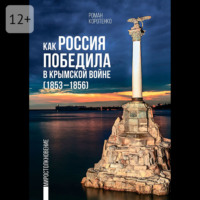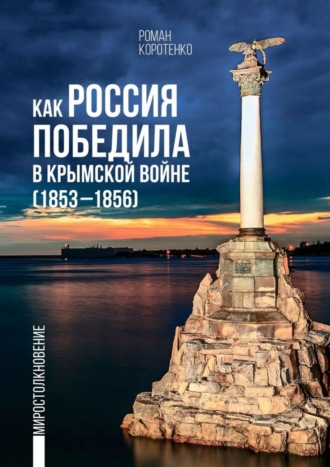
Полная версия
Как Россия победила в Крымской войне. (1853—1856)
Естественно, между представителями христианских конфессий периодически разгорались настоящие сражения, и даже со смертельным исходом, – турецкие полицейские, конечно же, вмешивались в эти монашеские битвы, но не всегда вовремя.
Если рассматривать фактическую сторону дела, то непосредственной искрой, из которой разгорелся пожар Крымской войны, стали события вокруг Вифлеемского храма (базилики) Рождества, расположенного над пещерой, в которой родился Иисус Христос.
Вифлеемский храм Рождества в христианском мире считается вторым по значимости после храма Гроба Господнего в Иерусалиме. Его строительство было начато св. Еленой, матерью Флавия Валерия Аврелия Константина, более известного как император Константин Великий, который в 330 году перенёс столицу Римской империи в город своего имени.
Спустя семь столетий храм был захвачен крестоносцами, после их изгнания мусульманами был возвращён грекам и в дальнейшем ещё несколько раз переходил от конфессии к конфессии, пока решением турецких чиновников не был разделён между христианами: главный алтарь и главные врата базилики достались грекам, а придел Яслей Христовых (вместе с яслями) был передан католикам94.
В описываемый период неоднократно происходили столкновения греков, католиков и армян за контроль над храмом Рождества. Однако каждый из подобных конфликтов оставался внутрихрамовой разборкой: его участниками были в основном священники храма Рождества, а результат конфликта отражался на престиже этих же священников.
Но всё кардинально изменилось в конце 1852 года, когда по требованию императора Франции турецкие власти издали фирман, согласно которому ключи от главного входа в базилику Рождества передавались католикам, – а ведь тот, кто контролировал вход в здание, мог контролировать и всё здание.
Поясним суть этого события: непосредственным участником конфликта вокруг палестинского храма впервые выступило Французское государство в лице своего императора. Именно Франция потребовала ключи от входа в храм забрать у православных и передать их католикам. Таким образом, в 1852 году внутрихрамовая проблема присутствия разных христианских конфессий в базилике Рождества внезапно превратилась в проблему международную.
На тот момент Франция традиционно считалась покровительницей католиков во всём мире, у православных же во всём мире также был свой традиционный покровитель – Россия. В результате конфликт отражался не на престиже греческого или католического настоятелей храма Рождества, а на престиже Франции как покровительницы католиков и престиже России как покровительницы православных.
Турция, судя по всему, должна была бы проигнорировать требование французского императора. Во-первых, принадлежность ключей от входа в Вифлеемскую базилику была сугубо внутренним вопросом Турции, так как храм находился на её территории, а не на территории Франции. Во-вторых, какие-либо межконфессиональные разногласия не попадали под юрисдикцию светского лица, коим являлся император Франции. В-третьих, даже с учётом признанного покровительства императора Франции над католиками, правительство Турции могло переадресовать французские претензии непосредственно императору России: дескать, нам, мусульманам, вообще всё равно, чей настоятель будет главным в Вифлеемском храме, так что разбирайтесь между собою сами.
Впрочем, в действительности турецкое правительство попыталось дистанцироваться от участия в решении проблемы храма Рождества. Однако император Франции проявил настойчивость и очередное своё требование к туркам подкрепил отправкой в Константинополь новейшего французского линкора «Шарлемань»95.
В конце концов турки согласились отобрать ключи у православного епископа.
Как должна была поступить Россия в этой ситуации? Не обратить внимания на вбитый гвоздь? Согласиться с тем, что в результате один католический паломник становится выше по статусу, чем тысяча православных?96
Тогда в Константинополь срочно прибыл специальный российский посланник князь Меншиков, который потребовал от турецкого правительства восстановления status quo. Султан вроде бы прислушался к пожеланию России и отправил в Иерусалим новый фирман, возвращающий грекам ключи от храма. Но внезапно оказалось, что местные власти игнорируют султанский указ, и ключи по-прежнему остаются у католиков97.
По логике российского правительства, если в столь важном вопросе, который из-за французского императора приобрёл международное значение, не работают турецкие фирманы, то вместо них должен начать работать международный договор. Поэтому турецкому правительству было предложено заключить конвенцию, согласно которой подтверждалось бы право российского правительства ходатайствовать в пользу православной церкви на территории Турции98, а соблюдение status quo палестинских храмов становилось бы для Турции межгосударственным обязательством99.
Турция на это ответила категорическим отказом, усмотрев в российском предложении грубейшее нарушение своего суверенитета.
Только тогда, чтобы добиться сговорчивости от османов, император Николай I отдал приказ своим войскам вступить на территорию независимых придунайских княжеств, на тот момент находившихся, как уже упоминалось, под совместным российско-турецким протекторатом.
В настоящее время общепринятая история Крымской войны рассказывает, что все участники антирусской коалиции попали в неё чуть ли не случайно, по стечению обстоятельств.
Турция якобы стремилась защитить свой суверенитет от российских притязаний; Франция оказалась во власти амбиций Луи-Наполеона, который после провозглашения себя императором нуждался в каком-либо крупном международном успехе; Британия всего лишь защищала свои торговые интересы; Сардиния поспешила примкнуть к победителям, чтобы поднять свой международный авторитет и заодно получить что-нибудь в свою пользу на Парижской мирной конференции. Даже войска Мехмета Али Египетского прибыли в Крым исключительно потому, что Мехмет Али, как оказалось, всегда считал себя верноподданным слугой султана.
На самом же деле несложно обнаружить, что все действия будущих коалициантов координировались задолго до начала войны, и общей целью этих действий было оказание тотального прессинга в отношении России.
Даже упомянутый визит линкора «Шарлемань» в Константинополь был устроен не для того, чтобы заставить турок передать католикам ключи от какого-то там Вифлеемского храма. Примерно в это же самое время в подвластной османам Черногории начались волнения, султан направил туда 50 тысяч войск и тут же отозвал их обратно – потому что из Вены примчался спецпосланник австрийского императора, который потребовал не кошмарить Черногорию. При этом гордые турки даже не заикнулись о своём суверенитете, и австрийцы вполне обошлись без отправки военного корабля под окна султанского дворца. Так что визит «Шарлеманя» имел совершенно иную цель. Ведь он по сути являлся двойным нарушением Лондонской конвенции 1841 года: Франция как её подписант не имела права направлять свой военный корабль для прохода через Дарданеллы в мирное время; Турция, со своей стороны, обязана была не пропускать его. Поэтому свободный пассаж французского линкора через закрытый конвенцией пролив являлся всего лишь открытой демонстрацией того, что никакие международные соглашения не обязательны и не будут соблюдаться, если это необходимо для нанесения ущерба конкретно России.
По сути, вступление русской армии в Придунайские княжества было предсказуемым вариантом ответа на провокации западноевропейцев. Но даже если бы Россия «проглотила» инцидент с Вифлеемским храмом и вообще никак на него не отреагировала, война всё равно началась бы.
Общеевропейское равновесие – это такая сложная штука, что при желании разглядеть его нарушение можно практически в чём угодно. Или же не рассматривать вообще. Во всяком случае, британскому адмиралу Прайсу и французскому адмиралу Феврье-Депуансу приказ действовать против русских на Тихом океане был отправлен ещё до того, как парламенты их стран проголосовали за объявление России войны100.
20 и 24 августа 1854 года объединённая англо-французская эскадра под командованием Прайса и Феврье-Депуанса совершила попытку захвата русского порта Петропавловск, расположенного на Камчатке. Союзники привели шесть боевых кораблей, на которых, по некоторым данным, было 3200 человек экипажа (включая десантников) и 212 пушек.
У русских было чуть менее тысячи человек гарнизона, два военных корабля и 67 пушек.
В ходе нападения союзники дважды бомбардировали петропавловские батареи с последующей высадкой десанта. Дважды русские с разбомбленных батарей штыками загоняли десантников обратно в море.
В конце концов потеряв более 200 человек убитыми и ранеными, эскадра союзников уплыла в Сан-Франциско зализывать раны. Причём её первый командующий адмирал Прайс перед самым началом сражения вообще застрелился в своей каюте.
В этой истории бесславного для союзников штурма Петропавловска определённый интерес вызывают обстоятельства, ему предшествовавшие.
16 октября 1853 года Османская империя официально объявила войну России, и на Дунае начались боевые действия.
12 марта 1854 года в Константинополе был заключён договор между Великобританией, Францией и Турцией о предоставлении Турции военной помощи101.
27/28 марта 1854 года Британия и Франция практически одновременно декларировали войну против России.
10 апреля 1854 года в Лондоне дополнительно была заключена англо-французская конвенция «О предоставлении военной помощи Турции», статья 5 которой приглашала присоединиться к этому военному союзу все европейские государства102.
А в это самое время на другом конце планеты, в перуанском порту Кальяо, встретились вместе корабли трёх враждующих наций: 24 апреля 1854 года российский фрегат «Аврора» под командованием капитан-лейтенанта Ивана Изыльметьева после перехода из Кронштадта зашёл в порт пополнить запасы, когда там находились на стоянке британский фрегат «Президент» под командой контр-адмирала Дэвида Прайса, а также французские фрегат «Форт» и бриг «Облигадо» контр-адмирала Огюста Феврье-Депуанс.
«Аврора» не стала задерживаться в Кальяо, сразу после пополнения запасов вышла в открытое море и взяла курс на Петропавловск. Согласно некоторым источникам, во время её стоянки адмирал Прайс предлагал-таки атаковать русский фрегат, но Феврье-Депуанс отговорил коллегу, сославшись на то, что у них на руках нет ещё документа, подтверждающего состояние войны между Британией, Францией и Россией103.
Депеша с сообщением о начале войны будет получена в Кальяо только 7 мая 1854 года. Её доставит британский вооружённый пароход «Вираго», который специально ожидал в Панаме прибытия почты104.
Через некоторое время после этого подтверждения разбросанные по тихоокеанским портам корабли союзников соберутся на Гавайях и уже оттуда 25 июля 1854 года отправятся захватывать Петропавловск105.
Во всех этих вроде бы малозначительных событиях обращает на себя внимание следующий нюанс: дата получения союзными адмиралами сообщения о начале войны.
Дело в том, что в 1854 году телеграфной линии между Европой и Америкой ещё не существовало, поэтому все важные сообщения приходилось доставлять обыкновенной (нарочной) почтой. И если посчитать, сколько времени было необходимо, чтобы интересующее нас письмо из Европы попало в Кальяо, то получится любопытная арифметика.
Итак, депеша прибыла к союзным адмиралам 7 мая 1854 года.
Расстояние между Кальяо и Панамой – примерно 2500 километров. Скорость «Вираго» – 8,6 узлов, или 16 км/ч106. Значит, весь этот путь занял шесть с половиной суток, то есть в Панаме депеша была получена примерно 1 мая 1854 года.
На Панамском перешейке знаменитого канала также ещё не существовало, зато как раз строилась железная дорога длиной 79 километров, которая должна была соединить город Аспинволл (он же Колон) на атлантическом побережье и город Панама – на тихоокеанском.
Первый поезд проследует по этой дороге 28 января 1855 года. А это значит, что на момент описываемых событий все грузы, в том числе и почта, перевозились между Аспинволлом и Панамой на мулах и что в Аспинволл почта из Британии прибыла не позднее 29 апреля.
Доставить её мог, конечно, и какой-нибудь военный корабль, и специально зафрахтованное коммерческое судно. Однако на тот момент уже существовало регулярное морское сообщение между Британией и Аспинволлом: каждое 7 и 22 число месяца из Саутгемптона прибывали пароходы «Роял Мэйл Стим Пэкет Компани»; каждое 6, 21 и 29 число из Ливерпуля – пароходы «Вест-Индия энд Пасифик Стимшип Компани».
При этом обратим внимание: «Вираго» находился в Панаме именно в ожидании прибытия почты из Европы, то есть были известны расписание и конкретная дата прибытия парохода. И если интересующая нас депеша попала в Аспинволл именно 29 апреля 1854 года, то доставивший её пароход вышел из Ливерпуля, согласно расписанию, 15 марта того же года107.
В таком случае подтверждение начала войны против России и приказ атаковать Петропавловск были отправлены в Кальяо почти на две недели раньше той самой даты, когда парламентами Британии и Франции были рассмотрены и приняты декларации об объявлении войны.
Получается одно из двух: либо высшие военно-морские начальники Британии и Франции обладали способностью предвидеть будущее, либо приказ начать войну против России был им отдан властью, находящейся выше законов, парламентов и правительств Британии и Франции.
Следует также отметить, что история с нападением англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский в 1854 году достаточно красноречиво иллюстрирует действительный характер Крымской войны: во-первых, на самом деле она была не Крымская, а повсеместная; а во-вторых, для западноевропейской коалиции отнюдь не победная. И в-третьих, к событиям в Турции эта война оказалась привязанной чисто ситуативно, просто на совпадении дат между определёнными событиями. Решение о вторжении в Россию было принято в 1852 году; и если вдруг не сработала бы турецкая карта, то причину вторжения обязательно нашли бы в чём-то другом.
Это подтверждается стремлениями англичан и французов захватить Петропавловск и Уруп на Тихом океане, Колу и Соловки на Белом море, Бомарсунд и Свеаборг на Балтике. Если обратиться к англо-франко-турецкому договору, который служил правовым основанием для вступления в войну западных европейцев, то в нём было конкретно указано, что целью соглашения является защита турецкой территории от агрессии России.
В связи с этим возникает неожиданный вопрос: какие именно турецкие территории защищали союзники в Финляндии, на Соловках, на Камчатке?
Очевидно, что план начавшейся войны был разработан вне всякого отношения к русско-турецкому кризису. Причём неформальность в её ведении, когда войска европейских государств приходят в движение ещё до принятия соответствующего решения своими парламентами, говорит о том, что ни парламенты, ни правительства европейских государств к началу этой войны также не имели никакого отношения.
Однако вернёмся к Севастополю.
В общепринятой мифологизации Крымской войны захват этой русской морской крепости франко-британскими войсками имеет сверхважное значение, является переломным моментом вообще всей войны и в результате приводит Россию чуть ли не к безоговорочной капитуляции.
При этом почему-то никто из военных историков до сих пор не задался целью объяснить, что же такого сакрально важного для русских было в Севастополе, если его «падение» решило исход войны?
Иначе говоря, почему в 1812 году полная оккупация и сожжение столичной Москвы войсками Наполеона отнюдь не означали для русских окончательного поражения, а в 1855 году кучки французских и британских мародёров, пробирающихся на свой страх и риск в оставленную русской армией южную часть Севастополя, которая при этом оставалась под прицелом русских пушек, расположенных на его северной стороне108, – внезапно заставили сдаться миллионную русскую армию?
Чтобы разобраться в этом парадоксе, необходимо выяснить не мифологическое, а действительное значение Севастополя для противоборствующих сторон.
Когда британцы и французы вступили в войну на стороне Турции, в качестве первоочередной задачи для союзников возникла необходимость вывести из игры российский Черноморский флот109.
В генеральном сражении, конечно, ЧФ не представлял для них серьёзной опасности, так как против 14 русских линкоров союзники привели в Чёрное море 26 своих линкоров (из которых 8 – паровые), плюс 5 линкоров турецких и 3 линкора Мехмета Али.
Однако более чем двукратное преимущество боевых кораблей фактически сводилось к нулю наличием у русских Севастополя.
Союзники имели много морских пушек, которые были расположены на уровне моря, и защищались деревянными бортами кораблей. Береговой артиллерии в Севастополе было гораздо меньше, но вся она находилась высоко на скалах по обе стороны Севастопольской бухты и была защищена каменными стенами фортов. Поэтому в генеральном сражении одного-единственного Севастополя против всей эскадры союзников победа однозначно осталась бы за русской крепостью.
Однако пока Черноморский флот мог находиться под защитой севастопольской крепости, морским коммуникациям союзников в Чёрном море угрожала бы опасность, так как невозможно постоянно всей объединённой эскадрой дежурить у выхода из Севастопольской бухты110 – эта блокада, к примеру, была бы снята первым же крупным штормом111.
Таким образом получилась следующая ситуация: чтобы гарантированно защитить все свои коммуникации на черноморском театре боевых действий, нападающей стороне обязательно необходимо было нейтрализовать российский Черноморский флот. Однако выполнение этой задачи становилось возможным только после уничтожения севастопольской морской крепости.
Автору, к сожалению, не известен детальный план войны против России, который был разработан в генеральных штабах Британии и Франции. Зато всем более или менее известны цели этой войны. Они были озвучены Генри Джоном Темплом, 3-м виконтом Палмерстоном, на тот момент министром внутренних дел Британии, в меморандуме от 19 марта 1854 года:
«Мой прекрасный идеал результата войны, которая вот-вот начнется с Россией, таков: Аландские острова и Финляндия возвращаются Швеции. Некоторые из германских провинций России на Балтике уступаются Пруссии. Королевство Польша восстанавливается как барьер между Германией и Россией. Валахия и Молдавия, и устья Дуная отданы Австрии… <…> Крым, Черкесия и Грузия забираются у России; Крым и Грузия передаются Турции, а Черкесия либо независима, либо связана с султаном как сюзерен»112.
Также очевидно, что уничтожение российского Черноморского флота в целях обеспечения безопасности своих коммуникаций на южном участке противостояния являлось, по сути, подготовительным, то есть первым шагом на этом длинном и славном пути.
И с любой точки зрения это должен был быть очень лёгкий первый шаг.
Хорошо защищённая со стороны моря, главная база Черноморского флота уверенно отразила бы любое нападение вражеского флота. Однако состояние сухопутной обороны крепости в начале 1854 года являло собою полную противоположность её морской мощи.
На тот момент вся группировка русских войск в Крыму насчитывала 37,5 тысячи солдат, но эти силы были распределены по всей территории полуострова от Керчи до Евпатории и от Балаклавы до Перекопа. Непосредственно в Севастополе располагался всего лишь 9,5-тысячный гарнизон при 23 полевых орудиях, плюс три тысячи матросов на кораблях.
Но самое главное – Севастополь «…с сухопутной стороны был только на одной трети своей окружности прикрыт каменною стеною; на остальных же двух третях город был совершенно открыт»113. Очевидно, что неприступный для атаки со стороны моря Севастополь был практически беззащитен на суше114. Поэтому 14 сентября 1854 года на ровные пляжи Евпатории, примерно в 90 километрах к северо-западу от Севастополя, был высажен 62-тысячный десант союзников при 134 полевых орудиях.
После отступления евпаторийского гарнизона, состоявшего из 200 человек «команды слабосильных Тарутинского егерского полка», для союзников путь на Севастополь был открыт, и они устремились к своей главной цели.
При имеющемся раскладе сил – подавляющем численном превосходстве у нападающих, а также отсутствии сухопутных фортификационных укреплений у обороняющихся – взятие с тыла русской морской крепости представлялось делом одного дня. Британцы даже не стали обременять своих солдат походными ранцами115: победа ожидалась быстрая, а трофеи богатыми.
Однако что-то пошло не так.
Вначале русские преградили союзникам путь, встретив их на речке Альме в 25 километрах от Севастополя. Князь Меншиков, командующий Крымской армией, собрал здесь практически все доступные ему силы.
Для союзников это был настоящий подарок: противник стоял перед ними в чистом поле, а не прятался за стенами каменной городской застройки. Поэтому войска союзников, превосходящие русских по количеству почти вдвое, имеющие на фланге поддержку своего огромного флота, вооружённые более мощным оружием (см. ниже), доблестно атаковали русских в течение трёх с половиною часов и в результате добились отступления армии Меншикова.
Победа была несомненная, однако абсолютно бесполезная: русских всего лишь заставили покинуть позиции в чистом поле и вернуться обратно в Севастополь.
Зато союзники после этой победы стали очень осторожными, и оставшийся до города однодневный переход у них занял целую неделю. Этих семи суток оказалось достаточно, чтобы севастопольцы буквально из ничего на пустом месте построили вполне эффективную систему деревоземляных бастионов, превратив морскую крепость вдобавок ещё и в сухопутную. Получилось точь-в-точь как в известной русской армейской шутке: «Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную»116.
Впрочем, для нападающих ситуация выглядела далеко не шуточной: поразмыслив ещё две недели, они приступили к возведению собственных укреплений напротив внезапно возникших укреплений русских. Последовавшая за этим война бастионов продолжалась почти год: с 25 сентября 1854 года по 9 сентября 1855 года.
Уничтожение 14 черноморских линкоров должно было быть для западных европейцев лёгким предварительным шагом на пути к завоеванию России. На этот шаг две самые мощные мировые державы совместными усилиями потратили 11,5 месяца и при этом положили более 100 тысяч жизней своих солдат.
В результате 14 потопленных линкоров оказались вообще их единственным значимым достижением в ходе всей Крымской войны.
Если представить себя на месте британского и французского главнокомандующих, то в подобной ситуации вполне уместно было бы задуматься: насколько целесообразной была бы попытка сделать следующий запланированный шаг? К тому же в конце ноября 1855 года командир Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютант Николай Николаевич Муравьёв принял капитуляцию от британского полковника Вильяма Фенвика Вильямса, руководившего обороной турецкой крепости Карс117. У турок это была самая сильная крепость и главный опорный пункт на кавказском театре боевых действий. Падение Карса ничего хорошего союзникам также не предвещало.
Обратим внимание на хронологию событий: южная часть Севастополя118 была оставлена русской армией в сентябре 1855 года – британцы полностью капитулировали в турецком Карсе в ноябре 1855 года – мирные переговоры в Париже начались в феврале 1856 года. Даже из сопоставления дат вполне очевидно, что война закончилась не тогда, когда союзники условно захватили половину Севастополя. Война закончилась тогда, когда Британия и Франция пришли к пониманию: предел их возможностей атаковать Россию оказался достигнут. Всё, что произойдёт далее, может только ухудшить положение Британии и Франции.
К сожалению, эта несложная истина скрыта огромным количеством ложных стереотипов, которыми до сих пор плотно окутана Крымская война.
Например, одним из подобных устоявшихся заблуждений является якобы полнейшая несостоятельность армии и флота России по сравнению с военной мощью союзников.
Общим местом при упоминании Крымской войны стали утверждения, что войска союзников были лучше вооружены, лучше оснащены технически, а солдаты и военачальники имели лучшую подготовку. Даже легендарная Флоренс Найтингейл, в честь которой учреждена высшая награда Международного Красного Креста, одна только и заботилась о раненых солдатах союзников119. Да как ещё, если не подавляющим превосходством, объяснить несомненную и безоговорочную победу западноевропейской коалиции в войне против отсталых русских?
Объективности ради отметим, что проблем и недостатков у российских вооружённых сил периода Крымской войны было намного больше, чем принято считать.