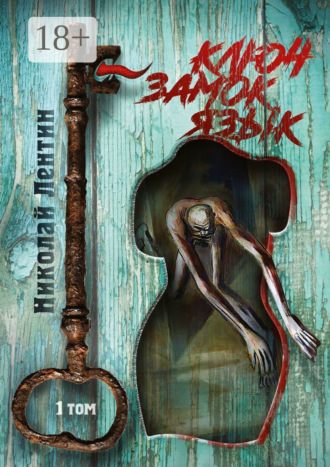
Полная версия
Ключ. Замок. Язык. Том 1
– Ты квартальный, а я нахальный! Лежи после моей дубинки в мясном ряду на рынке!
А вот цыган с лошадью – пошла потеха.
– Давай задатку за лихую лошадку – два дня бежит, три дня лежит! – Мало! – Чтоб тебя разорвало!
Тут Раскольникова потащили за штаны. Он обмер, решив, что идиотка вознамерилась пустить его вдогонку по смазке маляра. Но дело было проще: скотина сама желала зрелищ и, отпихнув его, высунулась в окно. За её спиной ничего было не видать, только слышалось, как зрители надрывали животики: Петрушка раз за разом падал с лошади. Раскольников плюнул и пошел в контору, но был ухвачен, как щупальцем, и отброшен назад. Тварь не соображала, но чуяла: у пленного студента успела мелькнуть идея бегства под кукольное веселье.
Со двора нёсся радостный гул: явился «штаб-доктор лекарь, с-под Аничкова моста аптекарь, был в Париже, был и ближе, бывал в Италии и так далее, принимаю на ногах, отправляю на костылях». Петрушка расправился с ним сперва лингвистически: was ist das – кислый квас, gutten morgen – дам по морде, затем морально: «Какой же ты доктор, если спрашиваешь, где болит? Зачем учился? Сам должен знать, где болит!», – наконец, палкой по голове довершил убеждение. Тут же снова прибежал квартальный: «Ты зачем доктора убил? – А зачем плешивый был? Росли б волосья – палку не почуял небось бы.» Вот и полицейский сызнова убит под улюлюканье… Вряд ли до дурынды толком что-то доходило, но ржала непрерывно, как лошадь, то есть не на выдохе, а втягивая воздух.
Раскольников всё же бочком выбрался из кухни, Лизка не стала его возвращать, но отдёрнула шторку и поминутно оборачивалась от окна. Книжные листы большей частью валялись возле дивана на полу; спасибо, что не забрызгали. Он принялся раскладывать их – сказочное в одну сторону, прочее в другую.
«…час, в который ожидал я сделаться счастливейшим из смертных, и нас проводили в опочивальню… Любезная моя попросила меня, чтоб я помог ей раздеться… Супруга моя… сняла с головы своей накладку, за которую следовали прекрасные её виющиеся на плеча локоны, и представили глазам моим голый и ясный шарик. Таковое преткновение ожиданиям моим много унесло пылкости в жарчайших моих желаниях. Плешивая красавица должна не скидать с головы своей повязки или ожидать разборчивости в щекотливом вкусе своих почитателей. Между тем богиня моя приметила происходящее от сего в мыслях моих… и, употребя ко успокоению моему несколько ласкательств, вынула у себя один глаз, несколько зубов и, сняв перчатку, осталась без левой руки по самую кисть. Я начал приходить в себя из моих любовных восторгов, но составная красавица не допустила меня употребить рассуждения: она просила меня отвязать ей ногу.
– Неужто у вас и ноги нет? – сказал я в изумлении, ощупал и освободил её от ноги, вырезанной совершенным искусством из дерева».
В этой старинной прозе есть своя пикантность. Попробуй сейчас такое тиснуть – цензура загрызёт. Во дворе заголосили что есть мочи – значит, финал, Петрушка не может совладать со смертью, и народ поддерживает его изо всех сил. Народ – эстет, исполнительское мастерство ставит выше карательной морали: подумаешь, пятерых убил, с кем не бывает.
«Лишь только успел я сделать великодушное сие дело, как вдруг услышал произнесенные ко мне не знаю откуда следующие слова:
Не плачь и не тужи,не бось и не робей;ты будешь награжден,надежду в том имей.После чего продолжал я путь свой до самой ночи». Наверняка аллегория иллюминатов. А вот им голос свыше гнушается что-то.
Дурища высунула из кухни встрёпанную, как у пугала, голову, оглядела поднадзорного и пошла строгать и резать к обеду. Вот как к такой страхолюдине ключ подобрать, если замочная скважина под мясной ломик сделана. Хоть убейте, он на это не гож. Вероятно, басистый маляр – здоровенный мужик. Идиотке бы атлантов эрмитажных показать – вот уж застыла бы в очарованье, там каждый палец ноги сулит неисчислимы наслаждения.
Следующий обрывок среди опавшей книжной листвы заставил его призадуматься. – «…И, выговоря сие, накрывшись одною только белою простынею, оставя своих девиц у фонтана, пошла к милорду в беседку. Увидевши он ее, накрыл свою голову одеялом и притворился, будто спит. Королева, подошед к кровате, стащила с него одеяло, а он, вскочив с постели, хотел бежать, но она, ухватя его, удержала и села подле него на кровате. Милорд, видя наглое ее бесстыдство, говорил:
– Ваше величество, я осмелюсь вам доложить, что у нас в Англии не только из таких знаменитых королевских особ, но и из самых подлых женщин ни за какие деньги таким образом, как вы, тела своего пред мужчиною обнажать не согласятся.
– Я и сама знаю, – отвечала ему королева, – чести моей поношение; но сие делаю от нестерпимой к тебе моей любви.
– Ваше величество, – говорил еще милорд, – вы совершенно от фонтанной воды озябли и можете простудиться; чего ради я и советую вам одеться.
Но королева, не ответствуя на его слова, схватя его за шею, и без всякого стыда стала его целовать, делая многие любовные декларации; но он сколько можно с учтивостию отговаривался и наконец, вырвавшись у ней из рук, ушел за густую аллею».
Что за притча, в книжку он, что ли, попал. Он вдруг ощутил себя вновь в перекрученной позе, стянутым в непонятный узел; только теперь вместе с ним этим хитрым перекрутом были ухвачены и время, и пространство. Нашлась ещё страничка из повествования о том же милорде, который, оказывается, привораживал всех подряд женщин. «…Но вдруг увидя отворившуюся дверь и идущую к себе даму, очень удивился; а как она подошла к его кровати и мог он ее узнать, то говорил ей:
– Ах, ваше высочество! пристойно ли это, зачем вы в такое необыкновенное время приттить сюда изволили?
– К тебе, любезный милорд, – отвечала она ему, – и в самое лучшее время для доказательства непреодолимой моей к тебе любви.
– О боги! – сказал милорд, – какое это похабство; я думаю, ни одна подлая женщина такой наглости и бесстыдства сделать не может; я ваше высочество уверяю, что я нималой склонности к вам не имею и ни для чего любить вас не намерен, чего ради покорно прошу, извольте иттить в свою комнату, а меня оставьте в покое, – и, оборотясь на другую сторону, окутался в одеяло. Но она, не удовольствовавшись своим бесстыдством, зашла к нему с другой стороны кровати и, сдернув с него одеяло, легла подле его. Милорд, видя такое бесстыдное похабство, вскоча с постели, говорил: – Ежели вы не изволите сейчас отсюда выттить, то я принужден буду кричать, чтоб вас в таком безобразном виде от меня вывели, о чем к поношению вашей чести будет известно не только в здешнем доме, но и во всем городе.
Елена, видя свою неудачу, встав с постели, пошла вон, сказав притом с великим сердцем:
– Не думай ты, неблагодарный злодей, чтоб я тебе не отмстила за твое неудовольствие».
Чёрт знает что, и эту сучку звали Еленой. Бывают же такие совпадения.
Но совпадения на этом не кончились. Самый замызганный и обтрёпанный листок из вороха оказался титулом «истинной повести» – «Обольщённая Генриетта, или Торжество обмана над слабостью». Раскольников напрягся, отыскал ещё три ветхих странички того же формата, – сплошная сентиментальная дребедень.
«…И умереть у ног ваших… он ещё продолжал целуя мою руку и орошая её слезами… я сама себе изменила… трепет разлился по всей моей внутренности… Ах, Дезорм! говорила я ему, убойтесь промысла, стыдитесь восторжествовать над слабостию невинной и нещастной девицы,… казалось, тогда весь свет изчез предо мною… Вся внутренность моя была в движении… Но будет ли в тебе столько твердости духа, чтоб спокойно забавляться моею погибелию. – Генриетта! Душа моя со всеми чувствами тебе открыта, ты видишь что я без тебя жить не могу – ты видишь… Вижу, вскричала я бросаясь ему в объятья, вижу – теперь я вам внемлю, и ответствую с нежностию, но помни что клятвам твоим внимает небо – …Казалось течение крови остановилось в моих жилах… Холод распространился во всей моей внутренности… Едва я не потеряла чувства и памяти, видя из письма столь гордую и корыстолюбивую душу… Не думай сокрыться от тартара и вечной муки… Ужасно! или ты не воображаешь о смерти? так я вижу теперь все твои коварства. Насыщайся моим неблагополучием. Веселись своей победой. Ах! если б ты видел…»
Слава Богу, никаких отсылок к еврейской его пассии эта чушь не содержала, тем не менее впечатление, что какое-то кривое зеркало рассыпалось вместе с ним на осколки – и теперь хрустит на зубах и под ногами, – оно его не оставляло.
Алёна Ивановна вернулась крепко не в духе, что-то, видать, не вытанцевалось в ростовщичьем гешефте. Сходу дала выволочку сестре за грязь в конторе и приказала вымыть полы и вытрусить дорожки.
– Бестолочь, – сказала в сердцах. – Все кругом бестолочи. Облыжники и лиходеи. Тонут – топор сулят, вытащишь – топорища жаль. Рожь за просо подсунуть хотели, как будто просо – это ячмень! Я вас всех с решки вижу!
– Обидели сироту? – посочувствовал Раскольников.
– Я им обижу! Кто меня обидит, три дня не проживёт. Ничего, мои денежки ещё ощенятся. Клюнет сорока с другого бока. А алтынничать я не буду! – В подтверждение чего пнут был стул. – Знаешь, чего я пуще всего на свете не люблю?
– Я знаю, чего ты пуще всего любишь.
Хозяйка и хлопнула, и топнула, и голос возвысила.
– А вот и нет! Пуще череверебеньчиков я люблю справедливость!
– Как же, как же. Полной мерой хлебаю твою справедливость.
– Что не так? Плохо тебе у меня?
– Не придуривайся, Алёна Ивановна! Тебе хорошо было бы в моей шкуре? – Тут Раскольников решил зайти со стороны категорического императива. – А надо поступать с другим так, как ты желаешь, чтобы поступали с тобой.
Ведьма немедленно согласилась с Кантом.
– Слава тебе, Господи, дошло до тебя, умника. Так и отнесись ко мне, как я к тебе, ничего другого не желаю! Уважь, приласкай, захоти моего бабского, а то я вся уже засахари-и-илась… Что я, права не имею?
– Какое, к чертям собачьим, право! – крикнул Раскольников, увёртываясь от её объятий. – Тебя по всем законам в кандалы надо!
Такое хамство невольника разгневало хозяйку.
– А что, есть закон, по которому бабе хотеть мужика возбраняется?!
– Так ведь и такого закона нет, чтоб студенты голодали! А я голодал, и терпел, и не воровал!
– Чего ж ты теперь из кишок выпрыгиваешь? Накормили, напоили, на всём готовом, – и мне за то перепало, – как же не по справедливости?
– Нет тут никакой справедливости, одно голое насилие.
– Опять дурака скудахтал: выгоды своей не понимаешь. Сейчас бы прел на своём чердаке вшивый да голодный. И баба тебе никакая б не дала. Я вас, молодятину, чудесно знаю! – хозяйка погрозила пальцем, – вам хоть бы курице пихнуть. А тут живёт, как султан турецкий у Христа за пазухой, с фарфору ест, на лебяжьих перинах лежит… И по первому требованию ему и спереду, и сзаду, и сверху вниз…
– Ведьма ты, больше никто, – сказал Раскольников устало. – Prostibulum furiata37.
Алёна Ивановна взялась за спинку стула и, покачивая его за ангельские крыла, внятно и сурово проговорила:
– А вот за такие поносные слова наказать тебя следует по всей справедливости.
– И в чём тут твоя справедливость?
– А в том, что моя.
– А то, что тебе не по нраву, – то и несправедливо?
– Мой нрав от Бога – выше закона нет.
– А где же место для моей справедливости?
– А ты направо пойди – там избушка с засовом. Вот там тебе, дураку мозглявому, самое место с твоей справедливостью.
Шваркнула стулом и ушла к себе за портьеру. Что им всем от меня надо, одни выжиги попадаются, уж я ли им, кажется… а они гадят, как мышь в крупу… скорлупа недодавленная… – неслись её раздражённые возгласы. Дурында, отдуваясь, как жеребая, босиком, запихнув подол в задницу, тёрла пол.
Справедливость в том, что она моя. Иначе говоря, она не равночестна, а посессивна, притяжательна, всегда личная, чья-то и, соответственно, другую притяжательность стремится игнорировать. В самом деле, ведь и Божья справедливость справедлива только потому, что Божья. Без учёта, без обещаний, вне обжалования. Интересный ход, из этого может получиться статья. Да, такая справедливость отдаёт деспотизмом. Но так и само бытие деспотично, всегда чьё-то, личное, причём принудительно. – Бытие заказывали? – Нет. – Всё равно получите. Оно тебя не спрашивает: быть или не быть. И живёшь, как миленький. И тут уж ни бытия, ни справедливости – одна скучная политика взаимной отрицательности. Деспотизм никуда не девается, просто переходит в деспотизм права. Которое обязательно и безусловно деспотично, как всякая логическая систематика…
– Ноги!
Коровища с тряпкой подобралась к нему. Раскольников задрал ноги. В чём же моя справедливость? Этот вопрос сам по себе несправедлив, неверно поставлен. Справедливость не в чём, а в ком, и если я отказываюсь брать её на себя, предпочитая передоверить её всеобщим безличным инстанциям, то, хотя и имею на это тоже полное личное право…
– Иди-ка сюда, – поманила из кельи хозяйка.
– Я здесь посижу, мне нетрудно ноги держать.
– Иди, покажу кой-чего.
– Видел я, матушка, всё, что показать можешь, – видел, – кротко отозвался Раскольников.
– А этого не видал.
Раскольников вздохнул, сложил странички стопочкой и побрёл на зов дебелой деспотки.
Она вздёрнула рукав капота – на руке сверкнул широкий золотой браслет, осыпанный камнями, с большим рубиновым кабошоном.
– Каков?
– Кажись, княгиня тоже померла? – участливо спросил Раскольников.
– Помрёт беспременно. Ты про штуку скажи: хороша?
– Male parta male dilabuntur38.
– Бе-бе-бе-бе-бе. Ну и болбочи себе по-тарабарски, как гусь с забором. Я сама скажу: хороша! – Хозяйка подбоченилась перед круглым зеркалом над комодом. – Княгиня! Подымай выше!
Она любовалась не браслетом, а собой целиком. Простёрла руку, другой опёрлась на спинку кровати и, вскинув голову, спросила:
– Похожа?
– На что?
– А так?
Хозяйка взбила волосы надо лбом, напустила на физиономию надменно-умильную мину и встала в прежнюю позицию. Раскольников пожал плечами. Она свирепо скосила глаза на стену. Он тоже посмотрел, но не мог взять в толк, чего же она добивается.
– Как хочешь, Алёна Ивановна, но на богородицу ты не похожа.
Ведьма, осердясь, ткнула в какую-то картинку на стене.
– Разуй глаза – вот же она! Вылитая!
Раскольников вгляделся в гравюрку среди прочих портретиков и иконок. На ней изображена была Екатерина Вторая с известного портрета в виде законодательницы в храме богини правосудия.
– Все говорят, в один голос: Алёна Ивановна, ты с царицей одно лицо, одних статей.
– Мало ли что говорят, чтобы процент сбавить.
Ведьма всерьёз обиделась.
– Учёный-кручёный, что ты в особах понимаешь! На Невском в магазине в окне этот портрет выставили – я встала рядом – все идут, шеи на меня сворачивают!
– Ты, Алёна Ивановна, никак себя императрицей мнишь?
Хозяйка охолонула.
– Кого мню, а кого мну, – и, чтоб слова с делом не расходились, ущипнула Раскольникова. – Я сама себе царица. А что похожа – верно говорят. И по-бабьи мы с ней сходствуем. Люби-ила она вашего брата, ни одной ночки одна не ложилась. А уж они в ней души не чаяли, понял? Про Потёмкина слыхал? У него один глаз был, а почему окривел, знаешь? Убивался по царице-матушке, вот глазик и выы-ы-тек.
– Что ты говоришь? – поразился Раскольников, ощущая себя не столько в заточении, сколько в этнографической командировке.
– А то. Тогда ежели дворянчик какой, хоть граф, хоть ктобище, хотел, к примеру, в гвардию взойти, – а ему говорят: нет-с, сперва пожалте на испыт. А испыт – значит, к государыне в опочиваленку… А ну-ка, соколик, пойдём со мной.
Она подцепила Раскольникова под ручку, но повлекла отнюдь не к кровати, а вывела из кельи в переднюю. За отдёрнутой возле вешалки занавеской обнаружилась дверь на засове, – ведьмы любят с засовом, – а за дверью – комнатка, о которой он и не подозревал: небольшая, узкая, тёмная, вся в мебели и рухляди. «Сюда переводит». Раскольникову почему-то сделалось страшно, хотя ведь не чулан, а комната. Здесь можно забаррикадироваться; но можно и задохнуться: комната без окна. Да и не комната это, а выгородка из хозяйкиной спальни с прорубленным выходом в прихожую. Света из конторы хватало, чтобы разглядеть, до чего же она загромождена: шкафы и сундуки вдоль стен оставляли только узенький проход. Нет, сюда его впихнуть будет сложно.
– Однако, целый ломбард, – заметил Раскольников. – Я думал, ты одни драгоценности принимаешь, а ты… что попало.
– Несли что попало, вот и набрала по доброте своей. Ох, было время – коней с каретами закладывали, – вздохнула хозяйка. – Потом поумнела малость, теперь только рыжьё, скуржа и сверкальцы.
Она велела Раскольникову снять со шкафа два каких-то тяжёлых металлических предмета, замотанных в тряпки. Морщась от одуревающего запаха нафталина и других невыносимых молью веществ, он вынес поскорей их в контору, при этом чуть не упал, поскользнувшись на железном напольном листе возле печки, – ведьма удержала. Что угодно ожидал он увидеть: и «канделябру», и «статую», – но только не лейб-гвардейскую кирасу вместе с блестящей каской, увенчанной двуглавым орлом.
– Тоже от князя?
– А, офицерик один проигрался вдребезги, отцом-матерью клялся, что выкупит. Где там! Видать, сиротой был. Два года лежало, тебя поджидало. Надевай.
– Эти жестянки? Не намерен.
– Экий ты зануда, батюшка. То тебя не разденешь, то не оденешь. Такие жестянки только за геройство дают, ежели, к примеру, Наполеона споймаешь или тыщу турок зарубишь; а ты чванишься.
– Тебе шлея под хвост попала, Алёна Ивановна?
– Был бы хвост – елды не надо. Надевай, кому сказала. Знаешь ведь: я перекоров не люблю!
Прибежала Лизка, трусившая половики в окно, и, обдавая луком и конским потом, жадно растопырилась над самоварным блеском доспехов. Ударил колокол у Николы, хозяйка всполошилась.
– К вечерне звонят, а мы ещё не обедали! Живо надевай! А ты на стол сбирай, чувырла.
Раскольников влез в кирасу. Показалось, что в ней пуд весу. Хозяйка стянула ремни на боках и подала каску. Ещё полпуда сверху. Подтащила к зеркалу.
– Сюда глянь. Красотища, аж глаза ест!
Да, картина на загляденье. «Бред на Средней Подъяческой». Хозяйка и постоялец, сцены из военно-походной жизни. Триумфально сияющая старая потаскуха, кокетливо выставившая тысячный браслет, под ручку с кавалером в чёрно-золотых доспехах, смахивающим на паровозик, что пыхтит по Царскосельской дороге; но больше на самовар.
– Мать честная! Святые угодники! – изнемогала ведьма, даже локотком заслоняясь от такого великолепия. – Вот где краса несказанная! Сердце заходится! Ноги подгибаются!
– И раздвигаются.
– Это само собой. Жаль, не видит никто! Ну, и чем я хуже? Пошто права не имею?
Каска давила немилосердно. У кавалергардов под такой нахлобучкой никаких мозгов не остаётся; вот Дантес и убил Пушкина.
– А где меч? – спросил Раскольников. – Этот, как его… палаш?
– Несут. И меч несут, и пушку катят.
Меч был бы кстати. Порубил бы кой-кого в мелкую клеточку. Алёну Ивановну одолел сходный позыв. Она присела, будто в седле, взмахнула воображаемой саблей и поскакала с посвистом вокруг Раскольникова кавалерийской раскачкой.
– Ура! За Святую Русь! За царя-батюшку! Ну что же ты, давай!
Раскольников не расположен был к подобной разлюли-малине.
– Эх ты, тёха! – ведьма хлопнула его по загудевшему панцырю. – Небось недоноском родился.
На «недоноска» Раскольников обиделся. Он стащил каску с головы и брякнул об пол.
– Сама ты недоносок!
– Стынет! – гаркнула дурында от стола.
– Шапку подыми, – тихо проговорила хозяйка. – Кому сказала. – Подождала и добавила: – Не подымешь – живьём тебя испеку в этих противнях.
Раскольников присел и поднял каску.
– Побледнел, – сказала ведьма с удовлетворением. – Поджилки затряслись. Вот и весь испыт. Как же не недоносок, коли всего боишься.
– Ты сама только при Лизке смелая. Жалеешь, что никто нас не видит, – а пойти со мной в Екатерингоф на гулянье – вот как есть – забоишься.
– Запросто! Но сперва в ресторацию.
Садиться за стол в кирасе Раскольников отказался наотрез. А хозяйка браслет не сняла и, помахивая ложкой, всё заглядывалась на его великолепие; и жесты рукой совершала плавные, отставив мизинчик. Бедовая баба, думал Раскольников, хлебая щи с головизной. Вспыльчивая и воинственная. У неё даже на печной дверце барельеф с каской на скрещенных ружье и сабле. Алёна-воительница. Но она тщеславна и мнительна, через какую-нибудь придурь можно подобрать ключик. Вот уж у кого павлин в голове, императорский…
– Ты слабой заварки, – уточнила ведьма уже за чаем. – Ещё бы пару щепоток, да гвоздичку, да кипяточком ошпарить…
Раскольников смолчал. Хотя был задет едва ли не сильней, чем «недоноском». Но по существу возразить было нечего, он и сам про себя это знал, только не в таких чаеразвесочных терминах. Ладно, сейчас пойдём в спальню, он покажет ей «слабую заварку». Но напрасно ёкало и щекотало в паху, хозяйка против ожиданий вознамерилась «заниматься по домашеству». Вывалила на стол кучу расписок, счетов, квитанций, нацепила очки и принялась, слюнявя палец, раскладывать бумажки, щёлкать на счётах и вписывать в затрёпанную тетрадь баланс своего лихоимства. Вставочка у неё была симпатичная, красного цвета, перо стальное, лучше, чем у самого Раскольникова, но писала она неумело, корявыми буквами; обмакивая перо в пузырёк с чернилами, то и дело сажала кляксы и на каждую ругалась: у, зараза в оба глаза!; перед тем, как перевернуть страницу, шумно дула на неё для просушки, раздувая смешно щёки, как Зефир на старинных картах. И вообще забавно выглядела в круглых очочках: совушка за подсчётом мышиных хвостиков.
Он тоже шелестел листиками на диване, наблюдая за корпевшей над своей хитрой бухгалтерией процентщицу. Кровопийца, сквалыга, старая блудня – а туда же: хочу быть царицей морскою. Кувалда сопела у закатного окна, штопая чулок на стакане. Попалась любопытная страничка какого-то безумного писаки – про двух жителей Чухломы, отправившихся в Москву: на подъезде к ней «увидели они неслыханное и невиданное чудо, а именно двух необыкновенных женщин. Женщины везде и всегда необыкновенны; но тут было не на шутку. Чухломитяне увидели двух женщин вида чудовищного и величины необыкновенной. Одна имела тысячи крыл, а другая тысячи ног. У обеих были змеиные головы, и всепожирающие гортани зияли на все стороны. У первой впалые глаза, мертвенно-багровый вид, судорожные движения были знаком гибельного ее свойства и взор ее был смертоносен.» Раскольников коротко знал этих необыкновенных особ, пусть и не в столь эссенциально-ярком виде и под другими именами; в тексте они фигурировали как Холера и Чума и сами говорливо себя рекомендовали.
«Я есмь самое гнилое существо или, лучше сказать, самая гниль, самая нечистота, эссенция всего смрадного, тлетворного, ядовитого; я есмь все то, что может породить раздраженное против человечества Небо. Однако я пожираю не всех. Есть люди, которые с самого младенчества самим сложением своего тела предрасположены к тому, чтоб я их посетила. Свойство мое есть судороги, корча, рвота, понос; а как есть люди, которые с природы предрасположены к сему, следственно, я на тех и падаю; вообще, нравственное развращение людей есть магнит, влекущий меня. Испорченная развратами природа человеческая есть моя мать; в самой уже испорченной крови человеческой таюся я; а потому от меня таковых и трудно защитить и, так сказать, вырвать все нечистое, все предрасположенное к принятию меня…»
– Чего сидишь, коли орехи, – вдруг хозяйка кинула ему, не глядя, грубо, как Лизке.
– Давай орехи, поколю.
– А! Ему ещё и орехов купить… Тьфу, зараза в оба глаза! – накинулась она на кляксу вместо Раскольникова.
«Стихии суть органы вышних сил». Как-то надо эту суку к себе расположить. «Золото растягивательностью своею указывает на удивительные силы притяжения в Натуре». «Пришед в лета, удобные к рассуждению…» Попроситься в компаньоны? Угодничать, так по всем пунктам. «Спасительный ужас законов для обуздания преступников…». «Сие последствие превозмогающих чувствований». Наладить ей грамотную отчётность… «На самом деле госпожа совесть в рассуждении его вдовствовала». В гробу она видала такое товарищество на паях. Ты свой пай мне в норку пихай, вот что она скажет. «Сколь святы те народы, у коих полны все богами огороды». Хотя чем человек подозрительней, тем он доверчивей. Но при ней этот вонючий цербер, – загрызёт – не пикнешь… «Осуждённый природой на всегдашнее малодетство ума»…
А если раздобыть клок бумаги – хоть бы и книжную страничку использовать – написать на полях письмо в полицию – спасите, в такой-то квартире – какой нумер? – держат похищенного – и бросить за окно…



