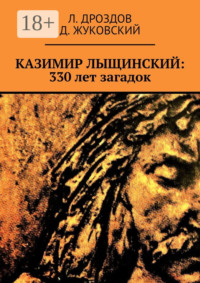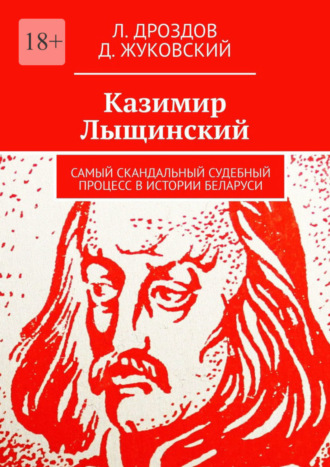
Полная версия
Казимир Лыщинский. Самый скандальный судебный процесс в истории Беларуси
Накануне смерти материальное положение Матвея неблестящее. Он должен значительные по тем временам суммы (в размере до 100 злотых) многим людям, включая всех своих братьев. Петр Лыщинский ссудил ему 50 злотых, которые отдал за него на поминальную службу в память об их отце. Так что определенно можно говорить, что его финансовое состояние было, как минимум, непростым. Это, впрочем, вполне соответствует уже упоминавшейся просьбе брестского сеймика, обращенной к сейму Речи Посполитой о назначении ему субсидии.
Матвею давно должны были деньги за его «военные заслуги», т.е. за службу в составе «Небесной хоругви» и хоругви под командованием покойного пана Бобровницкого. Документы свидетельствуют, что после смерти гетмана Павла Яна Сапеги за последним числился долг перед «Небесной хоругвью» 1600 злотых100.
Старые долги, как надеется Матвей, рано или поздно все же будут погашены. Он распоряжается передать деньги в первом случае – жене, во втором – детям, возложив обязанность взыскать долги на брата Петра, о котором пишет очень дружелюбно.
Нельзя не упомянуть еще один эпизод из жизни Матвея, а именно его участие в убийстве Петра Склёны на Жмуди. При посредничестве Кшиштофа Букрабы, родственника жены, за убитого была назначена головизна в 150 злотых. Матвей утверждает, что сразу же заплатил свою долю 50 злотых, а другие участники убийства, среди которых он упоминает Николая Волковицкого, по его словам, не заплатили ничего. Незавершенность процесса примирения с родными убитого беспокоила Матвея. Видимо, он опасался, что это создаст трудности его вдове и детям.
В целом тон завещания Матвея отличается покладистостью и отсутствием личных негативных оценок, за исключением неприязненной ремарки в адрес Казимира. Оно было составлено в Остромечеве 13.01.1673. При подписании присутствовали Юрий Греч, Ян Горновский, Самуэль Мошицкий, Самуэль Демидецкий. Братьев в этом списке, как видим, нет.
Гораздо меньше нам известно о Петре Лыщинском. Это третий по старшинству сын Геранима. Родился он не ранее 1635 года, дата рождения условная, на год моложе Казимира (04.03.1634), но и ненамного позже, так как по состоянию на 22.06.1666 года Петр был совершеннолетним, женатым и занимал должность подчашего земли Мельницкой. Петр – единственный из трех совершеннолетних сыновей Геранима, который состоял в ту пору на государственной должности. Матвей был тяжело ранен и сильно нездоров, ему было не до должностей, а Казимир, только-только вышел из состава Ордена иезуитов. По нашим расчетам получается, что возраст Петра в 1666 году —30—31 год.
В феврале 1676 года Петр Лыщинский занял ставшую вакантной (после смерти дальнего родственника пана Петра Добронижского) должность ловчего брестского101.
Лев Лыщинский-Троекуров указывает, что Петр Лыщинский получил привилей на эту должность за отличные успехи в военных операциях против неприятельских войск в награду от Яна III Собеского во время его коронации в 1671 году102. Однако в этой информации, очевидно, присутствует описка. Ян III Собеский короновался не в 1671, а в 1676 году. Привилей на должность ловчего брестского Петру Лыщинскому сохранился, он датирован 02.02.1676 года, но был внесен в актовые книги брестского гродского суда только 11.05.1679 года103. Причем уже на следующий день Петр Лыщинский выступал в новой должности, свидетельствуя отказ ксенза Ястржэмского и супругов Токаревских от имущественных претензий к подчашему мстиславскому пану Кшиштофу Чижу104.
Петр Лыщинский упомянут, как минимум, в шести опубликованных в XIX веке документах105. В двух из них присутствует в качестве должностного лица, в остальных – просто как участник сеймиков брестского воеводства и подписант постановлений и инструкций, принятых на них. Из документов известно, что как минимум дважды106 он избирался на различные должности: ротмистром для сбора шляхты в ополчение и сборщиком подымного налога.
В задачи ротмистров входил сбор посполитого рушенья, которое должно было «свавольников громить, хватать и приводить в Брест». А право судить и карать своевольников принадлежало гродским и земским чиновникам, остававшимся в Бресте, не уехавшим на сейм. Назначение Петра ротмистром дает нам право со значительной долей уверенности утверждать, что он был достаточно успешным военным руководителем, пользовался авторитетом среди местной шляхты и был хорошим организатором, скорее всего, приобрел опыт командира на военной службе. На наш взгляд, человека, который не способен должным образом организовать проведение мобилизационных мероприятий в предвоенное время, вряд бы избрали для подобной миссии.
Территория деятельности Петра Лыщинского в качестве ротмистра определялась между трактами: Высоцким (направление от Бреста на Высокое) и Каменецким (направление от Бреста на Каменец). В конце следующего года его выбрали сборщиком подымного налога также по трактам Высоцкому и Каменецкому. Видимо, с первой задачей он справился успешно. В документе сеймика также указывалось, что сборщикам полагалось за труды взять себе в награду по 1 грошу с каждого злотого107. Место деятельности Петра примыкало непосредственно к одному из его имений108.
По-видимому, Петр Лыщинский был всеобщим любимцем в семье, человеком, к которому в одинаковой степени тянулись и питали нежные чувства как отец, так и другие братья. Так, Гераним Лыщинский дважды называет его в своем духовном завещании душеприказчиком наравне с Казимиром. В частности, он пишет «моего сына Казимира прошу, чтобы он яко способнейший с сыном моим Петром имел полное старательство в погребении моего тела»109. В другом месте Гераним указывает: «Долги мне следуемые по особенному регистру суть написаны, прошу моих сыновей в особенности Казимира и Петра, дабы как найскорее поотдавали и чтобы мою душу спасали»110.
Количество персональных обращений Геранима в завещании к своим сыновьям поименно распределяется следующим образом: Матвей упомянут 3 раза, Казимир – 4, Петр – 5 и Викентий – 8 раз. Роль душеприказчика отводит Петру и старший брат Матвей, о чем было сказано выше.
Сам Петр оформил духовное завещание 09.12.1677 года. Составление завещания в столь раннем возрасте (ему было примерно 42 года) можно объяснить тем, что он принимал активное участие в войнах, в том числе с Турцией, либо плохим состоянием здоровья. Согласно завещанию, свои имения в Лыщицах и Кустыне он оставил своим трем сыновьям: Адаму, Антону и Николаю. На праве пожизненного владения до их совершеннолетия ими должна была владеть его жена111.
По мнению Льва Лыщинского-Троекурова, супругой Петра Лыщинского была Дарья Виляновская. При этом в сносках к заметке о Петре Лыщинском он указывает, что в гербовнике Несецкого в качестве жены Петра Лыщинского названа некая «Махичовна», которая умерла в 1670 году112.
Игнорировать информацию из сборника Несецкого было бы неразумным, из него следует, что супругой Петра Лыщинского была Зузанна Махвичовна (Zuzanna Machwiczowna)113. В дележном документе Геранима Лыщинского от 22.06.1666 женой Петра Лыщинского названа Зузанна Махичовна Лыщинская. Отсюда вывод: Петр был в браке дважды. И первая супруга умерла рано, например во время родов. Таким образом первый брак Петра Лыщинского длился примерно 4 года (с 1666 по 1670 годы).
Зузанна из рода Махвицев, возможно, была любимой невесткой Геранима Лыщинского. В свое время вместе с Петром они дали в долг отцу 1000 злотых, сумму по тем временам весьма приличную. С теплотой дважды он упоминает ее в дележном документе. Более подробной информацией о второй жене Петра Лыщинского – Дарье Виляновской – в настоящее время не располагаем. Однако у Льва Лыщинского-Троекурова есть ссылка на духовное завещание Петра Лыщинского, полный текст которого до сих пор не выявлен.
Имя Петра Лыщинского в опубликованных документах сеймиков после 1676 года более не встречается, а его завещание было датировано декабрем 1677 года. С 17.05.1679 года должность ловчего брестского уже занимал другой человек – Николай Янович Ревоцкий114, а еще позднее – Ян Казимир Бжоска115, в последующем злейший враг Казимира Лыщинского. Как мы уже ранее указывали, государственные должности давались пожизненно, утратить их можно было путем отказа ввиду плохого здоровья, получения более высокой должности либо в результате смерти. Какая-либо информация о том, что Петр Лыщинский после должности ловчего брестского пошел на повышение, также отсутствует. Отсюда можно предположить, что он либо погиб на одной из многочисленных войн, которые вела Речь Посполитая, либо скончался.
Весьма ограничена информация на страницах опубликованных исторических документов о самом младшем брате Казимира Лыщинского – Викентии. По нашим расчетам он родился примерно в 1648—1649 годах.
По состоянию на 22.06.1666 года он не был совершеннолетним. Крайне немногословным характеризует Викентия и Лев Лыщинский-Троекуров. Он указывает, что Викентий владел имением в Лыщицах, его женой названа Иоанна (Яна) Грифинова. О своих подозрениях в том, что Викентий мог быть одним из вероятных претендентов на руку единственной дочери Казимира Лыщинского, мы расскажем далее в книге (см. гл. 13 «Роковое решение»).
Викентий собственноручно подписал несколько постановлений сеймиков брестского воеводства116. Первый из них – инструкция брестским послам на вальный сейм в Варшаву – датирован 20.01.1672 года, второй – постановление сеймика брестского воеводства о созыве всеобщего ополчения от 17.08.1672 года. Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что по состоянию на январь 1672 года Викентий был уже совершеннолетним.
Помимо этого, известно, что преклонные годы Гераним Лыщинский провел именно в доме младшего сына, поскольку духовное завещание составлено в Мотыкалах. В документе Гераним Лыщинский, в частности, указывает, что «Викентию в Кустыне свою часть вместе с крестьянами уступаю, дабы продавши Кустынь Доброниж себе выкупил»117. В другом месте Гераним снова пишет, что «уступает младшему сыну Викентию свои части (имений) в Лыщицах и Доброниже»118. И это только небольшая часть распоряжений, отданных Геранимом накануне смерти в адрес Викентия.
Исходя из числа упоминаний Викентия (8) Геранимом в духовном завещании, можно смело предположить, что младший был любимцем. На это же обстоятельство указывает и количество имущества, передаваемого отцом. Все, что можно, вплоть до личных вещей Геранима, должно достаться Викентию. Государственных должностей сын не занимал.
Из архивных документов следует, что Викентий избирался сборщиком подымного налога на сеймике Брестского воеводства 01.06.1683 года, на том самом сеймике, на котором председательствовал его старший брат Казимир Лыщинский119.
Имел ли он детей в браке – также неизвестно, нет данных и о точной дате его смерти. С большой долей вероятности можно лишь говорить, что похоронен Викентий, скорее всего, в той же самой Лыщицкой церкви.
Подытожим: перед нами типичная шляхетская семья среднего достатка. Мужчины воюют, украшают себя титулами, на которые у них хватает возможностей (подстолии, подчашие и ловчие в ту пору были должностями сугубо почетными, не давали доходов и не возлагали практически никаких обязанностей, но служили признаками определенного статуса, возносившего их обладателей над «серой» шляхетской массой). Более способные пытают счастья в судебной системе, где есть место для небогатого, но образованного человека из благородного сословия, платят за службу деньги и есть реальная работа и реальная власть, даруемая судейской должностью, участвуют в сеймиках и сеймах (документально подтверждается участие Казимира в трех общегосударственных сеймах Речи Посполитой), служат, формально либо неформально, магнатам. О последнем касательно Лыщинских никаких фактов у нас нет, кроме военной службы Матвея, но без этого в тогдашней политической жизни рядовому шляхтичу не обойтись.
Можно утверждать, что Гераним Лыщинский, опираясь на своих четырех сыновей, а также на пятерых сыновей родного брата Луки, стремился создать мощный шляхетский клан, который со временем занял бы одно из лидирующих положений на Берестейщине. Он явно собирался подчинить себе важные и значимые государственные должности. Изначально возглавить род должен был старший Матвей, однако его рана перечеркнула эти планы. Поэтому первым получил государственную должность даже не Казимир, который вступил в Орден иезуитов, а Петр, который был неплохим военным начальником, но, судя по всему, не имел склонности к политическим интригам и тяжелой систематической, порой нудной работе с бумагами. А именно она и была наиболее важной. Кстати, одна из возможных причин оставления Ордена иезуитов Казимиром – необходимость возглавить клан Лыщинских как наиболее одаренному и способному среди всех.
Как показала жизнь, грандиозным мечтам Геранима не суждено было сбыться. Матвей поступил на военную службу к Сапегам, Петр тоже стремился более к рыцарским подвигам, нежели к чиновной карьере, Казимир первоначально подался в иезуиты. С кем же было продвигать род? А ведь оставались еще и хозяйственные заботы, без минимального достатка претендовать на значимое место в повете невозможно, а тут еще раз за разом имения разоряют войска, свои и чужие… После возвращения Казимира к мирской жизни что-то стало налаживаться, но не все. Взаимоотношения у Казимира с Матвеем явно не сложились, в том числе по причине соперничества между ними. В завещании прямо об этом не говорится, но между строк читается обида Матвея на более удачливого и успешного младшего брата. Возможно, ввиду этого тень легла и на отношения между Казимиром и Петром.
Что касается неучастия братьев в судебном процессе Казимира 1687—1689, то два старших к тому времени уже умерли, а почему не встречаем самого младшего Викентия – вопрос остается открытым.
По имеющимся документам в борьбу за Казимира были активно включились его двоюродные братья – дети Луки Лыщинского. Взрослые дети Матвея – племянники Казимира Гавриил (Габриэль) и Владислав не упомянуты. То же самое можно сказать и про сыновей Петра – Адама, Антона и Николая.
Мы по-прежнему мало знаем о братьях Лыщинских. Неизвестны точные даты рождения и смерти Петра, Викентия, крайне отрывочны сведения о военных эпизодах, пребывании Матвея в плену и обстоятельствах его освобождения, не выявлен текст завещания Петра. Наконец, не разгадана загадка некоего «каинова греха», намеки на который содержатся в речи Сымона Куровича 15.02.1689, обвинителя на процессе Казимира Лыщинского. Возможно, за этими догадками стояло нечто реальное, омрачавшее отношения Казимира с Матвеем и другими братьями. Эту тему по мере возможности мы попытаемся раскрыть в будущем.
Глава 5. Брест. Сапеги. Иезуиты
Брест занимает важное место в нашем повествовании. Это не только родина Казимира Лыщинского, но и место, где он рос, взрослел, получал образование, работал почти всю свою сознательную жизнь. Этот город он защищал с оружием в руках. Это воеводство он представлял на четырех сеймах Речи Посполитой. На этой территории находились его основные земельные владения. Здесь наш герой формировался как личность и политик. Поэтому мы не можем хотя бы вкратце не рассказать о городе с 1000-летней историей.
В письменных источниках Брест упоминается впервые в 1017 (1019) году. В старшинстве он уступает только Полоцку (862), Витебску (974), Турову (980), Волковыску (1005). Вслед за столичной Вильней (1387) в числе первых городов ВКЛ Брест (1390) получил магдебургское право. За ним последовали Гродно (1391), Слуцк (1441), Киев (1494), Полоцк (1498), Минск (1499), Могилев (1561), Мозырь (1577), Витебск (1597), Орша (1620), Мстиславль (1634).
«Большой город с крепостью на реке Буге, в которую впадает Мухавец»120 – таким показался Брест имперскому послу Сигизмунду Герберштейну, который в 1520-х годах дважды проезжал через эти земли. В середине XVII века в Бресте проживало более 10 тысяч человек. Надо сказать, немало. Население столичных Варшавы и Вильно в то время насчитывало примерно по 25 – 30 тысяч.
После заключения Люблинской унии 1569 года в составе ВКЛ осталось всего девять воеводств, если считать и Смоленское. Брест был административным центром одного из них. Его население росло в том числе за счет иностранцев. Сюда приезжали из Московии, Польши, немецких княжеств, здесь активно торговали евреи. Об этом говорят названия брестских улиц: Русская, Немецкая и т. д.
Однако Брест был не только средоточием торговой деятельности, но и важным политическим центром ВКЛ. В период с 1446 по 1569 год Брестский замок 17 раз становился местом проведения сеймов Княжества. Именно Брест был первым городом на территории ВКЛ, где в 1653 году состоялся общегосударственный сейм конфедеративной Речи Посполитой.
Местная шляхта о том хорошо помнила и постоянно ставила вопрос о проведении в Бресте каждого третьего сейма. Такого же статуса для себя желали и гродненцы. Поляки же были категорически против обоих городов. Вацлав Потоцкий даже не преминул позлословить на эту тему:
Уж чем не повод для стихов:
Сейм из Варшавы отбыл в Гродно,
Где тучи хряков и волков.
Позор «ботвинникам» негодным!121
С тем, что сейм 1653 года был проведен в Бресте, поляки тоже никак не могли смириться. Эту уступку литвинам они обосновывали тем, что в Варшаве свирепствовала чума, а Брест был близок к театру военных действий, полыхавших в Украине.
С Брестом были тесно связаны Сапеги. Этот магнатский клан обрел полную силу после того, как Лев Иванович Сапега (1557 – 1633) был назначен воеводой виленским и великим гетманом литовским. Сосредоточив две высшие должности в своих руках, он стал человеком номер один в ВКЛ. За Сапегами надолго закрепился статус правящей верхушки Княжества. Их доминирование в политической жизни государства продолжалось до конца XVII столетия. Именно в Бресте впервые переcеклись пути Лыщинских и Сапег. Самый знаменитый из них – Лев Иванович – помимо всего прочего в 1618 – 1623 годах был старостой берестейским. Одной из его функций в этот период было назначение верхней палаты Брестского городского суда. А в нижней палате, как вы помните, служил, только несколько позже, отец Казимира. Нельзя исключить, что Гераним Лыщинский (1581 – 1670) был лично знаком со старостой и его младшим сыном Казимиром Львом (1609 – 1656). Старший Лыщинский был младшим современником Льва, но пережил их обоих.
За спиной этих великолитовских магнатов нередко маячила тень иезуитов. Они, как и другие католические Ордена (августинцы, бернардинцы), в эпоху Контрреформации122 стали проявлять высокую активность, в том числе и в Бресте. Причем Орден иезуитов, или Общество Иисуса, как он официально назывался, стал передовым ударным отрядом контрреформистов, успешно потеснившим старые монашеские ордена. Устав Общества предписывал иезуитам селиться в богатых городах и устраивать там коллегии123.
Иезуиты сыграли чрезвычайно важную роль в жизни Казимира Лыщинского. Во-первых, он у них учился: сначала – в иезуитском коллегиуме в Бресте, потом в других местах. Во-вторых, он работал в Брестском коллегиуме124. В-третьих, уже будучи судьей, Лыщинский выступил арбитром по судебным спорам брестcких горожан с иезуитами125. И наконец, в литературе господствует точка зрения, что именно иезуиты выступили вдохновителями и заказчиками судебного процесса против Казимира Лыщинского.
Вопреки широко распространенному мнению пригласил в Брест иезуитов не Лев Сапега. Это сделал в 1616 году луцкий епископ Павел Валуцкий, к юрисдикции которого относился Брестский повет. Затем была основана резиденция в фольварке Адамово. Ее подарил иезуитам Евстафий Волович, епископ виленский. Первые шаги в Бресте иезуиты совершили в фарном костеле: здесь они создали свою миссию126, которая в 1620 году при поддержке брестского воеводы Яна Остафия Тышкевича была преобразована в резиденцию.
В 1621 году иезуиты приобрели каменный дом в Бресте на углу улицы Ковальской и городского рынка и выстроили там свой костел (это место находится у самого подножия главного монумента мемориального комплекса нынешней Брестской крепости-героя). Его строительство завершилось к 1623 году, т.е. за 11 лет до рождения Казимира. Первоначальный облик костела не сохранился, потому как в 1653 – 1657 годах он был частично перестроен.
Иезуиты поступили умно́. Свой костел они освятили в честь не только основателя христианства, но и самого почитаемого святого в ВКЛ – королевича Казимира. Вероятнее всего, Казимир Лыщинский был крещен именно в этом костеле.
Поскольку иезуитский храм был посвящен св. Казимиру, то для Казимира Лыщинского, ученика, а затем преподавателя брестского иезуитского коллегиума, он, несомненно, обладал особой значимостью.
А. Новицкий со ссылкой на архив Ордена иезуитов указывает, что наш герой родился 04.03.1634 года127. Никакой иной даты в исторической литературе не называют. На эту дату приходится день смерти и день памяти святого Казимира.
Это не просто местный святой, а единственный с таким именем. А поскольку по традиции новорожденного нарекали по святцам, сомнений в дате рождения нашего Казимира у исследователей практически не возникает.
В 1657 году брестский костел иезуитов представлял собой четырехугольное здание с восьмигранной башней – сигнатуркой. Так называли малую башню католических храмов, на которой держится наименьший из колоколов. Башенка возвышалась над двускатной крышей. Главный фасад храма украшал щит сложной формы. Боковые стены имели по шесть стрельчатых окон. Таким костел запечатлен на гравюре тех лет. 17.06.1623 года Лев Сапега подарил иезуитам фольварок Деревная вместе с деревеньками Мостки (Мальтки) и Меневеж128.
Целью этого пожертвования было основание иезуитского коллегиума – учреждения среднего образования закрытого типа. Коллегиум открылся в 1633 году, за год до рождения Казимира Лыщинского. Не каждый желающий мог сюда попасть, хотя обучение было бесплатным.
Спонсировать строительство коллегиума канцлер приказал своему сыну Казимиру Льву, впоследствии подканцлеру ВКЛ, и выделил на эти цели 30 000 польских злотых. А тот отписал их отцам иезуитам в завещании от 30.07.1655 года129. Но и при жизни не обделял Казимир Лев брестских иезуитов вниманием. В 1650 году он приобрел и передал им фольварок Паниквы и одноименную деревеньку.
Владения иезуитов в Брестском воеводстве расширялись не только благодаря пожертвованиям. Еще одним источником дохода было ростовщичество. Например, в 1627 году Григорий Григорович с сыном и невесткой отказались от своих прав на наследственное имение – фольварок Пельчицы – в связи с невыплатой долга иезуитам в размере 5000 польских злотых. Покупка земельных участков тоже имела место. В частности, в 1629 году коллегиум приобрел за 5000 польских злотых у шляхтича Павла Дымского деревню Замостье (Брашевичи), расположенную в Брестском воеводстве.
В самом Бресте иезуиты владели двумя юридиками и пятью земельными участками. Юридики представляли собой административно независимые обособленные части городов и предместий, на которые не распространялась административная и судебная власть местного самоуправления. Обычно они принадлежали крупным магнатам или монастырям, а со временем становились центрами ремесленничества и торговли. При этом в одной из юридик, которая являлась собственностью брестских иезуитов, в Литаворщине, находилась цагельня (кирпичный завод). Кирпич как строительный материал пользовался спросом. Позднее, в 1671 году, иезуитский коллегиум получил в залог деревни Мацеевичи, Ставки и Ляховичи в Брестском воеводстве. Они оставались во владении иезуитов на протяжении 100 лет до самой ликвидации Ордена.
Брестские иезуиты богатели и наращивали влияние. Методы, которыми они добивались своих целей, далеко не всегда были морально безупречны. Значительный рост богатства Общества Иисуса вызывал зависть не только у горожан и городских властей, но и у представителей духовенства. Особое недовольство выказывал клир Виленского капитула. Осведомленные люди утверждают, что открыто негодовал по этому поводу виленский епископ Константин Казимир Бжостовский – первое лицо католической церкви в ВКЛ130.
В дальнейшем имущество брестских иезуитов станет причиной множества судебных тяжб, в разрешении которых примет участие и Казимир Лыщинский.
С громадиной иезуитского костела в Бресте Казимир впервые столкнулся, как мы уже говорили, в самом раннем детстве.
Это был первый храм нашего героя, причем названный в честь его небесного покровителя. Крестины свои Казимир, конечно, не мог помнить, но этим его знакомство с костелом не ограничилось. Нет сомнений в том, что он был здесь частым гостем.
Наверняка, костел производил на малолетнего Казимира ошеломляющее впечатление. Он совсем не походил на деревянную церковь у них в деревне. Его каменная мощь не могла оставить мальчика равнодушным, а внутреннее убранство и вовсе заставляло трепетать. Множество горящих свечей. Картины. Статуи. Иконы. Сияние золота и серебра. Приятный запах ладана. И божественные звуки, лившиеся из органа. Музыка уносила душу высоко в небо, туда, где живет Бог. Самая настоящая сказка. А какому ребенку не хочется возвращаться в сказку вновь и вновь?!