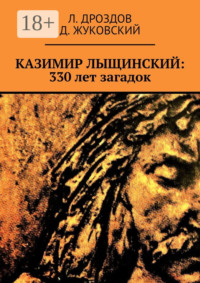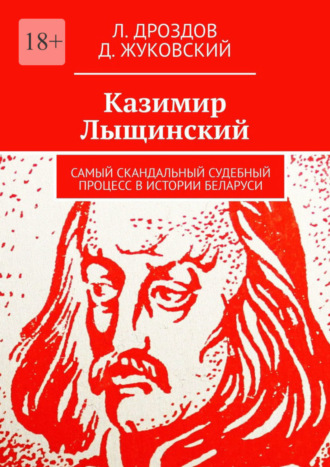
Полная версия
Казимир Лыщинский. Самый скандальный судебный процесс в истории Беларуси
Мы не знаем точно, когда именно присягал в качестве судьи гродского, но вероятнее всего, это случилось 06.04.1663 года52. Он сказал следующее: «Я, Гераним Лыщинский, присягаю господу Богу всемогущему в Троице единому, что в том повете Брестском согласно Богу справедливо и в соответствии с правом Статута, данного Великому княжеству Литовскому, в соответствии с жалобой и возражениями сторон, а не следуя своим сведениям, ничего не добавляя и не отвергая, буду судить, объяснения и записи принимать, не давая поблажки высоким и низким сословиям, не взирая на имеющих достопочтенные звания и должности, на богатого и на бедного, на приятеля, кровного, сбереженного, ни на неприятеля, на местного, ни на гостя не глядя, не с дружбы, не с ссоры, не со страха, не за посулы и дары, ни надеясь на дары потом, и какого вознаграждения, и не советуя стороне ни боясь наказания, мести и угроз, но самого Бога и его святую справедливость, и право общее и совесть свою перед глазами имея, так сроков никогда не затягивая, кроме великой правдивой тяжелой болезни, а как на том справедливо присягаю, так мне, Боже, помоги. А если несправедливо – Боже, убей меня»53.
Примечательно, что дающий присягу апеллирует не к монарху, а напрямую к Богу, клянется его именем судить справедливо и по законам, а в случае отступления от клятвы просит покарать смертью. В небольшом по объему тексте слово «Бог» употребляется пять раз. При этом ни разу не упоминается государь великий князь, а только Статут, то есть закон, и один раз – государство ВКЛ, от имени которого осуществляется правосудие. Из текста присяги вытекает, что судья – это не просто государственный служащий, творящий суд именем закона и государства, это слуга Божий.
Назначение на должность гродского судьи без учета условия об оседлости и без присяги означало, что виновная сторона могла такой состав суда игнорировать и не отвечать перед ним. Это правило закреплялось законом. Кроме того, представители местной власти в повете (воевода, староста), которые не обеспечили назначение на должность городского судьи кандидата, полностью отвечающего требованиям Статута, за свой счет возмещали вред потерпевшей стороне. Как видно, вопрос оседлости носил принципиальный характер. Только владелец недвижимости мог судить себе подобных, равный мог судить равных.
Суды вообще и городской суд в частности – это «детище шляхты», как называл их профессор Митрофан Довнар-Запольский. Шляхта во все времена проявляла максимальный интерес к судебным спорам, порой весьма мелочным и длящимся годами. Сутяжничество и зависть – в этом была вся сущность литвинской шляхты.
Неудивительно, что при судах ВКЛ кормилось целое сословие адвокатов. Многие из них учились в Вильно, Кракове, а бывало, даже в Италии и Германии. Они зарабатывали себе на жизнь юридической практикой. В городском суде велись актовые книги. В них заносились исковые требования сторон, решения суда, заявления енерала (судебного исполнителя) и других лиц, совершались нотариальные действия (оформлялись тестаменты (завещания), купчие, делались записи о разделе имений и т.д.).
Судебные сессии городского суда длились по две недели с 1-го числа каждого месяца54. Обычно судебные сессии собирали всю местную шляхту. Это было время для широких контактов: спорили, заключали сделки55.
Мы не знаем точно, где учился Гераним Лыщинский, но предполагаем, что какое-то образование он должен был получить, потому как, об этом говорилось выше, при назначении на должность судьи учитывалось наличие знаний по праву56. Вероятно, что при назначении на должность судьи гродского был учтен опыт его работы в Главном Литовском трибунале. В том, что и Гераним, и его родной брат Лука были грамотными, мы уверены, они собственноручно подписывали документы – суффрагий об избрании короля 1632 года, документ о разделе недвижимости своего отца57, и многие другие.
Подсудок земский. По нашим расчетам, отец Казимира Лыщинского во второй половине 1668 года (или близко к этому времени) стал подсудком земским брестским, то есть из уголовного суда перешел работать в суд по гражданским делам. Расчеты нашли документальное подтверждение. Гераним был назван как один из наиболее вероятных кандидатов на должность подсудка 14.06.1668 года, а уже 16.06.1668 – утвержден в этой должности58 в 87 (!) лет! Такое ныне даже представить невозможно. Вступая в новую должность, Гераним снова публично произносил вышеприведенную присягу – слово в слово59.
Мы назвали Геранима Лыщинского неординарным человеком. Возможно, не всякий с нами согласится, ибо возникает ожидание какой-то сенсации, а ее вроде и нет. Есть человек успешный в имущественном плане, явно образованный и к тому же долгожитель. На наш взгляд, незаурядность предполагает совокупность качеств, выделяющих человека из общей массы. Давайте присмотримся внимательнее.
Гераним Лыщинский в весьма почтенные годы начал судейскую карьеру, дожил до 89 лет, в этом возрасте в полном объеме исполнял свои обязанности, вырастил четырех сыновей, значительно расширил владения своей семьи. Разве этого мало? Что касается тайн и загадок, то, как уже было сказано, первые полвека жизни этого неординарного человека представляют собой одну большую загадку. Раскрыть ее – задача, которую предстоит разрешить в будущем.
Глава 3. Мать
Пожалуй, самый загадочный человек в окружении Казимира Лыщинского – его мать. Немало сведений об его отце мы восстановили с помощью архивных документов. В отношении его матери это сделать затруднительно. Мы не знаем ни точных дат ее жизни, ни места рождения, ни даты свадьбы, ни состава приданого, которое она принесла мужу. Более того, у белорусских и польских историков нет единого мнения даже о ее девичьей фамилии. В абсолютном большинстве книг и статей о Казимире Лыщинском его мать не упоминают вовсе, и лишь в некоторых работах ограничиваются двумя-тремя словами, как правило именем и фамилией. Так, Лев Лыщинский-Троекуров в своей книге именует мать Казимира Софьей Балынской60. Польский историк А. Новицкий с ним согласен61. Он основывается на сведениях римских архивов Ордена иезуитов, но конкретных документов в своей работе не приводит и ссылок на них не дает. Вероятнее всего, за загадочной формулировкой «римские архивы Ордена иезуитов» скрывается упомянутая книга Льва Лыщинского-Троекурова, которая публиковалась в том числе на польском языке.
Белорусские историки называют ее с разницей в две буквы – Софьей Бабинской62. И, говоря о ней, употребляют эпитет «благородная» (это прилагательное указывает на дворянский (шляхетский) статус), причем именно в кавычках, из чего следует вывод, что цитируется архивный документ63 начала ХIХ века. Какой вариант фамилии верный – сказать сложно. Похоже на то, что чаша весов в этом споре все же склоняется в пользу версии белорусов. Подтверждением тому – книга одного из авторитетных современных польских историков А. Рахубо, изданная совсем недавно. В ней полное имя жены Геранима Лыщинского дано следующим образом – Zofia Bartłomiejówna Babińska64. Таким образом, деда Казимира Лыщинского с материнской стороны звали Бартоломеем (Варфоломеем).
При этом польские гербовники Бонецкого и Несецкого род Балынских (Балыньских) не называют вовсе. Фамилия Балынские в описях Бреста 1668 и 1682 годов тоже не зафиксирована65. Помимо этого, в реестрах66 подымного налога Брест-Литовского воеводства 1667 и 1690 годов налогоплательщиков, а равно и чиновников67, с такой фамилией не найдено. Зато гербовник Бонецкого знает Бабинских, часть из них жила на Подляшье (Бельская земля), другая часть – в Луцком повете68. Так, согласно документу от 01.05.1528 года, пан Семен Бабинский на случай войны обязан был поставить в войско ратников на семи конях, а его полный тезка – еще двух69. К какой ветви рода Бабинских принадлежала мать Казимира Лыщинского – в настоящее время однозначно сказать невозможно, требуется дополнительное изучение источников. Недостаток информации открывает простор воображению. В интернете можно встретить утверждения, что мать Казимира Лыщинского происходила из древнего еврейского рода70, но без документального подтверждения.
Раз уж зашла речь о гипотетических еврейских корнях нашего героя, поясним, что это могло означать для Геранима Лыщинского и Софьи Бабинской, а также для их детей. Евреи, татары и представители ряда иных национальностей, которые проживали в ВКЛ, становились гражданами, получив специальные жалованные великокняжеские грамоты (лично) или разрешение поселиться на определенной территории Княжества. Такой документ мог выдаваться на всю семью. Межконфессиональный брак с евреями был невозможен – сначала они должны были креститься. Еврей или еврейка, которые принимали христианскую веру, и их потомство приравнивались к шляхте71. Так что по большому счету еврейская кровь, даже если бы она действительно текла в жилах Казимира Лыщинского, не создавала бы ему значительных препятствий. Но повторимся, на сегодня этому нет никаких подтвержденных доказательств. А потому до представления публике соответствующих документов это предположение следует рассматривать как беспочвенный домысел. А вот о том, что она была католичкой и нашла упокоение на территории бернардинского костела в Бресте, мы знаем точно. Эти сведения не вызывают ни малейших сомнений. «И сынов моих прошу, дабы похоронили у отцов бернардинов, где и моей супруги лежит тело»72, – писал Гераним Лыщинский.
Персональные архивные документы, созданные Софьей Бабинской, нами не выявлены. Это объясняется просто: творцами истории считались мужчины. Женщинам отводился второй план. Семейный очаг, воспитание детей – вот их удел. Тем не менее знать о матери Казимира Лыщинского хотелось бы больше. Когда родилась и умерла эта женщина, в каком возрасте вышла замуж, когда родила детей, сколько и только ли мальчиков?
Попробуем ответить на эти вопросы расчетным путем, используя информацию из других источников. В качестве исходных данных возьмем годы жизни Геранима и Казимира Лыщинских и некоторые другие сведения, приведенные в дележном документе и духовном завещании Геранима. Итак, как уже говорилось, ни у польских, ни у белорусских историков нет точной информации о годах жизни матери нашего героя. Известно лишь, что на момент составления духовного завещания Геранимом Лыщинским, то есть на 10 сентября 1670 года, его супруга не только умерла, но и была похоронена.
У Геранима было четыре сына, второй по старшинству – Казимир. На дату составления дележного документа от 22 июня 1666 года самый младший еще не достиг 18-летия и проживал с отцом, три других уже обзавелись собственными семьями. «Имея трех сыновей лет совершенных, Матвея, Казимира и Петра, браком сочетавшихся»73, – пишет Гераним. В отличие от младшего брата Луки, который в духовном завещании немало внимания уделил памяти своих рано умерших сыновей, Гераним таковых не упоминает. О том, были ли у этой четы дочери, мы ничего сказать не можем. Прямыми наследницами девочки не являлись, поэтому информации о них в дележном документе и духовном завещании нет.
Материнство Софьи Бабинской следует из архивного документа от 24.09.1824 года, в котором говорится, что Гераним Лыщинский прижил «вместе с благородною Софьей Бабинской четырех сыновей: Матвея, Казимира, Петра и Викентия»74.
Более или менее уверенно мы можем говорить только о дне рождения Казимира – 04.03.1634 года (его отцу в это время шел 53-й год). Относительно братьев известна лишь очередность их появления на свет: Матвей, Казимир, Петр, Викентий. Именно в такой последовательности Гераним Лыщинский называет их в дележном документе и духовном завещании. Отталкиваясь от даты рождения Казимира, можно приблизительно установить годы жизни его матери, а также даты рождения его братьев. Официальный брачный возраст в ВКЛ для девушек составлял 13 лет, для мужчин – 1875. Казимир был вторым по старшинству сыном. Значит, мы можем предположить, что первый, Матвей, родился как минимум девятью месяцами раньше Казимира.
Отняв от 04.03.1634 года (дата рождения Казимира) девять месяцев (срок беременности), получим, что Казимир был зачат в конце мая – начале июня 1633 года. Аналогичные вычисления относительно старшего сына Матвея дадут нам приблизительную дату его зачатия, это конец августа – начало сентября 1632 года. Примерно в это же время могла состояться свадьба Геранима Лыщинского и Софьи Бабинской. Год заключения брака, который мы вычислили расчетным путем, находит подтверждение в уже упомянутой нами работе А. Рахубо76. В конце августа – начале сентября 1632 года матери Казимира Лыщинского было как минимум 13 лет. Соответственно, она могла родиться не позднее 1619 года. В таком случае, если от 22.06.1666 года – даты составления дележного документа, в котором не указан младший сын Лыщинских Викентий, вычесть 17 лет – его предположительный возраст, можно говорить, что Софья родила четвертого сына примерно в 1648 – 1649 году в возрасте 29 – 30 лет. Подобные расчеты не противоречат ни здравому смыслу, ни действовавшему законодательству, ни биологическим аспектам материнства. Правда, по наблюдениям ученых77, на практике разница в возрасте между женихом и невестой обычно не превышала 20 лет. Но из любого правила существуют исключения. Мы можем определенно утверждать, что Викентий Лыщинский родился не ранее 1648 года, иначе на момент составления дележного документа он был бы совершеннолетним. И это позволяет говорить о возрасте его матери более точно.
Таким образом, родители Казимира Лыщинского могли пожениться, когда матери было не менее 13 – 14 лет, а отцу шел 50 – 51-й год (напомним, он родился в 1581 году). Для Геранима брак с Софьей был довольно поздним. Возможно, это семейная традиция Лыщинских – создавать семью в зрелом возрасте. Вероятно, они предпочитали сначала крепко стать на ноги, обзавестись хозяйством, а затем уже думать о семейной жизни и о наследниках. А может, Софья была не первой женой Геранима. В любом случае практику подобных браков нельзя считать редкостью. Она имела место вплоть до середины XIX века.
Итак, приблизительные годы жизни Софьи Бабинской, полученные расчетным методом (при условии, что она вышла замуж в 13 лет), – 1619 – 1669. Иначе говоря, она прожила около 50 лет. Возможно, кому-то покажется маловероятной женитьба 50-летнего мужчины на 13-летней девушке. Но мы и не настаиваем на этой разнице в возрасте, а лишь говорим о ней как о максимальной. Конечно, Софья могла вступить в брак, например, в 18 лет или 30. Тогда и ее возраст, и дата рождения будут иными. Но тот факт, что она была значительно моложе своего мужа и что умерла раньше него, не вызывает сомнений. Еще одной подсказкой, которая может пролить свет на истинное происхождение Софьи Бабинской, является запись ее мужа в духовном завещании о том, что брестский наместник Франц Горецкий (Горицкий) приходится ему «родным шурином»78. То есть можно говорить о том, что названный господин был кровным братом Софьи Бабинской. Однако, различие их фамилий требует объяснения, которого на данный момент у нас нет. Эта тайна по-прежнему не разгадана. К сожалению, это все, что на сегодня нам известно о матери Казимира Лыщинского. Надеемся, главные открытия об этой женщине и о ее роли в воспитании сына – впереди.
Глава 4. Братья
У Казимира Лыщинского было три родных брата. Нам известно очень мало подробностей о взаимоотношениях между ними. Как во всякой семье, между ними могли быть весьма дружественные, близкородственные отношения, основанные на любви и взаимном уважении, или противоречивые и спорные из-за конфликтов интересов ее членов. О том, что порой не все было просто, мы можем судить по словам отца, оставленным сыновьям в качестве последней воли: «Дабы между собою не сопротивлялись, а согласно моему распоряжению действовали, и в братней любви с собою жизнь имели, предваряю и прошу, под родительским благословением, и за мою душу господа Бога просили, а господина моего родного Луку особенно прошу… чтобы часто давал наставления моим сыновьям, чтобы в согласии и милости с собою жили»79. Собственно говоря, немногим ранее (22.06.1666), опять же исключительно ради «согласия и любви между братьями» Гераним Лыщинский произвел раздел принадлежащего ему имущества80. Цель обоих этих документов – установить если не взаимную любовь (это вряд ли можно сделать каким-либо документом), то согласие между братьями.
Матвей, Казимир, Петр и Викентий – именно в такой очередности называет их отец, перечисляя сыновей в дележном документе от 22.06.166681 и духовном завещании от 10.09.167082. Очередность соблюдена в обоих документах, но в первом не встречается имени Викентия, поскольку на тот момент он был несовершеннолетним и не имел права вступить во владение недвижимостью. Помимо этого, Гераним прямо именует Матвея старшим, а Викентия младшим сыном. При этом в дележном документе Петр назван младшим между тремя братьями, упоминаемыми в нем (Матвей, Казимир, Петр).
Таким образом, Матвей Лыщинский – первенец в семье Геранима Лыщинского и Софьи Бартоломеевны Бабинской83 (а не Балынской), сочетавшихся браком в 1632 году84. Точные даты жизни Матвея неизвестны. Лев Лыщинский-Троекуров пишет о нем буквально одним предложением. Мы можем рассказать о старшем брате Казимира Лыщинского гораздо больше, в первую очередь благодаря тексту завещания, сохранившемуся в НИАБ85. Это позволит лучше представить семейное окружение нашего главного героя – Казимира Лыщинского. Матвей родился, вероятно, в 1633 году, примерно через 9 месяцев после заключения брака родителями, который, скорее всего, состоялся в конце лета – начале осени (август-сентябрь 1632 года). Умер Матвей в промежутке 13.01.1673 (дата составления завещания) – 18.01.1673 года (дата внесения завещания в актовые книги Брестского гродского суда)86, прожив всего лишь около 40 лет.
На момент составления дележного документа (22.06.1666) Матвей был совершеннолетним и женатым. Ему было порядка 32—33 лет. Его супругу звали Екатерина. Она происходила из рода Букраба, довольно заметного в Берестейском воеводстве. В браке они имели двух сыновей: Гавриила (Габриэля) и Владислава.
На старшего сына в семье часто выпадает особая любовь и благоволение родителей, и, как правило, это главная опора в семье. Однако Матвею в этом смысле не очень повезло. В отличие от своих младших братьев – Казимира и Петра – он не занимал государственных должностей, но, как и они, принимал участие в военных действиях. Очевидно, военная стезя влекла его с юных лет. Будучи старшим сыном он мог естественным образом претендовать на преимущественную роль в роду и долю имущества, достойную старшего сына. Но не хозяйство и оседлая жизнь манила его. Возмужав, Матвей поступил на службу в приватную хоругвь гетмана Павла Яна Сапеги. Она носила гордое название «Небесная хоругвь» и была распущена в 1660 или 1661 году, после того, как проявила нелояльность к своему хозяину во время Дрогичинской конфедерации87. Командиром этого воинского подразделения значится поручик пан Баржиковский88.
Затем, насколько можно уяснить из его завещания, Матвей воевал в хоругви под командованием пана Станислава Казимира Бобровницкого, брестского земского судьи, который умер в 1666 году. «Небесная» хоругвь и хоругвь пана Бобровницкого были так называемыми казацкими, т.е. относились к легко- и средневооруженной кавалерии (в отличие от гусар – тяжеловооруженной конницы). В ходе войны с Московией Матвей Лыщинский получил тяжелую огнестрельную рану, подкосившую его здоровье, и более того – попал в плен89. Это следует как минимум в двух известным документов: постановления брестского сеймика от 19.01.1672 года и духовного завещания Матвея Лыщинского от 13.01.1673 года90. Мы не знаем подробностей, когда это случилось и как скоро удалось вернуть его из плена.
Например, Матвей мог быть ранен 25.01.1660 года вместе с Михалом Львом Обуховичем в сражении с русскими войсками под местечком Малеч (ныне Березовский район Брестской области). В том бою Обухович командовал войсками ВКЛ численностью в 13 хоругвей – 8 казацкими и 5 драгунскими, в том числе 4 польские хоругви находились под началом пана Гурского, поручика пана Бобровницкого91. У московитов было до 2000 человек под командованием князя Петра Хованского. Поначалу инициатива была за литовским войском, но с приходом русских рейтаров передовые части литовского войска начали отступать к драгунам, находившимся в тылу. А те вообще не ответили огнем и побежали, подобным образом поступили и остальные. Вместе с Обуховичем в плен тогда попали 13 человек из разных хоругвей, в основном раненые. Обухович имел как минимум четыре ранения, одно в лицо, три в голову. Конь под ним был убит. Сам Обухович находился в московском плену с января 1660 года по 16.07.1662 года92.
Однако пленение Матвея могло случиться и в каком-то другом бою. Например, казацкая хоругвь пана Бобровницкого, брестского земского судьи, принимала участие и в походе на Москву в 1664 году93. С учетом малой разницы в возрасте весьма вероятно, что Матвей участвовал в тех же военных конфликтах, что и Казимир, которые прошлись по территории Брестского воеводства в 1654—1667 годах (подробнее об этих войнах см. в гл. 6 «Солдат»). Тяжелое ранение Матвея и плен определили его дальнейшую жизнь. Нам известен всего один, но весьма показательный случай, когда он вышел на публику, появившись на сеймике Брестского воеводства 19.01.1672 года в сопровождении младшего брата Викентия. Вероятно, он нуждался в помощи при передвижении. Жить ему оставалось менее года. Это был сеймикпо выборам депутатов (послов) на вальный сейм в Варшаву. Cреди множества вопросов, о которых депутатам предписывалось хлопотать на сейме, два касались Лыщинских в целом и Матвея непосредственно. Они относились к частным вопросам, и проходили по так называемой рубрике прошений воеводства к Речи Посполитой. В первом случае послам предписывалось добиваться выплаты вознаграждения Шуйским и Лыщинским за убытки, причиненные им войсками, во втором – о даровании льгот Матвею Лыщинскому как пострадавшему от ранения и плена.
Обычной практикой в отношении подобных просьб на сеймах был перенос их рассмотрения на будущие заседания. На Варшавском сейме 1672 года не случилось даже этого, так как он был сорван и никаких постановлений не принял. А в 1673 году не стало Матвея Лыщинского. Тем не менее его род не пресекся. Оба сына достигли зрелости, владели имениями в Мотыкалах и Лыщицах. Владислав впоследствии женился на представительнице знаменитого рода Шуйских – Елизавете94.
Известно, что Матвей был католиком, но в завещании он просит, чтобы его похоронили в Cerkwi Łyszczynskiey, по всей видимости потому, что там покоились предки95. Это еще один довод в пользу православных корней рода Лыщинских.
С особой теплотой Матвей говорит о своей «милой супруге» и среднем брате Петре, много пишет о заслугах жены, которая почти все свое время посвящала уходу за любимым мужем вследствие его нездоровья. Он распоряжается передать ей тысячу злотых за затраченные средства на приобретение поместья Лыщицы, и еще тысячу в компенсацию за вещи, которые принесла в дом и которые отчасти уже испортились от постоянного употребления на нужды Матвея.
Из братьев в завещании Матвей чаще всего обращается к Петру (Петр – 8 обращений, Казимир – 2, Викентий – 2).
Особый интерес для нас представляют распоряжения Матвея об опеке над его малолетними детьми96. Из завещания следует, что им было менее семи лет. Назначая опекунов и душеприказчиков (Остафия Тышкевича, Луку Лыщинского, Сигизмунда Горновского и своего младшего брата Петра), Матвей полностью отстранил Казимира, сопроводив это весьма нелицеприятным комментарием: «A nie onerując opiekę Jmść Pana Kazimierza Łyszczyńskiego Podstolego Mielnickiego brata mego rodzonego jako publikami zawsze zabawnego»97 т.е. «не утруждая опекой Казимира, который все время общественными делами загружен»98.
Между братьями явно пробежала черная кошка. Казимир, как старший в семье после Геранима и Матвея по действовавшим в то время законам (а также и по обычаям, которые порой сильнее любых законов), был первым кандидатом на опекуна. Если исходить из текста завещания, то какие-то обязанности, формально или неформально, на нем лежали. И, судя по словам и действиям Матвея, Казимир справлялся с ними не очень хорошо, доверить ему одному опеку над своими малолетними детьми и имуществом он не решился.
Матвей был очень богобоязненным человеком. Видимо, сказалось влияние отца. Его благочестие имеет свои особенности: он подчеркнуто не заботится о материальной стороне, о своем теле, но в то же время не жалеет денег монахам на молитвы за душу. Например, он просит, чтобы его тело было «наихудшим образом убрано», а поминальный обед был приготовлен только для нищих, и чтобы им дали по грошу99. Он жертвует деньги на заупокойные службы отцам бернардинцам, августинцам и базилианам, почему-то обойдя иезуитов – возможно, тоже след антипатии в Казимиру, бывшему некоторое время членом этого Ордена. Также в разных местах завещания Матвей обращается с просьбами к родственникам, друзьям, слугам молиться за его душу.