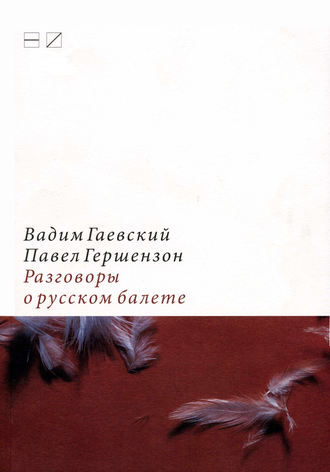
Полная версия
Разговоры о русском балете: Комментарии к новейшей истории
Фрагмент 3. Tête-à-tête с искусством
ГЕРШЕНЗОН: Вы считаете, что в XX веке Мариинский театр перестал быть театром хореографов и превратился в театр артистов. Не означает ли это, что в XX веке кончилось художественное время Мариинского, да и вообще петербургского балета, как Когда-то, на излете романтической эпохи, закончилось время балета Парижской оперы?
ГАЕВСКИЙ: На этот вопрос довольно трудно ответить. Пока Мариинский театр и школа на улице Росси были одним организмом, такого вопроса вообще не возникало. Понятие петербургского высокого академизма просуществовало на протяжении всего XX века, оно существует и сегодня. Этим и поражает Мариинский театр – не столько даже своими спектаклями.
ГЕРШЕНЗОН: Извините, но это звучит как-то неубедительно. В ваших интонациях появилась некоторая неуверенность, даже растерянность, нет той энергии, какая была, когда вы говорили о Москве и Большом балете.
ГАЕВСКИЙ: Просто мы поменялись ролями. Теперь вы – нападающая сторона, а я защищающаяся. Защищающаяся и защищающая. Да и вопрос непростой…
ГЕРШЕНЗОН: Прекрасно. Сыграю роль циника, для которого нет ничего святого, и скажу грубо: давайте честно признаем, что историческая роль, точнее, пассионарная функция Мариинского балета была исчерпана в начале XX века. Петербургский балет дал жизнь «Русским сезонам», которые, в свою очередь, инспирировали почти все самое важное и принципиальное, что происходило в мировом балете XX века. Петербургский балет вытолкнул из своих недр великого хореографа-модерниста XX века Джорджа Баланчина. Наконец, мощная художественная инерция петербургского балета, принявшего от Новерра и Перро эстафету balletd’action, породила советский драмбалет, который посредством европейских эпигонов обеспечил балетный театр второй половины XX века простодушной, сентиментальной и удивительно верной публикой, которая готова ходить еще и еще, чтобы бесконечно проливать слезы над стилизованными балетными драмами Джульетты, Татьяны и Манон. Честно говоря, всего этого достаточно, чтобы Мариинский балет с сознанием исполненного художественного долга мог спокойно умереть – закончить свое существование как саморазвивающийся художественный организм. Мариинский балет иссяк. Сегодня там нет жизни.
ГАЕВСКИЙ: Как нет жизни?! Там есть постоянно возобновляющаяся жизнь старой классики, которая есть классика вечная. Там есть нечто исторически более значимое, чем все то, что рождено во всех западных театральных организмах. Когда мы говорим о Баланчине, мы говорим о балете ХХ века. Когда мы говорим о Мариинском театре, мы говорим о балете вообще. Для меня это театр балета – вот как я бы его определил. Если ввести хронологические рамки, то это театр балета со своим двухвековым историческим ареалом. Это театр, для которого Петипа – не есть история, Фокин – не есть история, Ростислав Захаров – не есть история, молодой Григорович – тоже не есть история. Это театр, которому свойственна совершенно особая логика исторического развития. Театр, который ничего не теряет на своем пути, который существует не во времени, а скорее в пространстве – в пространстве балета. Это уникальное явление, оно абсолютно ни с чем не сравнимо. Ни лондонский Королевский балет, ни баланчинский New York City Ballet, ни балет Парижской оперы, новейшая история которого началась во времена Лифаря, никогда не заглядывают в далекое прошлое, оно в них не присутствует. Существует перспектива вперед, а есть перспектива назад, и наличие этой художественной перспективы я всегда ощущал в Мариинском театре.
ГЕРШЕНЗОН: Перспективу «назад» можно назвать ретроспективой. Значит ли это, что Мариинский театр сегодня – ретроспективный театр?
ГАЕВСКИЙ: Нет. Это живое прошлое, тем более что вашу сомнительную ретроспективу я бы назвал более почетным термином – обратная перспектива, об актуальном смысле которой нам ясно и полно рассказал Павел Флоренский.
ГЕРШЕНЗОН: Боюсь, что здесь мы вступаем на опасное поле игры словами…
Дополнение 2007 года
Перспектива как преступление
Если я правильно понимаю, речь идет о художественной идеологии перспективы как способе моделирования мира. Я не раз читал различные толкования понятия «обратная перспектива» – в частности у Флоренского. «Отсутствие прямой перспективы у египтян <…> доказывает скорее зрелость и даже старческую перезрелость их искусства, нежели младенческую его неопытность…» – это Флоренский[31], и в качестве шутки это можно отнести к тому, о чем говорим мы. А вот более современное высказывание Успенского: «Позиция древнего художника прежде всего не внешняя, а внутренняя по отношению к изображению. <…> Если со времени Ренессанса в европейском изобразительном искусстве принята внешняя позиция по отношению к изображению, то в средневековой живописи, так же как и в искусстве архаическом, художник помещает себя как бы внутрь описываемой картины, изображая мир вокруг себя, а не с какой-то отчужденной позиции…»[32]
Вот и Мариинский театр, подобно средневековому художнику-затворнику, пытался представить себе XX век, замкнувшись в келье собственной (пусть великой) художественной схемы, запершись в стенах репетиционных залов, окна которых выходили в мрачные внутренние дворы балетной школы (на Театральной улице) – либо из них было видно только небо (на Театральной площади), а небо в Петербурге обычно затянуто безнадежным слоем облаков. И только тем, кому хватило силы и смелости преступить границы этого, как вы говорите, «пространства балета», только тем, кому удалось отказаться от «обратной перспективы» и не ограничивать свое представление о XX веке видом из окон Мариинского театра, а смело заглянуть в эти окна извне, бросить на Мариинский театр личный взгляд – как на авторский театр Мариуса Петипа, вобравший в себя предшествующий канон и превратившийся в новый канон, – только тем удалось обрести идентичность, то есть реализоваться[33].
Но тут возникает парадокс: герои нового времени, субъективисты, сумевшие увидеть Мариинский театр в прямой перспективе, эти ренессансные «преступники» в совокупности своей и составляют мир «обратной перспективы», мир, лишенный единой точки схождения, даже единой линии горизонта, мир, лишенный единого художественного центра, «духовный мир», о котором с таким пафосом говорит Флоренский. Иначе говоря, художественный феномен Мариинского театра предполагает одновременную реализацию духовного акта и акта аналитического. Школа Мариинского театра (если можно так говорить) – это канон Мариуса Петипа плюс безусловная необходимость в индивидуальной художественной воле нарушителей канона – необходимость в ренессансных героях, необходимость в Нижинском, Нижинской, Лопухове и, наконец, необходимость в Баланчине, наиболее эффективно подчинившем этот универсальный канон индивидуальной воле своего гения. Вот таких «преступников», индивидуалистов сегодня в России нет. Остается лишь канон, который некому нарушить, а значит, и осознать его, то есть – соблюсти…
…Итак, когда вы говорите о «живом прошлом», в ваших рассуждениях есть изъян: есть позавчерашний день Мариинского театра, есть вчерашний, есть день почти что сегодняшний – только сегодняшнего нет.
ГАЕВСКИЙ: Как нет сегодняшнего дня? Вот та самая Ульяна Лопаткина, танцующая «Умирающего лебедя», – это и есть сегодняшний день «Умирающего лебедя» – абсолютно сегодняшний день.
ГЕРШЕНЗОН: Но это сегодняшний день «Умирающего лебедя», поставленного Фокиным девяносто лет назад. А где просто сегодняшний день? Даже «Симфония до мажор» Баланчина – самое радикальное из того, что есть на сцене Мариинского театра[34], даже это – 1947 год.
ГАЕВСКИЙ: Но никакого ощущения, что этот балет возник полвека назад, нет. Напротив, сегодняшний день в худших его проявлениях – это наивные ретроспективные костюмы, в которые Мариинский театр одел «Симфонию до мажор». Сегодняшнее так называемое мироощущение Мариинский театр всегда умел выражать через не сегодня созданные спектакли. Здесь гораздо быстрее сходило со сцены то, что было поставлено в ХХ веке. Это театр неумирающего балета. Беда нашего театра в целом (в особенности драматического театра) – в постоянных разрывах со своим прошлым, сознательных, естественных, искусственных, каких угодно. В Мариинском театре этого никогда не происходило в силу множества причин: в силу того что всегда существовала школа, в школе преподавали педагоги, принадлежащие предыдущему поколению, поэтому преемственность никогда не исчезала, и репертуар, на котором воспитывались ученики, – это старинный репертуар. Разумеется, молодые танцовщики всегда вносили нечто новое, потому часто возникало ощущение потери стиля, а на самом деле это было естественным развитием. Мариинский театр – живой театр, которому сто пятьдесят лет.
ГЕРШЕНЗОН: Это «сто пятьдесят лет» присутствует постоянно, что иногда вгоняет в депрессию. Недавно я пересмотрел множество фотографий, сделанных на рядовых балетных спектаклях Мариинского театра (они делаются постоянно и представляют собой уникальный архив), на них зафиксированы все: скучающие у кулис статисты с пиками, вечный мученик кордебалет, деловые корифеи и, наконец, премьеры, спазмами лицевых мышц изображающие «великих артистов». У меня осталось весьма странное ощущение от того, что я назвал бы визуальным строем труппы. Первое впечатление: Мариинский балет сегодня – это тяжелый, вязкий и довольно грубый балет, лишенный воздуха (то есть баллона и элевации), оптически ясной траектории прыжка, с форсированной мышечной работой – вообще угнетенный работой. Это театр, который действительно сто пятьдесят лет без перерыва танцует одно и то же и который очень устал. При этом никакой тонкой стилевой игры – совершенно никакого намека на интеллектуализм, а ведь в эти самые сто пятьдесят лет можно умело играть (например, архаичный короткий «русский» аттитюд, заниженный арабеск, chaînésна полупальцах, которые можно было встретить еще у Улановой, и так далее). Конечно, если мыслить позитивно, можно предположить, что сегодняшняя ситуация является повторением той, которую сто лет назад, в конце 80-х годов XIX века, уже переживал этот театр, томясь в ожидании «Спящей красавицы».
ГАЕВСКИЙ: Возможно, хотя не дождетесь вы новой «Спящей красавицы». Всякие исторические параллели относительны и не всегда допустимы, но ситуация в петербургском балете на рубеже 80–90-х годов ХХ века действительно напоминает ту, которая сложилась чуть более ста лет назад, на рубеже 80–90-х годов века XIX. Тогда тоже резко упало напряжение творческой жизни, снизился энергетический потенциал. Законсервировалась школа, был потерян художественный ориентир, и все – критики, балетоманы, очевидцы – стали говорить о скуке, о спячке, иными словами, об очевидном неблагополучии, кризисе, застое. Тогда появление итальянских гастролерш имело историческое значение. Они не только продемонстрировали новый уровень техники – они буквально разбудили балет. Они заставили петербургскую труппу взглянуть на себя со стороны, а ведь провинциальность, в частности в искусстве, заключается прежде всего в неумении смотреть на себя со стороны. Можно сказать (хотя в одном случае речь идет о виртуозах-исполнителях, а в другом – о виртуозе-хореографе), что появление в репертуаре Мариинского театра балетов Баланчина сыграло – или должно сыграть – роль итальянских виртуозок, потому что Баланчин – это не только быстрые темпы и сложнейшая работа ног, это прежде всего подлинно новый жизненный тонус.
ГЕРШЕНЗОН: Замечательно, но тогда нужно открыть перед Баланчиным двери, дать возможность Баланчину обосноваться в этом, между прочим, его родном доме. Пока я не вижу ни особого желания, ни элементарных возможностей для этого. Попытаюсь пояснить. И мое пояснение будет состоять из двух частей.
На протяжении всего ХХ века в Мариинском театре идет непрекращающаяся война между двумя представлениями о балете – как об искусстве аполлоническом и как об искусстве дионисийском.
Отступление 2007 года
Между Аполлоном и Дионисом
Условно говоря, идет война между баланчинским Аполлоном и фокинскими половцами. Сегодня с достаточной уверенностью можно сказать, что «дионисийское» в Мариинском театре празднует победу – половцы победили и в сознании публики (что печально), и в сознании артистов (что тревожно)[35]. Сколько бы Мариинский балет ни кичился своей академичностью, втайне здесь предпочитают театр страстей, театр жирного актерского мазка; здесь азартно прыгают в татарских плясках «Бахчисарайского фонтана», остервенело дерутся в «Ромео» и мечтают о бежаровском «свободном танце». Напротив, жизненный тонус Баланчина идеально формализован (он не прикоснулся к «Весне священной», а в самый экстатический момент вакханалии в «Вальпургиевой ночи» кордебалет Баланчина выполняет каноническую школьную комбинацию: relevé в arabesque – relevé в passé), и потому его Аполлон, вместе с Каллиопой, Полигимнией, Терпсихорой, с профессиональными премудростями пуантного танца, воспринимается здесь как искусство скучное, недаром первая постановка «Аполлона» в 1992 году была дана в Мариинском театре всего четыре раза[36].
Причин этому много, но главная – естественное понижение градуса интеллектуальной атмосферы вокруг театра, начавшееся сразу после революции. Это связано в первую очередь с механическим исчезновением (эмиграция, красный террор, сталинские репрессии) того психокультурного типа столичной публики, который обладал исторически непрерывным навыком потребления искусства (в частности, балета) и который благодаря этому навыку был готов воспринимать и адекватно оценивать те мощные тектонические сдвиги в искусстве, которые начались в 10-х годах XX века. Печальная судьба русского авангарда – следствие не только злой воли Сталина, но и нашей разорванной культурной истории. После революции в Мариинский театр пришла новая публика. И пусть, как вы заметили, в отличие от Москвы эта публика смотрела на сцену с почтением, она обладала все-таки детским художественным сознанием[37]. С этой публикой все пришлось начинать сначала – со сказок и колыбельных песен, с вечного «мама-мыла-раму». Отсюда провал элитарного авангардистского проекта Лопухова: его «Щелкунчик» (как сегодня «Жизель» Матса Эка) мог быть воспринят адекватно только с включением культурной памяти, равно как его «Величие мироздания» требовало интеллектуального и культурного навыка восприятия формы pasclassique. Отсюда и замена этого авангардистского проекта на проект популистский – балет как повествовательное зрелище с танцами. То есть драмбалет.
Идеологи драмбалета были прекрасными социологами. В конце концов новая публика Мариинского театра извергла из своих недр касту новых балетоманов – это были пролетарские аристократы, новая технократическая интеллигенция и красные офицеры[38]. Они аплодировали «своим» «Бахчисарайскому фонтану» и «Ромео», сочиненным для них царскими «спецами» и их учениками. Но особый интерес представляет следующее поколение – публика 1950-х. Частью это были дети довоенного Ленинграда, чудом пережившие блокаду (или чудом вернувшиеся из эвакуации), но большей частью – выходцы из советской провинции, приехавшие заселять и восстанавливать опустевший и полуразрушенный город. Они ехали сюда за работой, светом, знаниями и надеждой. Это были замечательные люди, простодушные и открытые, они очень хотели зажить красивой городской жизнью, гулять по Невскому проспекту, посещать Эрмитаж, Мариинку и даже Филармонию, о которых что-то такое слышали. Они ехали в «город высокой культуры». Я родился и вырос в рядовом советском рабочем городе с древним демидовским сталеплавильным заводом, развалинами взорванного собора, сталинским Дворцом культуры металлургов и великолепной городской музыкальной школой, организованной во время войны чудом спасшимися от холокоста одесскими и киевскими евреями. Я хорошо знаю культурный бэкграунд жителей подобных городов, их явные и тайные желания; все детство я слушал сказочные рассказы своей матери, проучившейся половину 1951 года в Ленинграде на каких-то «курсах», об этом самом «Петергофе» (именно так – она никогда не говорила Петродворец) и «Мариинке», и я буду последним, кто бросит камень в этих людей. Но я не могу не процитировать здесь ядовитого циника и сноба Набокова, который в 1963 году в интервью журналу Playboy сказал следующее: «Просвещенный мещанин не может избавиться от тайного чувства, что книга, чтобы стать великой, должна провозглашать великие идеи. О, я знаю этот тип, ужасно скучный тип!. »[39] Конечно, у Набокова речь идет о других берегах, но это точное описание тех смутных желаний и ожиданий, которые охватили взыскующих «новых культурных», заселивших Ленинград и заполнивших зал Кировского театра в период хрущевской «оттепели». «Просвещенное мещанство» расцвело именно тогда. От довоенного балетного «Ромео» не ждали «идей» – ждали эмоционального потрясения, которое, пусть в границах Кировского театра, компенсировало тотальный страх 1930-х. В оттепель культурные неофиты испытывали катарсис именно от осознания причастности к столичной культуре и столичным «идеям» (либеральным в общественной жизни, танцсимфоническим – в балете), продекларированным скупо, ясно, сурово – «абстрактно». «Идей» ждали, их отыскивали даже там, где их не было[40], ощущение присутствия «идей» заменяло все – отсутствие реального либерализма и отсутствие художественного текста, то есть собственно искусства. Высокопарный танцсимфонизм, этот советский эрзац западного балетного абстрактного экспрессионизма, нашел своего благодарного зрителя – нового горожанина, культурного неофита, «просвещенного мещанина». Потому премьеры танцсимфонизма приветствовались стоя. Когда же пришло время увидеть оригинальный продукт – собственно балеты Баланчина, – выяснилось, что публика к их восприятию совершенно не готова. Здесь требовались другие навыки: навык смотрения-переживания пластических фигур, навык получения удовольствия от осознания того, что ты умеешь видеть и слышать взаимозависимость пластических и музыкальных событий, проще говоря, получаешь удовольствие от созерцания того, как чувства обретают форму (и это при устойчивом советском негативе к формотворчеству и ужасе перед «формализмом»), – то есть навыки переживания эстетического[41]. Выяснилось, что этих навыков нет, и тогда «культурная» публика почувствовала себя глупой и обиделась – но не на себя, а на Аполлона[42]. Вы спросите: кто же тогда устроил триумф баланчинскому New York City Ballet в 1962 году? Отвечу: художественный смысл и значение того, что происходило на сценах Большого и Кировского театров, в Кремлевском дворце съездов и ленинградском ДК Промкооперации, понимала горстка продвинутых эстетов и балетных профессионалов[43]. «Широкая публика» в 1962 году устроила триумф не NYCB и не Баланчину – триумф устроили в первую очередь «загранице», тогда аплодировали всему, что приходило «оттуда».
Признаемся, что в конце XX века в России нет публики – массовой публики, – понимающей язык contemporaryart, язык современного искусства. Это понимание воспитывается десятилетиями, передается по наследству от родителей к детям. Для того чтобы в 1996 году зал Мариинского театра был переполнен на представлении «Аполлона», его впервые должны были увидеть здесь в 1928 году. Но Дягилев показал премьеру «Аполлона» в Париже, а не в Ленинграде[44].
Дополнение 2007 года
ГАЕВСКИЙ: Вы коснулись трагической темы, которая совершенно не допускает обвинительной интонации. Вы обвиняете историю, вы обвиняете идеологию, но посочувствуйте артистам и пожалейте зрителей. Существуя в течение многих десятилетий в пространстве визуального вакуума, в буквальном смысле в визуальной слепоте – это же ситуация Иоланты, окруженной цветами и не знающей, как они выглядят, – артисты Мариинского театра должны были совершенно провалить «Аполлона» (чего все-таки не случилось), а зрители Мариинского театра должны были его освистать (чего тоже никогда не было). Было недоумение, причем взаимное, было некоторое раздражение с обеих сторон. Но совершенно не было никакой скуки – ни на сцене, ни в зрительном зале. И было, насколько я мог наблюдать во время своих редких приездов в Петербург, поначалу скрытое, потом все более явное движение навстречу: артистов – навстречу Баланчину, зрителей – навстречу артистам. И тех и других – навстречу друг другу. Согласен, идеального «Аполлона» я на Мариинской сцене так и не увидел. Точнее сказать, увидел один раз, когда на Фестивале балета «Мариинский» Аполлона танцевал Итан Стифел, бывший солист New York City Ballet, ныне солист ABT, который продемонстрировал очень свободное отношение к тому, что мы называем аполлоническим каноном. И оказалось, что «Аполлон» Баланчина не так аполлоничен, как мы думали.
ГЕРШЕНЗОН: Моделью для Стифела послужил один из любимых танцовщиков Баланчина Жак Д’Амбуаз, Аполлон 1950-х годов, Аполлон с гитарой Элвиса Пресли…
ГАЕВСКИЙ: Вот именно – и эти отсылки Стифела были для нас замечательным открытием, к сожалению, не пошедшим никому на пользу. Моя главная претензия к мариинским исполнителям – слишком ученическое отношение к хореографическому тексту, что означает наличие безусловного пиетета, а вовсе не скуку. Но это частность. В более общем плане нужно сказать вот что. Во-первых, надо задаться вопросом, атрофировались ли навыки восприятия новой художественной визуальности – как и новой музыкальности – навсегда, или они просто заморозились, процесс их обретения замедлился, и требуется время, чтобы у нашего замороченного зрителя открылись глаза на все новое и прекрасное, что принесено современным искусством XX века. Не очень уверенно я бы ответил на этот вопрос утвердительно: регенерация почти отмерших органов восприятия искусства возможна, если только всем нам еще раз очень сильно не дадут по башке, если только нашего зрителя оставят в покое. Во-вторых, я очень не хотел бы, чтобы «Аполлон Мусагет», как и некоторые другие опусы Баланчина, рассматривался и оценивался в критериях массовой культуры: есть ли успех – или нет успеха, есть ли «захват» – или нет «захвата», если вспомнить любимое понятие Власа Дорошевича. «Аполлон» – это, может быть, уникальный случай если не вечного, то на очень долгое время сохраняющего свой статус экспериментального искусства. Обычно экспериментальное искусство довольно быстро (хотя и не сразу) становится чем-то классическим, общепризнанным и общепонятным – и перестает быть экспериментальным. «Аполлон» сразу же, в вечер 12 июня 1928 года, ставший классикой, удивительным образом сохранил свое значение абсолютного эксперимента, чем он и остается спустя восемьдесят лет. Этим он и поражает, и этим многих отталкивает – ввиду двойственного характера своей художественной природы. И, наконец, третье, что я позволю себе сказать и что может показаться не очень изысканным парадоксом: причина некоторого неуспеха «Аполлона» при первой постановке его в Мариинском театре в 1992 году и при возобновлении в 1998-м заключается в том, что он показался недостаточно авангардным – тем самым зрителям и тем самым артистам, которые, как вы считаете, на «Аполлоне» заскучали. Они ждали разрушения всех основ, а увидели возвращение к чему-то академическому, к «позициям», «арабескам» – ко всему академическому вокабуляру.
ГЕРШЕНЗОН: Понимаю. Я сам испытал эффект déjà vu, когда зимой 1986 года по вашему совету отправился в Ленинград – «там можно увидеть Баланчина», про которого читал в вашем «Дивертисменте», но которого ни разу не видел. Я очень напрягался и, выпучив глаза, смотрел на сцену МАЛЕГОТа, боясь пропустить что-то важное. Но меня ждало разочарование: девушки в красных и зеленых пачках («Тема с вариациями») старались в быстром темпе танцевать танцы, сильно напоминающие Кировский театр. То, что это совсем не те танцы, которые танцевались в Кировском театре, я понял гораздо позднее.
ГАЕВСКИЙ: Все верно: в нашем и достаточно распространенном представлении понятие «авангард» равнозначно понятию «разрыв». Что авангард и абсолютная художественная новизна могут существовать в иных, в какой-то мере традиционных формах («Аполлон» – это же классический pasdequatre, основанный на классических движениях, основанный на классической мифологии, никак не опровергаемой, не оспариваемой) – этого мы не знали. Мы вообще понятия не имели о том, что такое неоклассицизм XX века. Мы не знали того, что авангардное искусство, в 1910-х и 1920-х годах рвавшее с прошлым, в 1930-х годах совершило крутой поворот, на новом витке истории вернувшись к художественным истокам…
ГЕРШЕНЗОН: Добавлю, что и «второй авангард» 40–50-х годов, во всяком случае в балетном театре, также разрабатывал классические схемы, восходящие к придворному французскому танцу. Pas de quatre, pas de trois, gaillard, sarabande, bransle – так называются части «Агона», написанного Стравинским в серийной технике и поставленного Баланчиным в абстрактно-экспрессионистской манере, опирающейся на фундамент классического танца…

